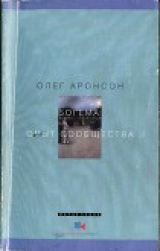
Текст книги "Богема: Опыт сообщества"
Автор книги: Олег Аронсон
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Сам способ существования Мамардашвили в философии был необычен. За свою жизнь он опубликовал не так много статей и всего две небольшие книжечки – «Формы и содержание мышления» и «Классический и неклассический идеалы рациональности». В культуре, где результат деятельности оценивается конечным продуктом, этого, конечно, очень мало. Мамардашвили выбрал иной тип выражения. Он читал лекции. Это были и большие лекционные курсы для студентов, и просто лекции, собиравшие самых разных слушателей. Для лекций, посвященных философии, число слушателей было просто огромным. Эти лекции записывали на магнитофоны, и сегодня, расшифрованные и изданные, именно они составляют основу его теоретического наследия.
Место, которое занимал Мамардашвили, было совершенно особенным. С одной стороны, представитель философии, в Советском Союзе – идеологической дисциплины, институциональная принадлежность к которой требовала очень многих ограничений. Из них членство в коммунистической партии – самое мелкое в том мире «неподлинности» и «лжи», с которым приходилось иметь дело просто, чтобы заниматься тем, чем хочешь профессионально. С другой стороны, трудно вспомнить человека, который бы держался более свободно и уверенно, который бы так откровенно был независим в своем поведении, в своей речи, в выборе сюжетов и тем. В результате, философия Мамардашвили, несмотря на его обостренное внимание к западной феноменологической традиции, приобрела очень своеобразные черты. Возможно, нельзя в полной мере ощутить значение этой философии, не учитывая тот социальный контекст, в котором она рождалась, то почти манихейское столкновение «советской» истины и «советской» лжи в каждом конкретном опыте человеческого существования. Мамардашвили нашел точку максимального напряжения этого конфликта: он говорит о «свободе» и «мышлении», о свободном мышлении, о мышлении, делающем нас свободными, о сознающем себя сознании (рефлексии), находясь в рамках одной из самых жестких идеологий. Он – типичный конспиратор, изобретающий язык – для – сообщества. Создание этого языка имеет свои стадии, свои способы устранения, отсечения идеологических интерпретаций. Всю практику философствования Мамардашвили можно представить как серию редукций, устраняющих последовательно письменные способы выражения, высказывания от «собственного я» (все его основные лекционные курсы выглядят как интерпретации чужих текстов), высказывания от «собственного я» философа (когда «философствующими» оказываются роман Пруста или театральные манифесты Арто)… В конце концов, язык, который остается, и которым он пользуется в своих лекциях, уже почти полностью лишен «профессионального» философского категориального и понятийного аппарата и выглядит почти обыденным. Язык – последнее препятствие на пути к мышлению, последний идеологический инструмент, преодоление которого позволит остаться один на один с «чистой мыслью». Однако эта «чистая мысль» для Мамардашвили не есть абстракция, она всегда имеет чувственное основание, то, что он иногда называет «непроницаемым элементом мысли», когда слов не хватает, когда язык обнаруживает зону своей недостаточности, зону разрыва, где трансляция смысла уже не предполагает понимания сказанного.
Именно потому вовсе не уместен вопрос, понимала ли публика то, что говорил Мераб Мамардашвили. Несомненно только то, что в своем стремлении к объяснению, он достигал этой языковой непереводимости мысли. И тогда любой, и обыватель, и коллега – философ, зачастую оставались наедине с тем, что можно назвать «зрелищем мысли». Это, несомненно, был театр, но не в смысле игры на сцене, то есть некого миметического действа.
Мамардашвили как – то заметил, что в жизни мы всегда что – то изображаем, но то, какие мы есть, можно показать лишь изображением изображения. Его лекции – это и была своего рода «вторичная театрализация», когда взаимная игра «подражания» и «катарсиса» (момента, когда в аффекте исчезает объект подражания, когда mimesis обнаруживает свой языковый предел) указывает нам на возможность внеязыковой общности. В этой взаимной игре «подражание» (театрализация) жизни удерживается только за счет того, что в основе лежит нечто, чему нельзя подражать – мысль и свобода. Это – момент трансценденции, возникающий тогда, когда нечто общее и даже обыденное, имеющее отношение к каждому и принимаемое как самое естественное, вдруг оказывается оторвано от нас и наших способностей действовать, понимать, воспринимать. Так устроен безличный fatum греков или общий Закон иудеев. Эти образы не имеют и не могут иметь никакого изобразительного и языкового эквивалента, но в основании своем имеют некоторое материальное условие – общность. В философии этот момент необщественной общности крайне ослаблен. И сам Мамардашвили почти всегда настаивал на неком стоическом начале ego sum, отказываясь размышлять в терминах общности. Однако сама его практика философствования, сами метафоры, через которые он пытался описать этот момент вспышки мысли, позволяют интерпретировать его подобным способом. Мысль для него не только стремление к ego sum (способ пассивного сопротивления неподлинному), но и зрелище. И эти вещи нельзя разделить. Ибо оставив только ego sum, мы тут же имеем дело с высокомерием мысли, с ее «присвоением», что было всегда чуждо Мамардашвили. Для него мысль не может быть чьей – то собственностью. Это как раз тот «странный» объект, который нельзя извлечь «из себя», его можно и должно повторять, копировать, репродуцировать. Мысль подчиняется экономике дара: ее нельзя украсть, (поскольку, даже будучи сворованной, она не становится твоей собственностью) или присвоить, ее можно только отдавать. Фактически, то, что Мамардашвили называл мышлением и интерпретировал в терминах личного усилия, носит явно выраженный коммуникативный характер. И «зрелище мысли» необходимо для того, чтобы транслировать этот момент свободы, преодолевающий и язык, и понимание.
Мамардашвили часто говорит о мысли в терминах напряжения сил, но это «усилие быть», а вовсе не работа. «Быть» – это не казаться, не изображать, но и не значит быть природой, самим естеством, что в мире мышления невозможно. Мысль для него начинается из некой точки тождества, которая описывается им как картезианское cogito, но интерпретируется особым образом, как точка вызова всему миру. (Характерно, кстати, что при этом он неоднократно вспоминает бальзаковского Ростиньяка, готовящегося покорить, «переиграть» Париж.) Почему для Мамардашвили «мыслить» и «быть» так сильно связаны именно с риторикой усилия, что иногда создается ощущение, что мысль – тяжелейшая работа? При этом он часто прибегает к аналогии мышления и любви, прямо заявляя о том, что мысль имеет под собой именно аффективное основание, причем эта аффективность не внутренняя, а та, которая приходит всегда от другого, извне, порождая ситуацию противостояния миру в свободе. Используя выражение Левинаса, в данном случае можно говорить о «трудной свободе». В чем же трудность? Скорее всего, именно в том, что выше было описано как «вторичная театрализация». Философ (в отличие от актера и ученого) вынужден всегда с собой носить подмостки, ту сцену, на которой должно быть разыграно «зрелище мысли». В случае «советского философа» Мамардашвили это не могли быть случайные приспособления, выбранные им самим (впрочем, вряд ли они когда – либо вообще бывают случайными), а именно те, которые были востребованы интеллигентским сообществом, и которые можно назвать «моральной формой». Эта «моральная форма» всегда скрыта от общества и не имеет отношения к общественной морали. Она аффективна. Она, прежде всего, опыт. Опыт свободы вне бытия, то есть – опыт сообщества.
Заключение
Кто говорит, когда я говорю «мы»?
Ж. – Л. Нанси
Во всех этих окольных и разнонаправленных движениях, мы должны были сохранить «богему» как ускользающую социальную и историческую единицу, которая сохраняется в качестве языкового и смыслового образования. Эффект «богемы» в настоящее время более значим, чем смысл слова «богема», чем конкретное существование какой – либо богемы или какого – либо его представителя.
Можно сказать, что сегодня понятие «богемы» предельно бессодержательно. Это значит, что за ним уже не стоит конкретного референта, а отсылает оно к пространству, где история, социология, семиотика оказываются на пределе своих аналитических возможностей и не в состоянии описать ту чистую избыточность богемы, ее бессмысленность и неуместность, ее сопротивление любому принципу организации. Любые связи и материальные и абстрактные размыкаются в тот момент, когда мы задаемся вопросом о смысле богемы. И это размыкание, по линиям которого мы стремились пройти, приближает нас к иному смыслу сообщества. Богема есть пример такой неустойчивой общности, связи в которой возможны лишь в ситуации разъединенности, когда «мы» не образует общую субстанцию, но, напротив, принципиально множественно, когда его сингулярные элементы (частные существования) открыты друг другу, выставлены навстречу друг другу. Это близость, не социальная. Напротив, все социальные связи здесь отринуты, они не имеют принципиального значения. Богема всегда между, при любом разделении общества на группы, поскольку в ней сконцентрировано сопротивление двум полюсам, которые могут быть выражены в метафорах Империи (стабильность смысла, истории, границ…) и Революции (логическое отрицание, переворот, трансгрессия…). Это два необходимых условия, при которых мы можем зафиксировать богему как функцию неосуществимого желания революций в ситуации Империи. Это – индикатор распада, момент задержки, когда все имперские знаки теряют значения, но революции не происходят, это – момент ожидания, когда привычные связи рушатся и сохраняются только «лишние» и «случайные». Богема дает нам представление о «мы» как о фикции языка, и указывает на иное, аффективное асоциальное «мы», в котором заключена радость общности и неустранимый дар свободы. Именно здесь рождается мысль, всегда неактуальная и несвоевременная, рождается в той своей полноте, которая никогда никем не будет присвоена окончательно.
Приложения
Искусство без произведения искусства
Задача сегодня стоит прежде всего в том, чтобы описать те правила формирования общности, которые имманентно присущи именно современному искусству, а не институциям, его обслуживающим. Это вопрос о том, как функционирует то, что можно назвать «сообществом художников». Очевидно, что оно формируется вокруг деятельности именно в том искусстве, которое опознается как «новое» или современное, а не вокруг любой творческой и художественной активности. Конечно, можно рассматривать период 90‑х с исторической, социологической точки зрения, и такие попытки осмысления последнего десятилетия предпринимаются неоднократно. Однако мне кажется существенным и определяющим именно тот факт, что это какие – то особые типы общности с новыми ценностями, с новой проблематикой, перегруппировкой социальных сил – организуются вокруг некоторого достаточно странного явления, каковым является современное искусство.
Зачастую, когда мы говорим о сообществе художников сегодня, то говорим именно о людях, которые занимаются искусством, и не говорим о самом искусстве, вокруг которого это сообщество построено. Тем не менее определяющим кажется именно вопрос, поставленный следующим образом: что такое современное искусство, и какое сообщество оно формирует? Еще более жесткая формулировка его может звучать так: только обнаружив сообщество, которое сформировано современными художественными практиками, мы сегодня можем ответить на вопрос «что есть современное искусство?». Еще полвека назад ситуация была абсолютно иной.
Условно говоря, сегодня заявление, что произведений современного искусства не существует, уже не звучит шокирующе, поскольку очевидно, что привычное словосочетание «произведение искусства» все более отдаляется от художника, а главной становится особая средовая коммуникация, которая формирует определенные артефакты, называемые нами по – прежнему произведениями. Итак, если мы говорим о произведении современного искусства, то должны отдавать себе отчет в том, что если оно и существует, то не во времени истории искусства, а во времени коммуникации, или, точнее, в пространстве создаваемом им самим аффекта, где обнаруживают себя другие, открытые этому аффекту. Это принципиально меняет ситуацию еще недавнего прошлого, когда в авангарде, минимализме, концептуализме, во многих художественных направлениях – были «крупные» художники – лидеры, «авторы» «собственного» аффекта, не замечавшие, дистанцировавшиеся от другого. Сегодня ситуация такова, что невозможно создавать произведения просто так, в художественной наивности авторства. И не потому, что была какая – то история искусства, а потому, что сегодня знаки чтения произведений сами по себе не имеют никакого смысла. Имеет смысл та коммуникативная среда, благодаря которой эти произведения получают свой статус, присутствуют, продлевая уже не столько историческое существование искусства, сколько его возможность участвовать в неотчужденном бытии, в бытии – с–другими.
И здесь мы не можем не обратиться к феномену сообщества, понимаемого иначе, нежели социальная группа. Потому что всякий разговор вокруг социальной общности, так или иначе, сводится к чтению произведений, формируемых этой группой (если мы говорим о художниках), или о ценностях, которые производят социальные группы в других областях, то есть вокруг знаков производства, знаков, за которыми всегда стоит смысл, разделяемый данной личностью, группой или обществом.
Современное искусство, напротив, только в том случае и обретает ценностную характеристику, когда исключены подобные знаки производства. И в этом видится его возможность сохранения именно как искусства. Оно остается techne, но в каком – то измененном смысле, а не как производство произведения, не как работа по воплощению в нем «внутреннего» (того, что мы считаем предельно своим, собственным, авторским).
Это предполагает, прежде всего, ситуацию не участия сообщества художников в производстве, в работе. Или, говоря словами Жана – Люка Нанси, подобное сообщество должно быть неработающим, désoeuvrée.
Нанси не имеет в виду конкретное сообщество, а размышляет о проблемах общности, возникающей не посредством участия в производстве ценностей или в достижении определенных целей, а об аффективной общности: в любви, в творчестве, в наслаждении, в боли. Такая общность возникает в тех слабых связях, которые не могут быть ни социологией, ни экономикой, ни политикой. Они ускользают от возможности их институционального закрепления, уклоняются от участия в какой бы то ни было работе. В частности (здесь можно сослаться на Батая), примером здесь может быть аффективная общность в смерти, практически вытесненная из современного мира экономикой капитала и политикой войны, и проявляющая себя, например, в терроре, где заново реанимируется иная логика и экономика – жертвоприношение.
Современное искусство, несмотря на всю видимую прикладную, утилитарную сторону процесса, на все стратегии, экономические задачи, сохраняет, хоть и в очень малой мере, аффекты жертвоприношений и смерти. Без этого невозможно его именование как искусства, без этого оно становится только производством. В этом – те нечеткие и практически незаметные места нового, которые только и создают эффект коммуникации, или то, что мы здесь называем сообществом.
Итак, общность организуется не вокруг самих произведений или художественных стратегий, а вокруг этих мест аффективного нового, которое возникает как событие не потому, что оно привнесено одним из авторов, но потому, что люди (и художники в том числе) вовлечены в стратегии экономического и политического производства. И в этой ситуации современное искусство позволяет отстраниться от мира работы, обнаружив аффект не там, где он уже культурно закреплен и легален, а в ином месте, в месте нового, в месте, где Другой обладает полнотой присутствия, а собственное «я» его крайней недостаточностью. Когда это удается, то возникает тот особый коммуникативный образ, вокруг которого и формируется сообщество.
Было бы ошибкой причислять всякого члена творческого союза, живописца – академика или любого человека, берущего в руки кисти, к сообществу художников. Но также ошибочно полагать, что для этого достаточно делать инсталляции или хэппенинги. Дело и не в статусе, и не в стремлении быть современным. Даже куратор, который сегодня может закрепить за тем или иным персонажем статус художника, все – таки не создает ситуацию художественной общности и коммуникации. Куратор – это человек, который прослеживает систему работы машины современного искусства настолько точно, что даже учитывает ее возможный сбой, но он никогда не может его непосредственно предугадать. Этот сбой – не то, что привносится особенно талантливым автором. Это – вынесенный вовне аффект коллективности, который находит для себя носителя в лице отдельного художника. Таким образом мастерство (techne) сегодня не столько умение обращения с материалом, сколько открытость, рецептивность, или – восприимчивость к Другому, несущему в себе аффект общности. Это не мастерство работы и даже не труд созерцания, а почти этическая способность уклоняться от порабощающего действия труда, всегда вступающего в конкуренцию с Другим за право на произведение (на смысл, ценность, статус и т. п.).
Сегодня события происходят не в одном конкретном произведении, а словно между ними. Выставки делаются только для того, чтобы нащупать возможный сбой в социальной машине функционирования искусства, и это, надо признать, удается редко. Но только это, на мой взгляд, сохраняет ситуацию искусства сегодня и удерживает художников в сообществе. Если бы произведения существовали как произведения, в рамках знаков их потребления, чтения – чему нас научило традиционное искусствознание, – то в мире экономики они бы не имели никакого смысла. Продаются сейчас не произведения, а аффекты, или, точнее, некая эфемерная возможность нового аффекта (все известные аффекты, сильные и слабые, освоены, скуплены и тиражируются кинематографом и средствами массовой информации).
Художник сохраняется как художник не в качестве личности, а в качестве участника коллективного производства аффектов. Искусство в этом смысле существует только для художников, только в сообществе художников, тех, кто открыт «несобственному» аффекту. Ибо, когда оно предстает перед зрителем, а тем паче – попадает в музей, оно уже абсолютно продаваемо.
Если художник получает деньги на свое произведение или за его продажу, то он неминуемо оказывается институционализирован. Но сегодня подобная ситуация является необходимым, хотя и очень жестким ограничением деятельности художника. Те связи, которые формируют сообщество, возникают в присутствии социальных связей, однако и ослабленный жест жертвоприношения остается жертвоприношением. Это можно назвать этическим обязательством, «ответственностью художника», что, фактически, является следствием его вписанности в экономику, а не отрицание ее. Революционный критический жест отказа от мира потребления, хотя и выглядит романтически притягательно, но кажется архаичным, поскольку имеет дело все с тем же высокомерным авторским «я», пусть и пребывающим в нищете и непонимании. Как раз все подобные «революции» давно апроприированы капиталом и имеют свою нишу на рынке. Они понятны. Обнаружить привлекающее «непонимание», то есть коммуникацию через разрыв, куда сложнее, поскольку среди жестов вписанности в экономику почти не различим становится другой элемент – коммуникационный жест. Ситуация осложняется тем, что как только он фиксируется, то сразу продается. Произведение перестает иметь значение, так как оно нужно только для того, чтобы на него был выписан банковский чек. Конечно, любовь может быть и при наличии брачного контракта, но очевидно, что в современном мире любовь гораздо слабее контракта. Так и другие коммуникационные жесты (или коммуникативные образы) вполне могут сосуществовать с экономикой (и политикой), но только тогда, когда они уходят из – под ее власти, не вступают на ее территорию (в противостоянии они всегда проигрывают), только тогда их можно считать тем, что задает условия возникновения сообщества.
Можно, например, считать, что особенности ситуации в нашем искусстве – это следствие определенной ситуации в России. Но, на мой взгляд, главное все же в том аффектированном состоянии, формирующем современное сообщество художников, в том, что произведение искусства сегодня отсутствует. (Просто ситуация в России менее стратифицирована, чем на Западе, и потому кажется иной.) Мы продолжаем употреблять слово «искусство», а смысл, к которому оно отсылало столетиями, не просто изменен, но лишен привычного материального носителя. Есть артефакты, но произведения нет, или точнее оно – не есть. Оно перестало обладать онтологическим статусом.
То, что искусство присутствует только номинально, в виде бессмысленных произведений, это и есть достаточное аффективное основание для существования сообщества, коммуницирующего в отсутствии объекта искусства.
Периодически возникают разговоры о «возвращении произведения». И это вполне естественно, что художники и теоретики искусства хотят вернуть онтологический статус произведению искусства, но ведь это же и есть эффект порабощенности его миром труда и капитала. Поскольку быть, иметь смысл, иметь значение, иметь ценность – все это сегодня маркетинговая стратегия. Потому что онтологический статус искусства возвращается всякий раз, когда искусство продается. Но причем здесь художник? Искусство должно чем – то отличаться от товара. Это вполне соответствует кантианской формуле, и я полагаю, что аргументы Канта нисколько не устарели. По крайней мере, следуя его рассуждениям в «Критике способности суждения», мы вовсе не обязаны мыслить искусство онтологически.
Вернуть онтологический статус произведению не так просто. Ведь это значит, что надо наделить сверхценностью то, что «всего лишь» продается. Искусство, единожды поставленное под сомнение (а кризис авторства и утрата произведения – это и есть выражение сомнения), не может так легко вернуться в качестве онтологической структуры. Проблема и философии и искусства в XX веке в том, что онтология постоянно нас обманывает. А с другой стороны, возникают такие вещи, как кино, телевидение, интернет, сегодняшние массовые коммуникации, которые меняют само наше представление о подлинности, о том, что есть, и, как следствие, саму нашу субъективность, оказываясь по своей коммуникативной природе гораздо ближе к современному искусству, чем многие так называемые произведения. Можно утверждать, что если художник сегодня не смотрит телевизор, то у него немного шансов быть в сообществе, быть современным художником. Сколь бы талантлив он ни был. Дело в том, что кино и телевидение – мощные поставщики коммуникативных образов, для восприятия которых требуется не субъективность или талант автора, а способность к десубъективации. Не сублимация в творческом акте, а способность к десублимации, то есть способность вернуть аффект через самые общие, клишированные образы массовой культуры – выходит на первый план. Или, как уже было сказано, открытость аффекту, приходящему извне, из пространства Другого.
В XX веке выяснилось, что искусству не все подвластно, что его территория ограничена. И на этой ограниченной территории оно вынуждено повторяться – потеря подлинности, как выяснилось, не означает потерю искусства, а всего лишь утрату ауры произведения искусства. Сегодня уже можно говорить о том, что утрачивается не только аура, но и само произведение как некоторая форма, в которой искусство опознает себя. Искусство изменило свой статус, и существуют ли основания для того, чтобы этот статус вернуть? Для этого должны произойти какие – то поистине грандиозные катаклизмы. В частности, должен совершиться заново картезианский поворот. Но как это возможно, если мы до сих пор по большому счету картезианцы, а «смерть автора», «утрата подлинности», «кризис произведения» не более чем модные темы? То есть «переоценка ценностей» не произошла, изменения мировоззрения, мышления и восприятия, когда проблема Другого стала, фактически, ключевой для искусства, для политики, для философии, осознаны очень слабо, а потому столь легкий возврат к прежнему положению вещей, как заговорить заново о «ценности произведения» – иллюзия. Это не возврат, а удобство – удобство быть художником всегда, несмотря ни на что.
Необходимо учитывать те перемены, которые внес XX век и, может быть, 90‑е годы в том числе.
Я бы определил их как годы экстатической скуки. Скуки, порождающей аффекты, выходящие за рамки простого существования искусства.
Мы не можем просто брать на веру современное произведение, даже если оно очень похоже на произведение. Необходимо постоянно, в каком – то почти этическом порядке, обращаться к той сфере, где оно не может быть произведением, несмотря на все заявления авторов. И только там, где оно не может стать произведением, оно сохраняет возможность искусства сегодня.
Показательно, например, как после террористического акта 11 сентября западное общество исключает высказывания, ориентированные на другую аффективную ценность. (Особенно в этой связи характерна ситуация со вполне невинной интерпретацией этого события Штокгаузеном, за которую он был подвергнут критике и осуждению со стороны художественной общественности.)
Террористы говорят на другом языке, который является языком общности в смерти. И мы этот язык не можем принять. Художники и террористы для меня в данном случае – люди, имеющие дело с одной и той же категорией общности. Они организуют «близкие» сообщества.
Террор в искусстве (эпатаж, провокация) был одним из самых простых и в чем – то наивных способов указания на социально – экономическую закрепленность художника и зрителя, на абсолютную отделенность общества от сообщества художников. Сообщество художников, однако, тем и характеризуется, что оно замкнуто в своих аффективных связях и абсолютно выключено из общественной жизни, более того, оно каким – то образом ему угрожает, подобно терроризму, но только эта «угроза» крайне слаба.
Художники только в том случае художники, когда они претерпевают становление Другим, когда они находятся подобно влюбленным «в заговоре против государства», как писал Морис Бланшо, в заговоре даже против тех денег, на которые сами существуют. Это своего рода партизаны в мире вещей. На этом во многом зиждется современное искусство.
Возврат к идее произведения, к идее художественной ценности, к форме – это лишь способ быть нормальным, успешным. Но в том – то и парадокс сообщничества в искусстве, что успех приходит вопреки логике. Успех в искусстве в каком – то смысле всегда непросчитываем, и это одно из оснований искусства. Каждое произведение в отдельности бессмысленно, но в серии они обретают смысл. Следуя Ж. – Л. Нанси, можно сказать, что в «способности быть выставленным вовне», открытым аффекту, нет успеха, нет работы, – нет ничего, кроме слабого террора. Серия – это всегда своего рода террор, потому что она организует смысл по иным правилам. Организация смысла по иным правилам – это и есть террор.
Террористический акт – это аффективный единичный жест, который сам по себе не имеет смысла, пока мы не набрали серию террористических жестов, коммуницирующих с нами. Общество сейчас пытается социально закрепить террор как факт современного мира, то есть террорист (Другой) обретает статус, его пытаются ввести в рамки политического пространства, то есть лишить его пугающей инаковости. С художниками же это происходит изо дня в день.
Сегодня убежденный террорист заслуживает к себе пристального внимания и, не побоюсь этого слова, уважения. Потому что сегодня террор превращается из прежних политических и военных игрищ в этическую позицию. Нужно быть верующим в террор, в возможность жертвы, изменяющей мир. Уважение к террористу – это уважение к Другому, с которым приходится иметь очень трудный и нелицеприятный разговор, к высказываниям которого необходимо быть восприимчивым и открытым, несмотря на то, что они невыносимы, несмотря на то, что приходится постоянно считать жертвы.
Конечно, террористы – слишком сильное сравнение, но у сообщества художников есть своя жертвенная связь: существование в искусстве в отсутствие произведения искусства. Это очень трудное существование. Очень хочется, чтобы произведение вернулось. Особенно, когда ищешь успеха. Декларировать же свое безразличие к статусу художника легко лишь в том случае, когда твои произведения имеют успех, реализуются, продаются.
Однако если человек отдает себе отчет в том, что существует связь между его занятием искусством и этикой, то на него накладывает обязательство именно то, что он художник, а не то, что его картина продана. Сама картина или инсталляция сегодня, как мне кажется, не более чем эффект этики художника, коммуникативный эффект его участия в сообществе. А то что картина продана – это уже эффект закрепленной институциональной этики. И смешивать их нельзя.
Всякий художник предлагает изменение этических норм – слабое или сильное. Художники – всегда в социальном смысле этически неудовлетворенные люди, и только это их держит в сообществе.
Сегодня художник проигрывает террористу, террорист отбирает у художника пространство особого языка высказывания. Возможно, именно эти процессы, происходящие в обществе в связи с действиями террористов, заставляют художников избегать искусства и вернуться к произведению. Потому что произведение – зона куда более безопасная, это зона ограниченной ответственности. А искусство – это всегда зона такой ответственности, где тебя все признают безответственным, и только ты готов доказывать свою ответственность.
Сам способ говорить о произведении есть попытка говорить с потребителем на понятном ему языке. Надо всякий раз смотреть, что они, художники, называют произведениями, и анализировать это. Я не уверен, что появившиеся в последнее время декларации того, что художники готовы создавать произведения, означает, что они действительно делают это или будут делать. Художник сегодня в каком – то смысле уже изначально оторван от своего будущего творения.
Произведение определяется, прежде всего, замкнутостью, завершенностью формы. То есть произведение – это некое предъявление формы, предъявление смысла «здесь и сейчас». Современное искусство сегодня существует вне зоны «здесь и сейчас». Иначе куда деть все те усилия по десакрализации этого момента, по указанию на абсолютную иллюзорность и фиктивность связи аффекта и «собственного» переживания «здесь и сейчас». Здесь и сейчас искусство не может себя найти, но оно обнаруживает себя между этими моментами в коммуникативной общности художников.








