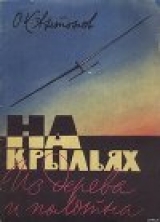
Текст книги "На крыльях из дерева и полотна"
Автор книги: Олег Антонов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Антонов Олег Константинович
НА КРЫЛЬЯХ ИЗ ДЕРЕВА И ПОЛОТНА
1919. От модели к самолету
В годы гражданской войны, когда молодая Республика Советов яростно отбивалась от наседавших на неё со всех сторон империалистов и контрреволюционеров всех мастей, наша авиация состояла почти исключительно из старых самолётов, купленных ещё царским правительством у иностранных фирм. Красные военные лётчики летали на «Фарманах», «Вуазенах», «Ньюпорах», «Моран-Парасолях», «Сопвичах» и других еле живых самолётах, которые они, ежедневно рискуя жизнью не только в боях с врагом, но и просто во время полёта, выразительно называли «гробами».
Действительно, эти самолёты летали просто чудом. Десятки раз битые, наспех залатанные, с ненадёжными двигателями они часто служили причиной аварий и катастроф.
И всё-таки красные лётчики летали на них в разведку, вступали в воздушные бои с противником, обладавшим более совершенной техникой, и одерживали победы благодаря мужеству и мастерству, беззаветной преданности идеям революции.
Я и мои друзья, двенадцати-тринадцатилетние ребята пробирались на аэродром и с замиранием сердца разглядывали удивительные машины. Скоро мы перезнакомились с лётчиками и механиками и собрали рядом на свалке много частей самолётов и их деталей. Мы строили небольшие модели самолётов «собственной конструкции», выпускали даже рукописный журнал.
Лётчики между боевыми вылетами просматривали «журнал», давали советы, поддерживали в нас желание, когда станем взрослыми, работать над укреплением советской авиации, строить, создавать. Как-то раз один из лётчиков эскадрильи отправлялся на стареньком «Фармане-30» в опасный и трудный полёт. Нужно было по заданию командования доставить важное сообщение.
Вместо бензина самолёт был заправлен смесью разных горючих.
Видавший виды мотор «Сальмсон», давно уже не дававший полагавшихся ему 160 лошадиных сил, долго чихал и не заводился. Наконец после нескольких хлопков он затрясся, загудел, самолёт покатился по траве, подпрыгивая на кочках, тяжело оторвался и, медленно набирая высоту, развернулся он юго-запад. Самолёт уходит всё дальше и дальше, а товарищи, сняв пилотки, стоят недвижимо и все смотрят и смотрят ему вслед. Вот он уже еле виден. Только маленькая точка в небе над широкой степью, А товарищи все не расходятся. Выдержит ли самолёт? Не сдаст ли мотор? Долетит ли? Мы возвращаемся домой молча. В нас зреет желание строить надёжные, быстрокрылые самолёты. И мы с друзьями – Колей и Мишей – принимаемся за новую модель.
1924. Большая дверь и маленький просчет
Было лето 1924 года. В небольшом зале Саратовского индустриального техникума мы заканчивали постройку планёра для предстоящих в Крыму Вторых всесоюзных планёрных испытаний. Времени оставалось мало. Испытания были назначены на 1 августа, потом перенесены на 15-е а у нас ещё не всё было готово. Немногочисленная компания молодых ребят развивала бешеные темпы. Спешно обтягивали крылья бязью, налаживали управление, устанавливали колёсное шасси. Отъезд был назначен на 12 августа. С недоделками решили расправиться в дороге. Двенадцатого в 6 часов вечера к воротам подъехала прозаическая, запряженная пегой кобылкой подвода. Поезд отходил в восемь. Мы отчаянно торопились; укладывали инструмент и кое-какие материалы, разбирали для перевозки планёр. Наконец, взявшись вшестером за фюзеляж с центропланом, потащили его к выходу. Из зала в коридор вышли благополучно. Пронесли наше сооружение по коридору, завернули к входным дверям, опрокинули набок и… о ужас! Размах центроплана был больше высоты двери. Бросились отворять вторую створку. С замиранием сердца наклонили фюзеляж, чтобы пройти с центропланом по диагонали, – не идёт! Не хватало каких-нибудь десяти миллиметров. Стыковые узлы и крайние нервюры упирались в поперечины дверной рамы. Стрелка подходила уже к 7 часам. До вокзала езды минут сорок, потом погрузка. Времени оставалось в обрез. Что делать? Собравшись с духом, мы зажмурились и дружно навалились но планёр. Раздался жалобный треск, ми, едва не свалившись с крыльца, зато мы очутились на улице с нашим детищем в руках… В сгустившихся сумерках на нас уставились жёлтые глаза паровоза. Долговязая фигура в кепке, сверкнув белками, молча скинула нам на платформу большой кусок скорузлого, видавшего виды брезента. Провожающие прокричи ли последние напутствия, и мы тронулись, медленно обгоняя протянутые руки друзей, в заветную страну планеристов, в далекий, таинственный Коктебель. Я проснулся ночью от страшного кошмара: мне снилось, что центроплан был ещё на 20 миллиметром длиннее.
1924. В Коктебель!
После тринадцати дней пути через Балашов, Лиски, Харьков, проведённых на голых досках
простой двухосной железнодорожной платформы, почти под беспрерывными дождями, от которых не спасал дырявый-предырявый брезент, накинутый на всё наше хозяйство, мы с Женей Броварским были так же веселы и неугомонны, как и в начале путешествия. Больше того! Мы веселели и наливались энергией с каждым днём, приближавшим нас к заветной цели, к сказочному Коктебелю, где уже в прошлом году состоялись Первые всесоюзные планёрные испытания. Чтобы просохнуть после очередного небесного душа и немного размяться, мы на ходу соскакивали с платформы и бежали по бровке вперегонки с поездом, небыстро ходившим в те первые годы после гражданской войны. В Мелитополе нашу платформу прицепили к эшелону с харьковскими планерами. С восхищением и завистью и не без некоторого смущения за свой хотя и с любовью, но кустарно сделанный «Голубь», рассматривали мы планеры, построенные «по-самолётному». У них была чудесная трёхслойная фанера толщиною в один миллиметр, которую они называли вали «диктом», – мы в Саратове по могли найти тоньше трёх. У них был авиационный лак «эмалит», пахнувший грушевой эссенцией, – наш «Голубь» был обтянут бязью, ничем не пропитанной. У них были настоящие стальные болты.
У них было… Эх, да чего только не было у этих богачей, у этих счастливчиков, пользовавшихся всем, что только может быть на авиационном заводе, счастливчиков, которые могли каждый день видеть самолёты и, может быть, даже украдкой трогать их рукой…
Наконец потянуло запахом гниющих водорослей: мы приближались к Сивашу. Эшелон, неспешно постукивая на стыках и подолгу останавливаясь на каждом полустанке, неотвратимо двигался на юг. Мы, то есть Женя Броварский, планёр и я, уже совсем просохли. С удивлением вглядывались мы в облака, с утра теснившиеся по южной стороне горизонта. Харьковчане считали, что это видимые издалека первые отроги Крымских гор. Нам же, жителям великой Русской равнины, такое предположение казалось совершенно невероятным. Ведь до гор ещё не меньше ста километров! Услужливая мысль подсказывала всё новые и новые соображения, казавшиеся упрямо сопротивлявшемуся сознанию приемлемее простой и очевидной истины: да, это горы, далёкие горы! В сумерках мы подъезжали к Джанкою с чувством робкой боязни, что восхитительное видение растворится, как призрак, в беспощадных лучах утреннего солнца…
Первой мыслью пробуждения, с силой удара внезапно возвращающей к действительности, была: а горы? Где они?
Слева – ослепительный, мерцающий блеск залива. А впереди вот они! Громады волнистых, тонущих в дымке, заслоняющих друг друга хребтов. Синие, серые, сиреневые и палевые в лучах утреннего солнца, застывшие в безмолвной угрозе тёмные зубчатые скалы. Мы стояли, держась за стойки креплений, и смотрели, смотрели и, впитывая эту торжественную неизведанную красоту. Подскакивала на стыках платформа, встряхивая нас от пяток до затылка, постукивали колеса, руин ощущала шершавую кору березовой стойки, плечо – крепкое плечо друга. Степь обдавала волнами полынного зноя, а видение не исчезало.
Так мы и ехали стоя, пока рыжей спиной ближайшей возвышенности не скрылись последние вершины неведомого края.
1924. Вторая жизнь!
Выгрузка! Тихая Феодосия наводнена планеристами. На маленьком железнодорожном дворе теснятся нанятые в окрестных селениях, запряженные серыми волами мажары, прекрасно приспособленные для перевозки кукурузы и сена. Но для планеров… Их борта утыканы по всему периметру длинными заостренными прутьями. Везти на них наши хрупкие аппараты – всё равно, что нести барабан на вилах! Грузимся последними на последнюю мажару, грузимся и четире этажа, создав невероятное сооружение из кольев, верёвок, частей планёра и досок. Наша «Эйфелева башня», угрожающе покачиваясь на ухабах, медленно трогается в путь. Мы виснем на верёвках, привязанных к самой высокой точке нашего сооружения, и разбегаемся в стороны, прилагая отчаянные усилия, чтобы удержать его от опрокидывания.
Лагерь планеристов разбит на пологом холме Кара-Оба, близ Старого Крыма.
Только те планеры, которые пройдут здесь предварительные испытания, будут удостоены техкомом великой чести – летать. Не просто планировать со склона в долину, а парить над Узун-Сыртом, парить минутами, быть может, и часами… Скорее, скорее! Планёр имеет жалкий вид. Простой жёлтый картон, придававший форму передней кромке крыльев, в дороге под дождями совершенно размок и обвис. Быстро снимаю обтяжку с крыльев и, кстати, переделываю носки профиля крыла НЕЖ, придавая им большую кривизну; расчерчиваю совмещённый плаз носков нервюр; перевожу контуры, накалывая шилом на фанеру; вырезаю и приклеиваю к полкам нервюр новые носки и обшиваю переднюю кромку крыла миллиметровой фанерой, выпрошенной у москвичей. Мой помощник Женя Броварский придаёт мне бодрости, ахая и поражаясь энергии и работоспособности нашей команды.
Наконец «Голубь» начинает походить на планёр. Но управление!.. Оно сделано из деталей и материалов, не внушающих большого доверия. Ручка – из дубового бруска О дюралевыми накладками. Вал управления – из дюймовой водопроводной трубы… В краткую минуту между двумя приступами бешеной работы, с варёным вкрутую яйцом в кармане, ломтем ячменного хлеба в одной руке и кистью винограда в другой, я иду по лагерю, жуя на ходу и осматривая другие планеры. Их, кроме нашего, ещё 47! Тут и «Москвич» Лучинского и Чесалова, планёр лёгкой, изящной конструкции, и солидный КПИИР (Киевского политехнического института), и необыкновенная бесхвостая «Парабола» Черановского, и «Одна ночь» о трёхгранным фюзеляжем. А вот в стороне от лагеря в неглубокой балке остатки «Комсомольца». Несмотря на категорическое запрещение техкома, лётчик Клементьев нашёл несколько сорвиголов, которые не то чтобы запустили, а скорее столкнули с обрывистого южного склона построенный им лёгкий учебный планёр в бездну, навстречу сильному, порывистому ветру. Через несколько минут хрупкое сооружение, не выдержал перегрузки, сложив крылья, рухнуло вниз, навсегда похоронив под обломками своего создателя и пилота…
Скручены, согнуты, разбиты легкие полупрозрачные крылья. Под ними клубок расчалок, труб и сосновых планок, ещё недавно составляющих скелет умного, тонкого, созданного человеком сооружения. Сиротливо лежит в стороне почти целое оперение. Здесь же и управление, силой удара почти вырванное из кабины планёра. Машинально пробую вытащить его из кучи обломков. Тяну сильнее. Свистнули нечаянно освобождённая и тут же свившаяся в кольцо тонкая стальная проволока. Да ведь это находка!
Я побежал за ключом и плоскогубцами, и через несколько минут управление было у меня в руках. К вечеру оно с небольшими переделками было установлено на «Голубе». А спустя два дня наш планёр, получив разрешение техкома, сделал под управлением лётчика Зернова несколько крошечных прыжков на пологих склонах Кара-Оба.
Так началась вторая жизнь управления погибшего «Комсомольца».
1924. Горы и море
Женя Броварский, во всём опережавший меня, когда речь не шла о работе, уже успел исследовать все окрестности и давно звал меня сбегать «хоть разок» в Коктебель, к морю.
Как хорошо разогнуть спину после дьявольского трёхнедельного труда!
Мы вышли на край обрыва, на противоположном склоне которого рос мелкий низкий кустарник. Под этим кустарником я с удивлением увидел коровок величиной не больше муравья. Овраг был горным ущельем, кустарник – большими деревьями.
Взгляд, привыкший скользить по бесконечной степной равнине или тонуть в сумеречной чащобе близкого леса, терялся в прозрачной перспективе огромных наклонных, вздыбленных плоскостей, курчавых от карабкающихся по каменистым склонам кустов и деревьев. Пространство властно врывалось в меня своим третьим, самым впечетляющим измерением. Непостижимо огромные массы камня перекликались тревожно звучащим эхом, подтачивая чувство реальности. Уже казалось странным, что по ногам привычно хлестали стебли сухих трав, что простые куски известняка с лёгким звоном вывёртывались из-под отполированных ковылём подошв и, шурша, скатывались по крутобокому, пышущему жаром склону. Ноги всё быстрее и быстрее несли нас навстречу новым впечатлениям. Всё казалось возможным. Вот последняя седловина. Ещё несколько десятков шагов – и мы, наконец, с бьющимися сердцами достигаем вершины Коклюка. Перед нами, обрамлённая двумя стремительными взмахами горных цепей, встала на цоколе из белой пены синяя стена моря. На ней, рассечённой надвое золотой тропой солнца, медленно двигались и быстро исчезали корабли. Мы замерли…
1927. Первое знакомство с пограничным слоем
Должен ли очень лёгкий учебный планёр с нагрузкой всего 8,5 килограмма на квадратный метр взлетать, если шесть молодых, здоровых саратовских ребят тянут его на верёвке под горку, против ветра силой 5–6 метров в секунду? Разумеется, должен! Но планёр с солидным названием ОКА-П не взлетал… Подъёмная сила У крыла выражается известной каждому школьнику формулой:
Y=Cy x S x R x V2/2
Где Су – коэффициент подъёмной силы крыла, зависящий от его профиля и угла атаки; S – площадь крыла (у нас – около 19,8 м2);
р – массовая плотность воздуха; V – скорость полёта. В середине жаркого лета при температуре у земли 30 градусов на «Жареном Бугре» под Саратовом на высоте около 180 метров над уровнем моря, где мы испытывали планёр, плотность воздуха равнялись примерно 0,115 кг с2/м4. Скорость планёра относительно воздуха, если сложить скорость ветра – метров семь в секунду – со скоростью бега ребят, запускавших планёр, – уж никак не меньше 6 метров в секунду, – равнялась по крайней мере 13 метрам в секунду.
Во время разбега я полностью брал ручку на себя, прижимая хвост к земле, отчего угол атаки планёра доходил до предельного, при котором коэффициент подъёмной силы должен был дойти по крайней мере до 1,2–1,3. Подставим эти величины в формулу и получим: У = 1,20 X 19,8 X 0,115 X 132 /2=230 кг. 230 кг – это значительно больше, чем весил планёр (102 килограмма) и пилот в трусах и тапочках (64 килограмма), то есть вместе 166 килограммов. Но он не взлетал! Это противоречило даже тому маленькому опыту, который был у меня, видевшего полёты на Вторых всесоюзных планёрных испытаниях. Мы выждали ещё более сильного северо-западного ветра. Под его ударами ковыль ходил волнами и кузнечики пулями пролетали мимо наших носов.
Ещё одна попытка. Ребята бегут так, как будто от этого зависит спасение их жизни. Сверкают подошвы, до блеска натёртые сухой травой. Планёр быстро катится под уклон на своих деревянных колёсах, сделанных из кругов венских стульев. Я стремлюсь облегчить разбег, давая ручку от себя, потом резко беру полностью на себя. Планёр вяло отделяется от земли и, пропланировав десяток метров, тяжело плюхается, со скрипом и стуком прыгая по щербатому склону «Жареного Бугра». Обессиленные, мы возвращаемся к палатке. Ни разговоров, ни смеха. Просто недоумение. Мне, как конструктору планёра, и досадно, и стыдно. Но ведь планёр построен правильно! Он должен летать! В чём же дело?
Уже осень, последние дни каникул, пора возвращаться, чтобы успеть к началу занятий в Политехнический. Уезжаю в Ленинград с тягостным ощущением не состоявшегося по моей вине события. Весной, ещё до моего возвращения, ребята вновь вытащили планёр на «Жареный Бугор». Всё было так, как прежде. Однако на этот раз редкий мадаполамчик, которым был обтянут планёр, они покрыли раствором крахмала, не обращая внимания на то, что в прошлом году мы бросили эту затею, так как полотно от этого провисало между нервюрами, будто кожа на рёбрах худой лошади. Памятуя, что планёр взлетает плохо, выждали ветра покрепче и, посадив на пилотское место Гришу Васильева, пустились во всю прыть с концами верёвок в руках. Каково же было их удивление, когда с первых метров планёр легко отделился от земли, набрал два-три десятка метров высоты и пошёл, и пошёл планировать в долину! Пролетев 150–200 метров, Гриша благополучно сел в низине. С восторженными криками вся ватага бросилась вниз за планёром. Гришу качали, как героя. Стали летать по очереди. Сделали шестнадцать полётов. На семнадцатом четырнадцатилетний пионер Боря Урлапов подскользнул на вираже и, ткнув крылом в землю, поломал планёр, отделавшись лёгким испугом да несколькими ссадинами.
Замечательно то, что молодые ребята, никогда до этого ни на чём не летавшие, летали без всякого инструктажа, делали развороты вдоль склона, пытались даже парить. Учиться-то было не у кого! Но почему же планёр, не желавший раньше даже оторваться от земли, теперь стал таким летучим? Клейстер закупорил поры лёгкой, довольно редкой ткани, которой был обтянут планёр. До этого воздух проходил сквозь поры нижней и верхней обтяжек, как сквозь решето, и быстро утолщал пограничный слой воздуха, ухудшая работу крыла. В этих условиях нельзя было получить достаточной подъёмной силы.
Вместо лабораторной кривой Су по L, полученной при продувке деревянной модели крыла, наше крыло, надо думать, характеризовалось кривой, примерно изображённой пунктиром на графике. Поэтому при угле атаки даже в 10 градусов коэффициент подъёмной силы был не 1>2–1,3, а где-то около 0,6–0,5. Всё было: и р, и S, и V 2, только вот Су не было!
Так из-за неуважения к пограничному слою я лишился удовольствия первым испытать свой планёр.
1929. У кого не кружится голова
Когда Валерий Павлович Чкалов был вынужден из-за своих чересчур смелых полётов перейти на работу в ленинградский Осоавиахим, его имя уже было легендарным. Мы, молодые планеристы, лётчики и «конструкторы», с огромным уважением, интересом и даже трепетом взирали на мощную фигуру Валерия Павловича. Из уст в уста передавались рассказы об его невероятной смелости, великолепном летном мастерстве, полётах под невскими мостами, железных нервах, мужестве и отваге. Как-то раз, зайдя в самый большой и высокий зал аэроклуба-музея, я застал оживлённую группу друзей-планеристов. Тут были Петров и Халутин, братья Лосевы, Флоря и Паша Цыбин, среди которых находился и Валерий Павлович. Он весело и непринуждённо разговаривал с молодёжью. Речь шла том, что у лётчиков должны быть очень хорошо тренированные органы равновесия.
– Вот пожалуйста, – сказал Валерий Павлович, – хотите себя проверить? Станьте под этой люстрой, поднимите голову, смотрите на неё не отрываясь и сделайте десять оборотов вокруг себя, а потом выйдите в дверь. Только и всего! Мы понимали, что эта задача не такая уж простая, но нам, молодым, здоровым, уверенным в себе ребятам, казалось, что это сделать всё-таки можно.
Начали пробовать. Отличный планерист Клебанов крутился-крутился, сделал все десять оборотов, потом его понесло в сторону, он пошёл как-то боком, боком, держась за стенку, и в конце концом в дверь не попал. Некоторые другие даже не могли сделать десять оборотов. Я после десяти оборотов выписал такую фигуру, что самому стало смешно. После всех этих «экспериментов» Валерий Павлович стал посреди зала, поднял голову, взглянул на люстру, сделал двад-цать оборотов, а затем твёрдым шагом направился к двери, взялся за ручку и вышел из зала. Мы были потрясены… С тех пор я не раз видел, как под люстрой в пустом зале украдкой крутился очередной кандидат в Чкаловы.
Разумеется, Валерий Павлович стал кумиром нашей молодёжи. Когда он появлялся на планёрной станции в Дудергофе, все собирались вокруг него, без конца слушая его рассказы, расспрашивали его о полётах, об авиации, а он усаживался, огромный, могучий, на наши лёгенькие деревянные сооружения и показывал нам, как надо летать. Наверно, так выглядел бы Илья Муромец верхом на жеребёнке. Наши лёгкие планеры в его руках казались игрушками и жалобно поскрипывали под его тяжестью. Наши планеристки Наташа Петропавлова и Маша Недоноскова смотрели на него прозрачными глазами. Главной чертой Валерия Павловича была неподдельная скромность и замечательное чувство товарищества. Опытный, прославленный лётчик среди нашей молодёжи был совсем «своим». Он также вместе с нами таскал планеры на гору, разбирал и собирал их, а иногда смеха ради поднимал наш учебный Планёр одной рукой. Я помню фотографию, где среди целой ватаги мальчишек идёт улыбающийся Валерий Павлович и несет на плече лёгонький ОКА– III, а ребята только поддерживают планёр за крылья. Таким он и запомнился нам навсегда.








