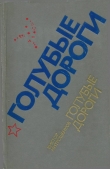Текст книги "Ради тебя, Ленинград! (Из летописи «Дороги жизни»)"
Автор книги: Олег Чечин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Хлеб с «Дороги жизни»
(По воспоминаниям бригадира пекарей ленинградского хлебозавода № 22 А. Соловьевой)
С 20 ноября 1941 года рабочие будут получать по карточкам 250 граммов хлеба, служащие, иждивенцы и дети – 125 граммов.
Из решения Военного Совета Ленфронта
23 ноября 1941 года.
Непривычна тишина, когда перед бомбежкой в цехе отключат ток. Шум месильных машин и дозаторов сырья стихает. В каждый пролет проникают голоса людей. Сквозь забитые фанерой окна слышен гул самолетов и взрывы.
– Стоять у рабочих мест! – кричит начальник цеха.
Собственно, отойти нам некуда. Три-четыре шага в темноте – и упала с верхних мостков или наткнулась на печь-«буржуйку» с кипятком для шрот [1]1
Шроты – соевый жмых
[Закрыть].
В темноте всегда какой-то подвох. Вот и приходится кричать начальнику цеха, чтобы новички, растерявшись, не побежали в убежище.
Вспомнилось, как в первую бомбежку выбило стекла. Они со звоном разлетелись по цеху. Испугалась я, бросилась в бродильную камеру, где тесто подходит.
Вызвал меня директор Павел Сидорович Зозуля и говорит: «Что же ты, бригадир, струсила? Твои рабочие остались на местах, а ты?»
Стою, плачу, а объяснить не могу. Страшно было с непривычки.
Новеньких в бригаде первые дни держу при себе, пока не привыкнут к грохоту за окном. В основном это совсем молодые девчонки. Их присылают на хлебозавод истощенными – в чем душа держится. А паек у нас те же 125 граммов.
Правда, потеплее работать, да иной раз перепадет заскорузлый кусок теста, когда зачищаешь дежу[2]2
Дежа – емкость для замеса теста
[Закрыть] или месильную машину. Конечно, что уж тут съестного! Но вселяется в человека надежда, что у хлеба он не умрет.
Бывает, новеньких сразу кладут в дистрофийный барак. Лишь когда окрепнут, ставят на рабочее место. А сейчас, когда три дня нет муки (с 20 ноября хлебозавод не выпек ни одной буханки), лежать в дистрофийном бараке – почти верная смерть.
Но опасен и конвейер с заготовками теста. При виде его некоторые не выдерживают – падают в обморок. Трудно голодному удержаться, чтобы не броситься к тесту и не набить им рот.
Время от времени спрашиваешь у дежурного по бараку: «Как там они – держатся?» Словно свою вину воспринимаешь вынужденный простой завода. Не только дистрофийный барак – весь Ленинград ждет хлеба! Подумаешь об этом, и становится невыносима бомбежка. Лучше бы артобстрел. Тогда не отключают ток, в цехе светло и хорошо видно каждого. И каждый занят своим делом.
Ждешь, убеждая себя надеждой: еще час-другой, и привезут муку! Поэтому не выключаем печь. Часть людей следит за закваской. Для ее роста необходимо тепло и чистая, без примесей мука. Такой муки сейчас нет в Ленинграде.
Новенькие обмазывают подики[3]3
Подик – форма для выпечки хлеба
[Закрыть] «бадаевским кофе». Так мы зовем маслянистую землю, которую собрали вскоре после пожара возле Бадаевских складов. Земля там пропиталась расплавленным жиром и сахаром.
Первое время «бадаевский кофе» возили на саночках домой. Заваривали кипятком, ждали, когда осядет земля, и пили горячую, подслащенную, с жиром жидкость. Сейчас «кофе» поступает только на хлебозавод.
Если наполнить тестом подик, то верных 10 пайков испечешь. Три таких подика – и дистрофийный барак продержится еще сутки. 30 пайков – это 30 жизней, гаснущих во дворе хлебозавода.
С тех пор как началась блокада, к нам поступает только ржаная мука. Она дает больше припеку. Когда же привезут муку?
Перед войной я слышала историю выпечки бородинского хлеба. Рецепт его изготовления придумали в женском монастыре, построенном недалеко от места Бородинской битвы. Строился монастырь княгиней Тучковой в память о муже, погибшем в сражении с французами. Упорная была княгиня. Много сил положила, чтобы добиться у царя разрешения на постройку. Строила монастырь на свои средства. Но не о ней пошла в народе слава, а о хлебе, который стали печь в монастыре. Хлеб ржаной, да такой, что любой пшеничный каравай отдашь за него.
Довелось мне видеть рожь под Бородином – густую, дружную, прокаленную солнцем. Колосья колыхались до самой засиненной кромки леса на горизонте. И шел от них чудесный, добрый, всесильный запах хлеба. Радостно было идти по тропинке, проложенной среди сплошного золотого моря. Лишь кое-где из колосьев озорно выглядывали васильки.
А над рожью, в самой глуби неба, круг за кругом ходил коршун, Распахнул хищные крылья и парил, высматривая добычу. И вдруг стал падать прямо на меня.
На тропинку из ржаного моря выскочил зайчонок – серый комок с солнечными крапинками. Удивленно вздыбил уши у самых моих ног и совсем не замечал опасности сверху.
Не рассчитал коршун, что зайца мог выручить человек. Тяжело было хищнику расстаться с верной добычей. Коршун нырнул вниз передо мной и пошел над самыми колосьями, обсыпая спелое зерно крылом. А заяц, очнувшись, помчался во весь дух по тропинке впереди меня…
Размечталась я о бородинском хлебе, а не упомню его рецепт. В памяти держится лишь тот, что пекли мы в последний раз три дня назад:
1. Целлюлоза – 25 %.
2. Шроты – 20 %.
3. Мука ячневая – 5 %.
4. Солод – 10 %.
5. Жмых (при наличии заменить целлюлозу).
6. Отруби (при наличии заменить шроты).
7. И только 40 % – ржаная мука!..
…Пора проверять закваску. Медлю, не решаясь подмешать в нее последний килограмм чистой ржаной муки.
Начальник смены Александра Наумова направляется ко мне и на полпути поворачивает обратно. Наконец, решившись, подходит.
– Что себя обманываешь? – говорит. – Иди, Шура, ставь тесто!
Поднимаюсь по лестнице и все жду – сейчас закричат: «Мука! Мука!» Но никто не кричит.
Полупустая самотаска ссыпает остатки муки. Механическая рука месильной машины поднимается, скребя о дежу. Замешивает тесто на самом донышке…
Скоро конец смены. Неужели и сегодня выпечки не будет? Наша бригада наверняка уже ее не проведет!

Спускаюсь вниз, чтобы отчитаться за смену, и вижу: цех пуст! С улицы доносятся крики. У выхода плачет Александра Наумова. А во дворе плотное кольцо людей окружило молодого парня-шофера. Чумазое, осунувшееся лицо поворачивается в замешательстве то в одну, то в другую сторону.
– Кончайте реветь! – растерянно просит. – Еще придут машины!
Привезли! Все-таки привезли!
Протискиваюсь к нему и хочу коснуться его руки.
– Да живой я! – отдергивает руку. – Что вы все трогаете? Лучше скажите, где машину разгружать?
Надо спешить с разгрузкой. Когда несла первый мешок, думала, упаду – сил никаких нет. И тут вспомнила я человека, который неделю назад упал перед проходной хлебозавода. В руках зажаты продуктовые карточки. Его отнесли в дистрофийный барак, согрели грелкой. Напоили «бадаевским кофе». Дали ложку мучной баланды. Открыл он глаза и понял – не дома он, а в чужом бараке. Встал на ноги и не может сдержать слез: «Карточки у меня на всех! Дома жена и двое ребят!..»
Как тут помочь? Одна надежда была, что хватит у него сил дойти. Не за себя ведь беспокоился – за других!
Встретила я этого человека через два дня на заготовке дров для хлебозавода. Все-таки отоварил он свои карточки, спас жену и детей…
Поэтому и я не имею права упасть! Ведь в этом мешке не просто мука. В этом мешке чьи-то жизни!
Так, убеждая себя, дошла до склада. Ссыпала муку в самотаску. Стою, не в силах перевести дыхание, и не узнаю заводской склад. Последние три дня он, словно вымерший дом, пугал мерзлой пустотой.
Тяжело ступали женщины с мешками на спине. Присыпанные мукой лица улыбались, а по щекам текли слезы.
После разгрузки все три смены пекарей собрались в цехе. Каждому хотелось своими глазами увидеть выпечку хлеба.
Наконец-то пущена первая месильная машина. Железная рука начала мять липкий слой теста. И вдруг у поставленной для замеса второй дежи смолк дозатор. Из него перестала поступать вода в муку.
Вода, где вода?
Ведра, бочки, банки – все поставили мы под краны. Но набрали лишь капли. Стало ясно: замерз водопровод. Как же печь хлеб?
Кто-то из девчат предложил брать воду из Невы. Тут же снарядили сани и лошадей.
Первую бочку привезли во двор белесой от наледи. Черпали из нее ведрами, стараясь не расплескать. Невольно подумалось: вода-то у нас тоже ладожская, как и мука. Нева ведь течет из Ладоги…
Теплая закваска слегка парит от приливаемой ледяной воды. При брожении важно, чтобы температура теста не падала ниже плюс 26 градусов. Иначе хлеб будет не объемный и плохо пропечется. Сейчас не только температура не выдерживалась – не хватало времени, чтобы выбродило тесто. Прямо с замеса поступало оно в делитель, а затем раскладывалось в подики.
К разгрузочному окну печи подошел начальник цеха Сергей Васильевич Уткин. Бережно провел по тесту рукой. Все-таки будет хлеб Ленинграду!
Через полчаса печь уже дышала влажным живородящим жаром. Мне уже чудился запах ржаного хлеба. К разгрузочному окну подошли, покачиваясь, первые подики в люльках. И тут завыла сирена. Ночная бомбежка!..
В цехе на выпечке осталось лишь несколько человек. Остальные заняли посты на крышах и чердаке.
От сброшенных осветительных бомб Ленинград высвечивался до рези в глазах зелено-белыми кругами. Вижу, как самолеты разворачиваются нас бомбить. Бомбы рвутся за воротами хлебозавода. Выйдя из пике, самолеты низко проносятся над городом. Их трассирующие пули раскаленными гвоздями входят в крышу главного корпуса, где выпекался хлеб.
Первые минуты стояла на крыше, как приговоренная к расстрелу. Голову невольно вбирала в плечи. Но стоило зажигалке упасть рядом, тут же побежала к ней, не замечая воя и обледенелой покатости крыши. Бежала с единственной мыслью – спасти выпеченный хлеб.
От зажигалки катились по крыше огненные брызги. Они плавили лед и железо, вгорали в деревянное перекрытие. Одно спасение – сбросить ее на землю. Там зажигалку засыплют песком или утопят в бочке с водой.
В эту ночь у меня даже оплавились щипцы. Если бы я сама не была на крыше, то вряд ли бы поверила, что столько зажигалок можно сбросить сразу.
После бомбежки на крыше хлебозавода остались дежурить две или три девушки. Они должны были следить, не появится ли где-нибудь тлеющий уголь. Остальные вернулись в цех к печи.
Первое, что бросилось в глаза, – шеренги подиков. Они аккуратно вышагивали друг за другом из разгрузочного окна. Пекари, выхватывая подики рукавицами, ловко вынимали буханки и укладывали их на лотки.
С трепетом беру горячую буханку. Не чувствую, что она обжигает ладони. Вот они, десять блокадных пайков! Десять человеческих жизней!..

Запасной вариант
(По воспоминаниям командира взвода 88-го отдельного мостостроительного батальона И. И. Смирнова)
За выполнение срочного задания командира батальона в исключительно сжатые сроки объявить благодарность младшему лейтенанту Смирнову И. И. Приказ зачитать во всех подразделениях.
Приказ № 41 от 23 декабря 1941 года по 88-му отдельному мостостроительному батальону
21 декабря, еще до рассвета, подул сильный южный ветер. Он отогнал воду и обломившиеся ледяные поля на север от Шлиссельбургской губы. Горизонт воды и льда на дороге резко понизился. У берегов и отмелей лед опустился на дно, на озере взъерошился. Появились новые трещины и торосы.
Вдобавок южный ветер пригнал снеговые тучи. На трассе с каждым часом росли заносы. К полудню разбушевалась пурга, и транспорт остановился на ряде участков.
С утра со своим взводом я работал на расчистке дороги. Этим занимались в тот день 750 человек. Лед расчищался лопатами, он еще не выдерживал тяжелые тракторные снегоочистители. Солдаты молча, шаг за шагом отвоевывали трассу у непогоды. Машины шли по узкой полосе льда, среди высоких снежных валов.
На 9-м километре пургой занесло воронки от снарядов и бомб. В них провалилось несколько машин. Были аварии и на других участках трассы. Люди работали на пределе, но не давали стихии прервать движение грузов в Ленинград. Схватка с ней не прекращалась даже тогда, когда с берега доставили обед. Солдаты по очереди наспех глотали чуть теплую похлебку и кашу и снова брались за лопаты и фанерные щиты. Это был, пожалуй, самый трудный день с начала эксплуатации ледовой дороги.
Впрочем, в последних числах ноября 1941 года нам также пришлось выдержать тяжелое испытание. Температура воздуха вдруг поднялась выше нуля. Теплый западный ветер взломал лед. На Ладоге образовались разводья, в некоторых местах они были до двух километров. На значительном протяжении дорога покрылась водой. Северный обходной участок был полностью разрушен. Почти на двое суток приостановилось движение машин. Хлеб из Кобоны возили только на лошадях.
Но вскоре работа на трассе пошла увереннее. Движение больше не прерывалось. Когда «уставал» лед, транспорт пускали на другую, заранее подготовленную нитку. За первый месяц Дорогу перемещали 4 раза, а в районе 9-го километра – 6 раз. Жизнь замирала ненадолго, лишь во время воздушных налетов и артиллерийских обстрелов из Шлиссельбурга.
Вскоре ветер ослаб. Стало ясно, что стихия отступила. На смену нашему взводу пришли солдаты других дорожных частей, а мы отправились отдыхать на берег. Но отдыхать в этот вечер мне не пришлось.
Едва я расположился в землянке, вырытой в леске, недалеко от Осиновецкого маяка, меня вызвал к себе командир батальона Алексей Петрович Бриков.
Наш комбат до войны возглавлял ленинградскую контору Союздорпроект. Этот высокий худощавый человек с крупными чертами лица был малоразговорчив и строг с подчиненными. Его вызов означал какое-нибудь новое важное поручение.
Я не ошибся. Алексей Петрович, справившись о самочувствии, тут же изложил суть дела:
– Есть сведения, что гитлеровцы намерены вывести из строя ледовую дорогу между Коккоревом и Кобоной. Перед тобой ставится задача определить возможность прокладки новой трассы, значительно севернее существующей. Подготовь двух солдат и завтра утром отправляйся на разведку. Прежде чем строить здесь запасную дорогу, нужно знать состояние льда. Вот направление на карте: Осиновец – маяк Кареджи – село Черное. 23 декабря в двенадцать ноль-ноль твое донесение должно быть готово!
В землянке комбата, как и у меня, горела коптилка из сплющенной артиллерийской гильзы. Вместо фитиля в керосин была опущена солдатская портянка. Я с грустью подумал, что снова не успею написать письмо в Саратов. Там у меня жили отец и мать. Туда же должна была эвакуироваться из Смоленска и жена с двумя детьми. 26 июля она родила мне второго сына – Владимира. А через два дня села с ним и полуторагодовалым Юрой в эшелон, уходивший на восток…
Подавив тревогу за их судьбу, я пошел к командиру роты Б. Г. Кастюрину, подбирать себе спутников. Мы вместе перебрали весь рядовой состав, включая недавнее пополнение. Но так и не нашли никого, кто мог бы за сутки пройти на лыжах от Осиновца до села Черное и обратно. Путь в оба конца составлял около 70 километров.
Почти все солдаты-дорожники имели ограничения по службе или попали на Ладогу прямо из госпиталя. Среди «старичков» было немало отличных плотников, настоящих мастеров своего дела. Но не оказалось ни одного охотника или спортсмена, умевшего хорошо ходить на лыжах. К тому же все мы были очень истощены. Наш суточный паек состоял из 150 граммов хлеба и 75 граммов сухарей.
Мне вспомнилось, как трудно было сформировать состав разведки, которая 17 ноября отправлялась в первый поход на восточный берег. Фельдшер 2-й роты Александра Сергеевна Жукова – маленькая, застенчиво улыбающаяся женщина – вначале вообще заявила, что все солдаты, отобранные из ее роты для разведки, только ограниченно годны. Кроме того, некоторые из них еще не оправились после ранений, а другие страдают от разных болезней. Словом, по мнению фельдшера, в роте нет ни одного человека, которого можно было бы послать на такое дело…
– Милая Александра Сергеевна! – с улыбкой обратился к ней тогда командир роты Б. Г. Кастюрин. – Я знаю, у вас доброе сердце! Но знаю и другое: если бы я всегда следовал вашим советам, я не выполнил бы ни одного приказа и был бы отдан под суд военного трибунала…
Но на сей раз сам Борис Григорьевич Кастюрин вынужден был мне сказать:
– Здоровых людей у меня нет! А дать вам с собой в разведку таких, которые будут вам только помехой, считаю нецелесообразным. Просите у комбата разрешения идти одному!
Я был моложе многих своих солдат. На лыжах ходил довольно прилично, до войны участвовал в соревнованиях. Поэтому я рассчитывал, что сумею за сутки пройти расстояние в 70 километров. Эти соображения я высказал комбату А. П. Брикову. Он встревожился:
– На разведку в одиночку не ходят! Мало ли что с тобой может случиться? Без спутника не пойдешь!
Алексей Петрович вызвал к себе Б. Г. Кастюрина, а потом и комиссара батальона И. И. Юревича. Посовещавшись, они наконец решили, что лучше мне идти одному. Я взял дополнительный паек и около десяти часов утра отправился в путь. Было тихо. Небольшой морозец слегка пощипывал лицо. Лыжи неплохо скользили по мягкому снегу. Я быстро дошел по берегу до маяка Осиновец. Видимость была хорошая. Красно-белые кольца маяка ясно различались на всей его 76-метровой высоте.
В начале ноября я вел наблюдения с вышки маяка за ледоставом. Отсюда просматривалась в бинокль почти половина Шлиссельбургской губы. В ясную погоду можно было даже разглядеть невооруженным глазом иглу маяка Кареджи на восточном берегу. До маяка было 18 километров. Он одиноко торчал, как перст божий, на краю безлюдной песчаной косы, уходившей в глубь озера километров на десять. В этом направлении и намечалась первоначально автомобильная трасса. Здесь она была бы самой короткой и находилась бы дальше всего от противника.
Но в створе маяков Осиновец – Кареджи долго не было льда. Отсюда было близко до горловины Шлиссельбургской губы. Вода здесь все время находилась в движении. Ветры перегоняли ее то на открытый простор Ладоги, то обратно в губу. Лед нарастал по берегам южнее Осиновецкого маяка. Забереги долго не стягивались на середине.
На вышке маяка я познакомился с его смотрителем Иваном Кузнецовым. По ночам он наводил ленту света на Новую Ладогу, откуда в ноябре баржи еще везли муку. В последние дни навигации Иван не спускался с маяка на землю. Собственно, и слезать-то ему было некуда. В дом его попала бомба, убив жену и двоих детей. Похоронил он их и позавидовал: «А кто меня похоронит? Взлетишь в воздух – и знать никто не будет!..»
Бомбы вокруг Осиновецкого маяка вспахали землю. Сосны разбросаны, как сломанные спички. Кусты перевернуты корнями вверх. Я вынужден был снять лыжи и идти возле маяка пешком.
Стены его толстые, у земли три метра. Кладку закончили в 1910 году. Осколки бомб лишь слегка пощипали кирпич. Внутри к вышке вела винтовая лестница. Иван Кузнецов пересчитал все ступеньки на ней – их триста шестьдесят.
Он рассказывал мне, что, когда начались бомбежки, люди вначале бежали прятаться к маяку. Думали: хоть осколки внутри не заденут. На каждой ступеньке умещалось два-три человека. А на полу у входа – восемьдесят пять. Но потом стали разбегаться подальше от маяка.
«Юнкерсы» бомбили его конвейером. Одни бомбят – другие уже заход делают. Да непросто им с воздуха попасть. С воздуха маяк что игла! Попробуй попади в иглу, да еще когда в тебя из зениток стреляют. Вот и мазали фашисты.
Прыгал маяк от взрывов, а стоял. Только стекла вылетели. Кузнецов то и дело вставлял их. Как подпрыгнет маяк, так и нет стекла! А без них ветер гасит пламя. Маяк работал на керосине. Иван затаскивал его на вышку в 20-литровом бидоне.
Жутко наверху во время бомбежки – будто едешь в кузове по ухабам. Иван привязывал себя веревкой и мне рекомендовал. Несколько раз он просился на фронт – не отпустили. Сменщика не могли подыскать. Никто не хотел находиться под бомбами наверху.
В минуты затишья, чтобы забыть свое горе, смотритель маяка рассказывал мне о Ладоге:
– Озеро наше под стать морю! С полуночи на полдень двести верст будет. С восхода на закат – более ста. Самая глубь на севере, возле Валаама. А в Шлиссельбургской губе – 35 сажен и поменьше. Мелкие места есть, где камни почти выходят из воды.
Волна на озере норовистая. Ветер идет сам по себе – волна зачастую вразрез. Упаси бог попасть в шторм! Вал вздымается гребнистый, высоченный. С домину дыбится! Подымет – весь мир виден. Опустит – как в бездну. Вода кипит и пенится кругом. Думаешь: вот гибель! Глядишь – вынесло! Да не всякий раз…
Когда озеро в гнев приходит, кидается на берег. Вода горой идет, все смывает. На моих глазах волна на Коккорево поднялась и от берега кряж сажен в пятьдесят отмахнула.
Говорят, возле этого кряжа застал раз Петра Первого шторм. Три дня царь не мог причалить свой челн к берегу. А когда наконец пристал, отстегал Ладогу плетью. Поостыв же немного, приказал рыть обводной канал. До сих пор ходят по этому каналу суда, прячась от штормовой ладожской волны.
Для меня, конечно, особенно важны были наблюдения смотрителя маяка в зимнее время. И тут я узнал от него много интересного. «Зимой, – утверждал Иван Кузнецов, – лед редко когда простоит с неделю на одном месте. Ледовый покров часто ломается, льдины уносятся ветром. Без числа раз озеро зимой замерзает и снова вскрывается. За десять лет, что работаю здесь, я еще не видел, чтобы Ладога была покрыта сплошным льдом.
Слыхал от стариков, что на середине озера есть место, где всегда гуляет волна. Это место имеет продолговатый вид – вытянуто с запада на восток. Оно как бы отделяет северную часть Ладоги от южной. В длину незамерзающая полынья верст 50 будет, а в ширину 10–15. При сильных северных ветрах она сужается. Бывает, иногда края ее сойдутся вместе. Но стоит перемениться погоде, они снова расходятся».
Самой большой неожиданностью для меня было то, что зимой между маяками Осиновец и Кареджи также могло не оказаться прочного льда. Здесь горловина Шлиссельбургской губы, и ветры гонят через нее воду то в озеро, то обратно. А как раз в этом направлении намечалось тогда строить автомобильную трассу. Командование фронта уже утвердило проект.
Правильность наблюдений Ивана Кузнецова подтвердили рыбаки-старожилы и аэрофотосъемка. В первоначальный проект пришлось вносить срочные коррективы. Ледовую дорогу проложили южнее Осиновецкого маяка. Вагановский спуск находился от него в пяти километрах.
Теперь, месяц с лишним спустя, мне предстояло опробовать отвергнутый вариант. Он предусматривал самый короткий, самый удаленный от противника путь на восточный берег. Но я уже знал из рассказов смотрителя маяка, что лед в горловине Шлиссельбургской губы самый ненадежный…
Вблизи Осиновецкого маяка почти не встречались торосы. Лыжи хорошо катились по ровному снежному насту. До села Черное на восточном берегу тридцать с небольшим километров. Значит, весь путь в одну сторону, думал я, займет четыре-пять часов. Стало быть, завтра к 12.00 я без труда вернусь в расположение батальона. Но этим расчетам не суждено было сбыться.
Через пять километров стали попадаться ледяные горбы. Вскоре они со всех сторон окружили меня, как дюны в пустыне. Вчерашний ветер вызвал здесь сильную подвижку льда. Торосы достигали четырех метров в высоту. Обойти их было невозможно. Я вынужден был снимать лыжи и перелезать через отвесные ледяные стенки.
Такой способ передвижения быстро утомлял. Силы у меня оказалось не так уж много, давало знать длительное недоедание. А тут еще в середине дня резко потеплело. Снег начал прилипать к обуткам тяжелыми комьями.
Набежали облака. Осиновецкий маяк скрылся, а маяк Кареджи еще не показался. До восточного берега было слишком далеко. Ориентироваться можно было только по компасу. Я упрямо шел и шел на восток. И вдруг услышал над головой звенящий гул мотора. Низко, почти на бреющем полете путь мне пересек «мессершмитт». Он летел точно на север.
Я упал в снег, надеясь на свой белый маскхалат. Но летчик, видно, заметил меня раньше. Он развернулся и, спустившись еще ниже, сделал новый заход. Я вжался в снег, не успев сбросить лыжи. Они теперь выдавали меня.
Приглушенно ударил пулемет. Но бил он редко – одиночными выстрелами. У летчика, видно, был на исходе боезапас. Одна из пуль подняла снежный фонтан перед моим лицом. Снег попал за ворот и неприятно холодил кожу. Краем глаза я увидел совсем близко над собой накренившееся крыло с черным крестом. «Мессершмитт» задрал кверху нос и начал набирать высоту.
Фашистские пули хоть и не задели меня, но настроение испортили. От слабости кружилась голова. Я напряг всю свою волю, чтобы приподняться и встать. И тут только заметил, что рядом со мной трещина, через которую уже выступила вода. Снег пропитался ею на большом участке.
Пришлось долго идти в обход. Снег отсырел не только из-за воды. Он таял от внезапно пришедшего на Ладогу тепла. С каждым шагом все труднее было передвигать лыжи. Я часто останавливался и очищал их от снежных комьев. Но они снова быстро налипали на лыжи. Ноги были словно в колодках.
Наконец на исходе дня проглянула игла маяка. Я добрался до него уже в сумерках.
Здесь располагались моряки. Они охраняли маяк и жили рядом в небольшой деревянной постройке. После проверки документов меня провели к печке обогреться. Место возле нее мне уступил моряк, который оказался моим старым знакомым. Я виделся с ним на острове Большой Зеленец в ночь с 17 на 18 ноября…
…Я был тогда в составе разведотряда, который прокладывал ледовую трассу между Коккоревом и Кобоной. Мы уже прошли самую опасную часть пути и рассчитывали заночевать на Зеленце. Местный проводник утверждал, что там должна быть рыбачья землянка.
В кромешной темноте нельзя было отличить, где кончается лед и начинается небо. Лишь время от времени справа, в районе Синявинских болот, вспыхивали разрывы снарядов. Там, в двенадцати километрах от нас, шли тяжелые бои. А впереди была чернота. Каждый из нас до боли в глазах вглядывался в нее, надеясь увидеть камни или кустарник.
Первым очертания острова заметил Юра Кушелев – 19-летний связной командира отряда Л. Н. Соколова. Этот паренек провалился одной ногой под лед на фарватере, где вода едва замерзла, и больше всех стремился поскорее выбраться на сушу. Убедившись, что связной не ошибся, Л. Н. Соколов приказал передать шепотом по цепи команду остановиться. Но мы не знали, кто на Большом Зеленце – свои или противник.
Посовещавшись с офицерами, командир отряда решил двигаться к острову развернутым фронтом, оставив в резерве пять человек. Но едва мы сделали несколько шагов, как в напряженной тишине прозвучал грозный окрик:
– Стой! Иначе уложу всех!
Из-за камня на берегу показалась черная фигура в бушлате, с поднятой над головой гранатой.
– Сдурел ты, парень, что ли? – крикнул Юра Кушелев. – Замахиваешься на своих!
– Свои! Свои! Русские! – сразу послышалось из нашей цепи.
Затем снова наступила тишина. Черная фигура спряталась за камень. Мы залегли, плотно прижавшись ко льду.
– Ну вот что! – сурово проговорил голос из-за камня. – Кто там у вас главный? Бросай оружие и топай сюда! Но не вздумай только шутки шутить!..
– Шутить не будем оба! – ответил, поднявшись со льда, командир нашего разведотряда Л. Н. Соколов. – Условия принимаю! Поднимайся, однако, и ты!
Человек в бушлате встал во весь рост и первым двинулся навстречу Соколову. Вскоре они пожали друг другу руки.
На Большом Зеленце оказались три матроса из части, дислоцированной на южном берегу Ладоги, возле Бугровского маяка. Они выполняли задание своего командования. Нас моряки увидели давно и сначала приняли за немцев. Силенок у них было, конечно, маловато, но позиция надежная. На острове кругом камни, а мы на голом льду. Они решили подпустить нас поближе и закидать гранатами. Смутило их то, что идем мы не со стороны вражеского берега, да вроде бы услышали крепкое русское словцо…
Человека в бушлате, который угрожал нам гранатой, звали Пашей. Теперь его часть охраняла Кареджинский маяк. Мы оба от души посмеялись, вспомнив про этот случай.
Моряки – народ гостеприимный, тем более если принимают старых друзей. Паша поделился со мной своим пайком. Устроил у печки мою телогрейку и брюки для просушки. Но задерживаться надолго на маяке я не мог. Комбат А. П. Бриков приказал пройти по льду до села Черное, а до него было еще 12 километров. Я надел на себя недосушенную одежду и, поблагодарив моряков, снова двинулся в путь.
На озере было темно и сыро, лишь немного белел под ногами снег. Я то и дело поглядывал на светящийся компас. От маяка Кареджи нужно было по-прежнему идти на восток. Чуть собьешься на север – и потеряешь берег. Тогда кто тебя отыщет на завьюженном ладожском просторе?
Я ожидал, что ночью ударит мороз, но оттепель не проходила. На лыжи налипала такая масса снега, что тяжело было приподнять ногу. Вконец измучившись с ними, я понес их на плече. Идти пришлось по сугробам, проваливаясь по колено. Через 15–20 шагов делал передышку и вынимал компас.
Несколько раз отчаяние охватывало меня. Выбившись из сил, я падал на снег. Но каждый раз удавалось подняться. Я снова шел вперед, понимая, что завтра, в 12.00 мое донесение ждут в батальоне. Запасной вариант должен быть проверен до конца.
Так прошло четыре с лишним часа. Наконец впереди показались какие-то кусты. Я обрадовался, что близко берег. Но радость оказалась преждевременной. Вокруг чернели камышовые заросли. Снегу в них намело еще больше, чем на открытом озере. Вскоре я провалился в сугроб по грудь.
Стояла глухая ночь. На небе – ни звездочки, на снегу – ни звука. Даже не шелестел замерзшими метелками камыш. Я понимал, что берег где-то рядом. Но как добраться до него по таким сугробам? Да еще сквозь частокол одеревеневших стеблей. Утешала только мысль, что основную задачу по разведке запасной трассы я все же выполнил. Да что толку – кто об этом узнает?
Вдруг мне почудилось, что потянуло дымком. Запах был очень слабый и быстро пропал. Но я все же уловил, с какой он шел стороны.
Невольно вспомнился Емельян Пугачев из пушкинской «Капитанской дочки». В степи, занесенной снегом, Пугачев определил дорогу по запаху дымка, доносившегося из постоялого двора. Только не было у меня ямщика, чтобы крикнуть ему: «Ну, слава богу, жилье недалеко! Сворачивай вправо да поезжай!..»
Собрав остатки сил, я пополз среди камыша. Вернее, поплыл по снегу, разгребая его одной рукой. Другой я тянул за собой лыжи с продетыми в крепления палками. Мерзлые стебли цеплялись за них, метелки колотили по лицу. Снег обсыпался подо мной. Казалось, что я барахтаюсь на одном месте.
Не знаю, сколько я так передвигался. Может быть, всего 200 или 300 метров. Но заросли камыша вдруг кончились: впереди белел только чистый снег. Я понял, что это берег, и поднялся во весь рост.
Никаких признаков жилья не было видно, хотя запах дымка стал более ощутим. Я чувствовал его теперь при каждом порыве ветра. Но брести по берегу пришлось еще более километра, пока передо мной не возник из темноты забор. Сквозь щели в нем я разглядел избу с дымком из печной трубы.