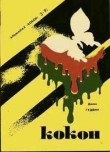Текст книги "Кокон"
Автор книги: Олег Хафизов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
ИНТЕЛЛИГЕНТ
Тогда Хафизов еще не умел определять возраст людей после тридцати пяти лет, и все они были “взрослые” или “пожилые”. Дочь Греты
Ивановны, умная, бесцветная Наташа, была на год-другой старше него, а сама Грета, пожалуй, немного моложе его родителей. Было ей под пятьдесят, а может – за пятьдесят, но, во всяком случае – не тридцать и не семьдесят.
Внешность была столь же неопределенна. Какая-то серая припухлая округлость, валкая походка, розовые руки, розовые щеки, розовый заостренный нос и розоватые глаза под средней силы минусовыми очками в тонкой металлической оправе. Какая-нибудь серая пушистая кофта, абсолютно простая темно-синяя юбка, и наипростейшие войлочные боты на молнии, какие может носить невзыскательная женщина для максимального удобства по минимальной цене. Говорила она много и быстро, поверхностно шелестящим голосом, то и дело ставя риторические вопросы и, после недолгого прищура, отвечая на них раньше, чем собеседник успевал собраться с мыслями. При таком стиле речи в ее озвученный поток сознания не мог не заплывать вводный сор, звучащий по-русски “вот, предположим”, а по-английски – “вот, for example”.
Хафизов считал ее хорошим преподавателем английского и редчайшим знатоком литературы и, думаю, он ошибался, несмотря на несметное количество знаний (вернее – сведений) из теоретической и практической грамматики, истории, политики, географии, англо-, русско-, франко– и испаноязычной литературы, философии и мистики, накопленное хроническим чтением на нескольких языках, оседающее в серых закоулках ее путаного ума, бродящее, перекисающее и изливающееся в сплошное лирическое отступление уроков и умные внеклассные разговоры, абстрагированные настолько, что в ушах звенело, а из глаз шел дым. Видимо, это умственное помрачение, катализированное чаем и курением крепчайших мужицких папирос, и было ее целью, но на фоне школярской тупости института (с одной стороны) и хулиганской тупости друзей (с другой) тайные побеги в крамольную заумь казались увлекательным приключением, подпольем, секретом между мной и мной, надеждой на реальность любимой книжной фикции.
Едва ли не впервые Хафизов читал свой рассказ кому-то вслух.
Пальцы с листком дрожали, голос натянуто звенел, голову начинало ломить от напряжения. Некоторые места из того, что вчера кое-как успевала записывать рука (конец рассказа был написан совсем уж крупным, пьяным почерком с многочисленными описками), оказались непригодными для чтения интеллигентным женщинам, другие были явно лишними, и на скоростном спуске чтения он кое-что замямливал и менял, а кое-где перепрыгивал через фразу или часть абзаца. Чтение длилось гораздо дольше, чем он предполагал, и оставило за собой легкий срам ненужного секса.
– Вы хорошо, выразительно читаете, – высказалась Грета Ивановна после паузы, достаточной для того, чтобы несколько раз пожалеть о содеянном. – Возможно, это произвело такое впечатление из-за того
(пошел уже мысленный поток), что мы вас хорошо знаем, а при чтении глазами – у вас хороший, разборчивый почерк, – впечатление будет совсем другим. Не знаю. Голос у вас тоже приятный. А вот лицо у вас, что называется, ugly, по-английски это не совсем безобразный, а скорее – с неправильными, своеобразными чертами.
Что это, черт побери, означало: похвалу, порицание или приговор?
Как следовало себя вести: признать свои ошибки, отпарировать или промолчать? Он выбрал ни то, ни другое, ни третье, а самое глупое, – виновато хохотнул.
– Вы неплохо пишете, – продолжала себе Грета, – у вас есть интересные глаголы движения, очень интересные глаголы движения (что за чертовы глаголы, и какой интерес они могут представлять?)… но вы трусоваты, признайтесь, трусоваты и у вас сложные отношения с отцом. Он занимат большой пост? Член партии? Вы должны взять инициативу в семье в свои руки, да, да, вы уже не ребенок, уже пора, а главное – сменить культурную среду. Вам надо срочно бежать из этого института и этого города, вот, for exampl, Мориса Тореза или другой настоящий ВУЗ. Как вам это? У меня там хорошая подруга. А? У талантливого молодого человека здесь всего два пути: пойти в КГБ или опуститься. Все умные мужчины работают в КГБ, остальное захватили умные женщины. Мужчины совершенно деградировали, скоро их повсюду заменят женщины. Как вам это? Вы пишете стихи? У вас должны получиться хорошие стихи. Вообще, из вас может получиться писатель, а может и не получиться, но вам надо больше читать латиноамериканцев.
Отношения Хафизова с отцом были не сложные, они были поганые. Но его отец никогда не поднимался, не рожден был подняться выше уровня младшего заводского руководства (много-много – начальник котельной), и даже этот уровень выпускника техникума был предметом гордости всей его многодетной, наполовину вымершей от голода и грязи семьи деревенских татар. Что же касается трусоватости, то Грета, не долго думая, перевесила ее на Хафизова с героя его рассказа, нарочитого неврастеника, доведенного деспотичным отцом до самоубийства.
Подобный случай недавно произошел с его знакомым, сыном большого партийца.
– Не знаю… мне трудно оценивать себя… и все-таки герой вымышленный, хоть и от первого лица…
– Отстранение, I see, – прищурилась Грета, и разговор перешел на обычную диссидентщину, в которой жизнь – всего лишь повод для параноидальной критики – сплошная трагедия, деградация и злой умысел правящих дураков. Подобные мысли легко возникают в любом раздраженном уме, а в женском, предвзятом, назойливом изложении сначала вызывают поддакивание, а потом отторжение. Жизнь не могла быть настолько отвратительна, местами было очень даже ничего. И отец его был не больше коммунистом, чем он комсомольцем. И кроме него он знал многих членов партии, которые не были плохими, злонамеренными людьми. И как можно было, будучи мужчиной, согласиться с той ролью бессильных выродков, которую уделила мужчинам эта никчемная дама?
Хафизов возвращался домой, шатаясь от интеллектуально-табачной одури, задним числом строил хитроумные доводы проигранной дискуссии, и нес в руке полузапретную книгу Нормана Мейлера “Американская мечта”, которая считалась порнографической.
ЛУНАТИК
С детства Хафизов “блажил” в ночи полнолуния: вскакивал с постели, вскрикивал, бессознательно бродил по комнатам и воевал с фантомами лунных кошмаров. Однажды он разбил себе кулак о стенной выключатель, притворившийся грабителем, в другой раз сломал абажур настольной лампы, который стоял на подоконнике и померещился лезущим в окно “лунным волком” и, самое смешное, треснул в бок спящую жену, когда ему почудилось, что он вырывает нож у немецкого диверсанта.
Подобные странности все чаще переходили из полусонного бреда в поступки бодрствующего, а иногда и трезвого человека только потому, что Луна рассветилась слишком напряженно. Вдруг он начинал вытворять такие штуки, которые можно увидеть только в похабных фильмах, или проявлял бессмысленную жестокость, или бродил по дворам с длиннющим ножом, или налегал на алкоголь и другие отравляющие вещества. Это была тоскливая, бессонная, болезненно бодрая жизнь, и его лицо в зеркальном отражении становилось неестественно юным и здоровым.
В такие дни он встретил первую жену, бывшую замужем вторым браком. Её муж служил пожарным, во время его суточных дежурств она шаталась по парковым пивным с веселой незамужней подругой в поисках третьего брака или хотя бы следующего мужика.
Вместе с компанейской, но, увы, полнеющей подругой Лена подсела за столик Хафизова в кафе и, после трех-четырех привычных кружек предложила пойти на квартиру мужа, спящего в пожарной части в ожидании катастрофы в чьем-нибудь чужом доме. Немного поотстав,
Хафизов приметил, что ноги у новой знакомой, облаченной в узкие вельветовые джинсы, довольно длинны и тонки, но устойчивы, а главное, не сходятся в промежности, а талию, казалось, можно охватить пальцами двух рук. Как всегда перед большой личной неудачей, он ничего особенного не предвидел.
Выпив в ее крошечной комнатке, наполовину занятой семейным
“траходромом”, еще две бутыли черной дешевой жидкости, они стали шуметь, чудить и петь “Черного ворона”, а потом Лена стала показывать семейный альбом, родословную собаки и новые узкие зеленые трусы (на себе). Очнулся он на незнакомом диване, среди двух неизвестных девушек, от света Луны, припекающего левую половину мозга через чернильное окно.
Хафизов выбрал более тонкую и свежую из девушек, которая лежала возле стены и оказалась его будущей женой, и первым делом разорвал ее хваленые трусы. Позднее он жалел, что не поступил так же с ее подругой, которая притворялась спящей, а только все время смотрел на ее красивый профиль.
Когда они встали, явились два друга рогатого пожарника, и все вместе продолжили пить на кухне. Поначалу гости подумали, что
Хафизов – парень Лениной подружки и вели себя прилично, но Лена так его оглаживала при всех, что один из друзей не выдержал и назвал ее поведение “настоящим блядством”. Другой, что повыше, вызвал Хафизова на лестничную площадку разбираться насчет “отношений”. Он вел себя угрожающе; намекал на каратэ и дергал Хафизова за новую, красивую, клетчатую рубаху с кармашками, подаренную мамой, пока не порвал ее.
Ему не стоило этого делать. Хафизов ударил его несколько (не помню сколько) раз по лицу кулаками и по яйцам ногой и вернулся в квартиру.
Подруги почему-то уже не было. Друзья пожарного застряли в узком проходе возле двери и стали изображать руками и ногами нечто, не достигавшее Хафизова ровно настолько, насколько надо приблизиться для взаимных ударов. Им было тесно и неудобно. “Что я на них смотрю?” – подумал Хафизов, и стал бить их по изумленным лицам.
Загораживаясь и размахивая руками вслепую, друзья ретировались из комнаты в прихожую и из прихожей в подъезд. Лена истерично, безобразно орала и кидалась в них припасенными для засолки помидорами, а они в свою очередь орали, чтобы Хафизов шел за ними на улицу, где они ему покажут. Хафизов для вида рвался за ними (а они к нему и для вида не рвались), Лена тянула его за рубаху, довершая ее погибель, и все орали, а потом никого не стало. Лена починила рубаху, и уговаривала его побыть еще немного (никак, до прихода мужа), но ему было не до сна, и он вырвался от нее на улицу.
Возле подъезда на всякий случай он подобрал здоровенную корявую каменюку, но к нему никто не пристал, кроме брехучей помойной собаки. На собаку он и истратил свой снаряд, но к счастью не попал.
Потом пошел, полетел досыпать домой через безлюдную декорацию ночного города, точно так же, как летал во сне. Луна в ту ночь была не белой, и не желтой, а оранжевой, почти красной, как лихорадочное солнце.
НЕРВНЫЙ СМЕХ
После драки на Хафизова нападал смех. Потом становилось боязно, что с ним сотворят что-нибудь подобное тому, что сделал он, но, как правило, напрасно. Не так уж часто человек, испытавший боль и страх, хочет повторить это ощущение.
Хуже всего, когда вместо синдрома опаски или отвращения наступает жалость, острая, жаркая, красная, непоправимая жалость к тому, которому мама штопает носки, и жена что-то ищет на день рождения, и дети радуются, когда он возвращается пьяный со своего завода.
Бутузу не повезло. Он был достаточно велик, чтобы его нестыдно было бить, водился с обитателями хулиганского двора, пил не меньше других, носил, как положено, вельветовые порты неимоверной ширины
(понизу) и ужины (поверху) с молнией наружу и латунными пластинками, полученными при фигурной вырубке отверстий на самоварах завода
“Штамп”, которые приклепывали к нижней кромке штанин, а также какую-нибудь “комбойку” или “олимпийку” над тельняшкой, то есть, внешне не отличался от дворового сброда, но был при этом настолько безобиден, что его мог бить всякий желающий.
И чего только Хафизов не испробовал, как только не упражнялся на покорном Бутузе в то время, когда самым сильным боевым искусством был бокс, а самым хитрым – самбо, а разным тычкам и болевым подлостям учились у школьных садистов, у которых где-нибудь служил или сидел старший брат. После побоев у Бутуза страшно краснело и сморщивалось лицо, словно из него должны были брызнуть фонтаны – нет, не слез, предосудительных даже для самой забитой школьной жертвы, – но соков, помидорной эссенции невинности, сырости мамочкиных слез, пролитых, по сынку, выношенному и выпестованному для поругания в мире безжалостных, свирепых, сухих мужиков и баб.
Вершиной этого нагромождения детского зверства стал случай за школой, уже в старших классах. Стояла осенняя сирая слякоть, морось и темь. Гурьба из нескольких классов после последнего, шестого урока вывалила в промежность П-образного школьного здания, чтобы секундировать и науськивать двух заведомо робких бойцов, трусливейших из трусливых, стравить которых было величайшей потехой.
Дуэлянты и сами, вроде, не прочь были подраться, чтобы показать свою полноценность другим, но пререкались и осыпали друг друга бранью так долго, что совсем утратили веру в необходимость происходящего. Стали уже поступать предложения побить обоих, и этот дополнительный, боковой порыв страха натолкнул одного из этих добрых трусов на другого: первый ударил-таки второго, когда от него перестали этого ждать, и выпустили из внимания. Он стал слабо бить в руки, плечи, щеки, затылок, становясь удар от удара все героичнее и привязчивей, и идя со своими отвратительными ударами за уходящей, а потом удирающей жертвой чуть ли не до подъезда, чуть ли не до самой маминой крепости.
Это ли не потеха? Вместе со всеми Хафизова охватило истерическое веселье, смех до боли в животе и слез, и, продолжая смеяться, он стал пробовать на Бутузе удар, о котором кто-то из друзей сказал, что он ничуть не хуже удара по яйцам, но его еще труднее отбить – удар ногою в голень. Он бил Бутуза носком по голени раз за разом, и смеялся, и, вроде, попадал, но тот все стоял, и пятился, но не падал и не корчился от боли, как обещали пропагандисты этого ловкого приема. Он бил в подставленный Бутузом портфель.
Другая вспышка памяти – встреча уже взрослых, безлично сгруппированных: Хафизова – к хиппи-спекулянтам-меломанам, Бутуза – к шоферам-хулиганам-блатарям, с которыми не побалуешь. Встреча получилась такой, словно они и не были жертвой и палачом. Как будто они были близкими приятелями с общим прошлым. Еще через несколько лет: “Слыхал, Бутузка женился и стал утром готовить себе яичницу из трех яиц. А теща подходит и говорит: “Сашенька, кто часто кушает яички, тот ходит без штанов”. И, наконец, совсем недавно: взрослый, совсем уже спившийся, семейный Бутуз провалился на заводе в какой-то приоткрытый люк и сварился там заживо в потоках пара. “Тот, кто часто кушает яички…”
То есть, по какой-то причине, не имеющей ничего общего с заповедями ни одной из религий, он попал прямехонько в ад, самый настоящий и кромешный?!
Только этот санитарно-технический ад был создан не для варения бутузов, а для отопления помещений.
АДОВА ПЛОСКОСТЬ
Хафизову было скучно в анусе восьмичасового конторского заключения, когда даже такое плоское занятие как чтение книг было запрещено, ибо, оставляя в плену все трехмерное тело служащего, выводило из-под терзаний его воображаемую, но существенную часть – мечту. Но, Боже ты мой, ему становилось скучно втройне и в самой развеселой из пьяных компаний, где все кричали так громко, словно боялись хоть на мгновение услышать собственную мысль, которая есть бессмыслица. Ему становилось скучно от любой, самой интересной работы, приводящей к зарабатыванию денег, следовательно – к следующей работе, но ему становилось скучно и от написания бесчисленных рассказов, которое не приводило совсем ни к чему. Ему становилось скучно без женщин, без их линий и выпуклостей, прохладных и горячих мест, эластичной гладкости и влажной тесноты, но десятикратно скучно становилось, когда порнография закончена, а ее замешкавшаяся героиня, перевоплотившись в персонаж кухонной драмы, продолжает ходить, и говорить, и главное – требовать ответных действий.
Гипотеза ада ему вовсе была не нужна; он не понимал, для чего понадобилось выдумывать нечто худшее, чем жизнь, нечто худшее, чем рак горла, или менингит, или бомбежка. Но если уж понимать ад как вечное терзание, от которого невозможно избавиться ни действием, ни бездействием, если уж понимать его как метафору вечных мук за то, что мы жили, то вечным, серым, пыльным, безвоздушно-безболезненным адом снаружи и изнутри была скука. От нее, по крайней мере, все шло.
И к ней возвращалось.
ДРАМАТУРГИ В ЛЕСУ
Хафизову приходилось писать в библиотеке, на лекции, в поезде, на пляже, в лесу под деревом, когда, как ни устраивайся, мгновенно затекает спина, во время обеденного перерыва на стройке, пока мужики бились в домино, на больничной койке, сквозь лекарственную одурь, в туалете, когда комнату занимали друзья жены, качая одной рукой детскую коляску, держа в одной руке бутылку, затыкая уши ватой, которая, один черт, не держит тишину, в конторе, прикрывая рассказ листком технического перевода; чаще всего приходилось писать исподтишка, украв бумагу и время у какой-нибудь общественно-бесполезной работы и притворишись, что занимается настоящим (без кавычек) делом.
Чего ему не приходилось испытать, так это работы за собственным письменным столом, в тишине, когда никто не заглядывает через плечо, не интересуется без всякого интереса, а что ты там сочиняешь? не занимает тебя получасовым разговором о собственных заботах, наталкивающим на одну и ту же заветную мечту: встретить бы этого друга в самом адовом пекле, когда он весь шипит и трескается от жажды, подождать, пока какой-нибудь сердобольный черт поднесет ему стакан с водой, выбить воду перед самыми губами и, между прочим, напомнить: “А помнишь, как ты мне мешал…” Это когда не ладилось.
Но вот однажды, совершенно точно – один раз в жизни… Вскоре после первой и последней учебной поездки в Литинститут, вселившей в
Хафизова вредную иллюзию насчет того, что в жизни что-то начинает меняться к лучшему, как-то по октябрю в конторе зазвонил телефон.
Интеллигентный женский голос, уверенный в своей необходимости, сообщил, что он из Москвы, из Союза Театральных Деятелей (СТД), где ознакомились с его пьесой и решили премировать его поездкой в Дом
Творчества. Нет, поездка будет оплачена СТД, а вам только надо договориться с начальством, чтобы вас отпустили с работы. Если надо, можем прислать вызов. Можете взять с собой машинку, – многие наши так делают.
Ну, вот оно, началось после тридцати. Сначала, поступление в институт Максима Горького, который, правда, был ему нужен не больше, чем сам Максим Горький (вместе с Алексеем Пешковым), потом успех пьесы, о которой он успел забыть… Так вот что значит упрямо идти своим путем, и долбить, и долбить, и долбить кулаком в одно место неприступной стены, пока она не завалится… Хотя сегодня эти литературные события скорее напоминают пару случайно выскочивших на тропинку ссохшихся козьих котяшков.
Дом Творчества Руза оказался опустевшим под зиму, но отнюдь не заброшенным домом отдыха посреди соснового бора, временно оставленным театральными деятелями и частично заселенным обыкновенными бабами и мужиками в темной некрасивой одежде, серых платках, кроличьих шапках, войлочных ботах и валенках, гуляющими по аллеям туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда.
Окна и балкон отведенной ему комнаты выходили на хвойный лес, уже пушисто заснеженный, волшебно недвижный и тихий до звона в ушах.
Всех драматургов расселили по двухместным номерам, каждого – в отдельный номер, кроме двух толстожопых молодых соавторов, своей неразлучностью наводящих на мысли о педерастии, да лохматого, но достаточно пожилого и известного хиппаря, который догадался самочинно вселить к себе юную пухленькую киску в чем-то коротком, иногда выглядывающую из-за его плеча в дверной проем.
В комнате стояли две просторные мягкие кровати, застеленные узорчатыми косматыми покрывалами, на которых легко представлялось нечто резвое, голенькое, с поджатыми гладкими ножками, но семинар, как положено, состоял почти из одних мужиков, а женщины были такие, каким и следует быть писательницам: неряшливыми, пахучими и шибко умными. В углу и возле стола было по глубокому креслу, а в тумбочке обнаружилась красная золотого тиснения папка с примерным распорядком творческого дня типичного драматурга и перечнем услуг (библиотека, лыжи, кафе-бар, до которого он так и не рискнул добраться, баня, медицинский пункт). На полу был расстелен топкий ковер, на котором, перед раздвинутым ясным трельяжем, можно разучивать ушу, а над кроватью привинчен действующий ночник специально для того, чтобы, чернильно-синим вечером, под волчье завывание ветра, блуждать по стилистическим закоулкам набоковского литературного эсперанто.
В стенном шкафу обнаружилась еще и раскладушка, и, не будь
Хафизов в таком отрыве от Москвы и Тулы, не будь он так трезв, и апатичен, и порядочен, здесь можно было устроить настоящий вертеп, настоящий парадиз.
Распорядок дня оказался на редкость ненавязчив. Часов до двух-половины третьего тебя вообще не трогали. Никто, кроме вежливой уборщицы, не заходил в комнату, даже если ты этого страстно хотел, предполагалось, что каждый работает над очередной пьесой, а иные, и действительно, постукивали на машинках, и требовалось только вовремя поесть, отметить меню следующего дня и не съесть по писательской рассеянности чужого обеда. После обеда и глубокой сиесты, притом не каждый день, проходили собственно семинары. Кто-нибудь зачитывал свое произведение, после чего, как на любом семинаре, слушатели по очереди вставали и вываливали на автора говно своих замечаний (либо оставляли его при себе). Иногда пьесы разбирали без публичной читки, ибо, как обнаружилось под самый конец мероприятия, вся драматургическая команда была разбита на подразделения со своими тренерами, слегка обязанными, но не пылающими желанием ознакомиться с содержанием никчемных работ своих подчиненных. Это, повторяю, дошло до Хафизова под самый конец, когда он так и не дождался возможности блеснуть перед всеми своей пьесой. Ее с грехом пополам прочел один писатель с известной фамилией, произведений которого невозможно было вспомнить, хоть загоняй иглы под ногти, и одна либеральная работница Министерства, причем первый сдержанно похвалил, а вторая по-доброму ругнула, так что он остался при своих.
Никаких предложений, никаких посулов, ровным счетом два сушеных одеревеневших котяшка, которые можно нанизать на серебряную цепочку и носить на своей гордой шее нонконформиста.
И вот Хафизову стало тошно. С утра, один черт, не работалось.
Работалось посреди бесконечно-свободного дня, именно во время периодических заседаний семинара, так что одна из театральных начальниц даже потеряла его и подумала, что его съели волки. Никто и не подумал подойти к нему, познакомиться и поговорить по-человечески, тяготея к своим кланам, а сам он стрезву не был на это способен. Вместо пользы здорового отдыха, начала разыгрываться нехорошая головная боль (гайморит, менингит? рак мозга?). Он бросился в поселок, но единственная бутылка с красочной этикеткой оказалась подсолнечным маслом. (Да ты что, малай, какая вино, это масло подсолнечная.) Хафизов рванул через лес, а навстречу, из лесу, не поздоровавшись, скорым шагом убийцы, только что расчленившего и закопавшего жертву, вышел драматург-нееврей с чумовыми глазами и редкой бородой, то ли слишком добрый, то ли глуповатый автор несмешных комедий, кажется, даже не москвич.
Пройдя его следами мимо теннисного корта, какой-то берлинской стены, отделявшей одну сторону заснеженого поля от другой, Хафизов углубился в лес, и увяз на берегу не успевшего замерзнуть озерца.
Здесь было настолько пустынно, что меньше всего он удивился бы волку. Наваливший за ночь снег кончался прямо в черном зеркале воды
– или над ней. По эту сторону, под крутым откосом, валялась вверх дном голубая, облупленная, целая лодка с инвенатрным номером 11, а по ту, неблагоустроенную, лесную сторону, воду обступали черные деревья, прорисованные на ангельской белизне так пронзительно и подробно, что наворачивались слезы. Казалось, что опадающие с неба частицы тишины шуршат при соприкосновении, и даже вороны не смели разломать этих чар своим краком.
Хафизов уехал домой за неделю до окончания месячного рая. Каждый день он исписывал по 6-8 страниц (от руки), как в литературном общежитии, в сортире, поезде или на стройке. Независимо от того, помогало ему Министерство Театральных Дел или мешал весь мир.