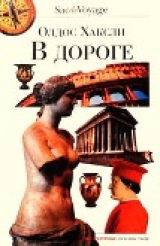
Текст книги "В дороге"
Автор книги: Олдос Хаксли
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
Работа и праздность
Реформаторы устремлены в будущее, когда эффективное социальное устройство и развитая техника отменят тяжелый и длительный труд, предоставив мужчинам и женщинам столько же времени для отдыха, сколько сейчас имеют лишь привилегированные единицы. Никому в этом золотом веке не придется работать больше четырех-пяти часов в день. Остальное время будет принадлежать самому человеку, и он будет делать с ним все, что ему хочется.
Любому восприимчивому человеку это не может не понравиться. Кто-то совершенно уверен в собственном превосходстве, еще прежде чем принимает рабство, на котором может быть основано это превосходство. Бедняга Ницше закончил тем, что стал подписывать свои письма «Ницше Цезарь» и умер в сумасшедшем доме. Возможно, это цена, которую надо платить – скажем, интеллектуально развитым людям; дураки никогда не платят, так же как никогда ничего не получают – за свою неколебимую уверенность в превосходстве.
Однако доброе отношение к идеалу оставляет человеку право критиковать его; можно думать о нем очень хорошо, но из-за этого нельзя не думать. Большинство людей живут под грузом большого количества бессмысленной работы. Этот факт может и должен пробудить в нас негодование и жалость. Однако эти чувства не помешают нам подвергнуть критике проект, который замышлялся, чтобы изменить сегодняшнее положение вещей. Социальные реформаторы жаждут такого пересмотра трудовой повинности, чтобы все или почти все люди могли иметь столько же времени на отдых, сколько сегодня имеет бездельничающий класс. Однако сомнительно, несмотря на всю нашу симпатию, чтобы это было достигнуто.
Начнем с одного простенького вопроса. Что люди будут делать со свободным временем, которое им предоставят новое социальное устройство и умные машины?
Пророки будущего дают один ответ с небольшими вариациям, согласно собственным вкусам. Анри Пуанкаре, например, воображал, что люди будущего заполнят свободное время «размышлениями о законах природы». Мистер Бернард Шоу придерживается такого же мнения. Потеряв интерес, после того как им исполнилось по четыре года, к таким детским вещам, как любовь, искусство и общество себе подобных, Древние в «Обратно к Мафусаилу» посвящают свои долгие жизни мистической, загадочной красоте Космоса. Мистер Г. Дж. Уэллс в «Люди как боги» изображает расу химиков-атлетов и физиков-атлетов, которые расхаживают голыми и, в отличие от Древних мистера Шоу, между экспериментами занимаются сексом, не окрашенным любовью. Они также интересуются искусством и играют в разные игры.
Эти три ответа на наш вопрос выражают мнение большинства. Разные пророки могут по-разному относиться к значению той или иной деятельности, которая подходит под название «духовной», однако все согласны с тем, что «духовная» жизнь нашего потомства будет высокой. Они с жадностью будут знакомиться «со всем, что измышлено или сказано»; они будут приходить на концерты классической музыки; они будут заниматься искусствами и ремеслами (во всяком случае, пока это тоже не будет отнесено к детским забавам); они будут изучать науки, философию, математику и размышлять о прекрасных тайнах мира, в котором им посчастливилось жить.
Короче говоря, праздные массы будущего, которое, судя по всему, скоро наступит – почему бы нашим детям не дожить до четырехчасового рабочего дня? – будут делать все то, в чем наши теперешние привилегированные классы определенно не смогли преуспеть.
Сколько же праздных и привилегированных людей, имеющихся на сегодняшний день, проводят досуг в размышлениях о законах природы? Не знаю. Однако знаю то, что почти не встречал таких. Правда, многие посвящают себя благотворительности и даже любительским занятиям искусством. Тем не менее, все, кому приходилось сталкиваться с богатыми «художниками-любителями», знают, что многие из них «развивают искусства» из снобизма, что чаще всего у них ничего нет за душой и они громко лгут, изображая энтузиазм. Праздные люди относятся к искусству, как к бриджу, чтобы убежать от скуки. Искусство – вместе со спортом и сексом – помогает им заполнять пустоту в их существовании.
В Монте-Карло и Ницце много богатых людей, которые только и делают, что играют и занимаются сексом. Как сказано в моем путеводителе, только Монте-Карло ежегодно посещают два миллиона человек. Семь восьмых праздных жителей Европы должны каждый год бывать в этом городе. Пять тысяч джазовых оркестров ежедневно ублажают публику. Сотня тысяч автомобилей перевозит их на большой скорости с места на место. Большие объединенные компании предлагают все виды развлечений – от рулетки до гольфа. Легионы проституток собрались тут со всего мира, и к ним присоединилось много похотливых любительниц. Четыре месяца в год Французская Ривьера являет собой земной рай. А потом праздные богачи возвращаются в свои зимние дома, где их ждут не такие роскошные, но все же приятные succursales[48] оставленного ими рая.
В Монте-Карло праздные богачи, как мне говорили, боролись со скукой и серьезными мыслями с помощью игры и секса. Среди них тоже много «артистических» натур. Однако, как мне кажется, не стоит искать в Монте-Карло лучших из их представителей. Чтобы увидеть их, надо ехать во Флоренцию, ибо там дом всех тех, кто восхищается и маджонгом и Фра Анджелико. За чаем с булочками они обмениваются мнениями, если слишком стары для любви, о более молодых и похотливых коллегах, а также изображают что-то акварелью и читают «Цветочки» святого Франциска.
Я хочу быть справедливым по отношению к праздным богачам, потому не могу не упомянуть то почтенное меньшинство, которое занимается благотворительностью (не говоря о деспотах), политикой, местной властью и, что еще реже, изучением гуманитарных или других наук. Я не употребил слово «служение», потому что его так часто употребляют в качестве идеала до того никчемные владельцы газет, тупоголовые бизнесмены и профессиональные моралисты из Христианского союза молодых людей, что оно потеряло свой изначальный смысл. «Идеальное служение», если верить современным мессиям, достижимо для тех, кто занимается эффективным и прибыльным бизнесом, но достаточно честно, чтобы не попасть в ад. Обычное дело, например держать магазин, теперь возведено чуть ли не в высшую добродетель. Идеал служения, которого придерживаются многие представители английского праздного класса, не имеет ничего общего с идеалами служения, так часто упоминаемыми рекламщиками из американских журналов. Если я не проясню свою позицию, мои похвалы могут быть восприняты если не обидными, то совершенно недостаточными.
На свете живет замечательное меньшинство. Но даже если все рассказать о нем, то все равно трудно утверждать, будто праздный класс нашего времени так же, как всех остальных известных нам времен, может рекламировать праздный образ жизни. Наблюдение за времяпрепровождением богатых бездельников в Монте-Карло и даже художников-богачей во Флоренции не веселит душу и не поднимает настроение. И нас ни в чем хорошем не убеждает времяпрепровождение непраздных бедняков между работой и сном. Они смотрят, как другие играют, ходят в кино, читают газеты и посредственные романы, слушают концерты по радио и граммофонные пластинки, переезжают с места на место в поездах и автобусах – думаю, я перечислил все занятия, которым непраздные люди предаются на досуге. От занятий богачей их отличает лишь дешевизна. Ну, продлим отдых – и что будет? Надо будет строить новые кинотеатры, открывать новые газеты, издавать больше плохих романов, выпускать больше радиоприемников и недорогих автомобилей. Если с праздностью будет больше богатства и лучше образование, тогда должно быть больше Русских Балетов и больше фильмов, больше газет типа «Таймc» и «Дэйли мэйл», больше казино, больше букмекерских контор, больше футбольных матчей, больше дорогих опер, больше граммофонных пластинок, больше Хью Уолполов и больше Нэтов Гулдов. Если все остальное, кроме времени, останется неизменным, то и от результатов нечего ждать ничего нового. Что бы там ни говорили, если брать во внимание историческое время, человеческая натура ни чуточки не изменилась. Баран и есть баран, как сказал бы Ланселот Гоббо[49]…
Нам придется признать, что увеличение свободного времени приведет, соответственно, к увеличению душевных расстройств – скажем, к скуке, беспокойству, тоске, общей усталости, – что так свойственно праздным классам и сегодня, и в прошлые времена.
Еще одним результатом праздности, если ее будет сопровождать более или менее высокий стандарт жизни, станет возросший интерес к тому, что представляет собой рабочий класс с точки зрения его сексуальной природы. Любовь во всей ее сложности и роскоши расцветет в обществе сытых и не занятых работой людей. Почитайте литературу, написанную для праздных классов, и сравните ее с популярной литературой для рабочих. Сравните «Принцессу Клевскую» с «Путем паломника», Пруста с Чарлзом Гарвисом, «Троила и Крессиду» Чосера с балладами. Сразу же становится ясно, что праздные классы всегда с большим и, так сказать, более профессиональным интересом, чем работающие люди, относились к любви. Нельзя много работать и разыгрывать искусные любовные интриги. А ведь любовь, во всяком случае в том виде, в каком ее представляют неработающие женщины, это своего рода полноценная работа. Она требует и много свободного времени, и много сил. А ведь как раз их сейчас не хватает работающему человеку. Если же уменьшить количество часов, отдаваемых работе, у него будет и то, и другое.
Если завтра или спустя лет сорок всем людям, а не единицам, предоставится возможность вести праздную жизнь, результаты, насколько я понимаю, будут таковы: будет невероятная потребность в росте числа таких убийц времени и заменителей мысли, как газеты, фильмы, романы, дешевые средства связи и беспроводные телефоны; говоря в более общих терминах, возрастет потребность в спорте и искусстве. Увеличится интерес к искусству любви. И огромное количество людей, до сих пор свободных от душевных и нравственных проблем, ощутят влияние скуки, депрессии и общего неудовлетворения жизнью.
Собственно, если людей будут воспитывать, как сегодня, то большая часть если не посвятит свой досуг пороку, то уж точно глупостям, ерунде и, что еще хуже, прекрасно это осознавая.
Льву Толстому идея всеобщего досуга казалась нелепой и даже вредной. А социальных реформаторов, которым покоя не давал идеал в виде всеобщей праздности, он и вовсе считал сумасшедшими. Они, эти социальные реформаторы, хотели превратить всех людей в подобие богатых городских бездельников, среди которых Толстой провел свою юность и которых откровенно презирал. Он рассматривал их как заговорщиков против благополучия человечества.
Толстому казалось важным не то, что работающие должны иметь больше свободного времени, а то, что неработающие должны работать. Для него общественным идеалом был труд. Он хотел, чтобы все люди жили на земле и кормили себя тем, что сами выращивали бы на полях. Сочинители Утопий любят предвещать времена, когда люди покончат с натуральной едой и будут питаться чем-то синтезированным; а для Толстого эта мысль была отвратительна. И пусть он прав, пророки синтетической еды, вероятно, умеют предвидеть лучше него. Человечество, похоже, становится все более урбанизированным и не стремится пополнять ряды крестьян. Однако это не наша проблема. Нас интересует здесь отношение Толстого к праздности.
Нелюбовь Толстого к праздности исходила из его собственного опыта праздной юности и наблюдений за другими богатыми и праздными мужчинами и женщинами. Он делал вывод, что праздность, скорее, проклятие, чем благословение. Трудно, посещая Монте-Карло и другие земные райские места для бездельников, не согласиться с ним. Немногие могут работать, не будучи принуждаемы к этому. Праздность полезна для тех, кто желает, надо это или не надо, выполнять умственную работу. В обществе, состоящем исключительно из таких людей, праздность в самом деле будет благословением. Но такого общества никогда не было и, похоже, не будет в ближайшее время. Если вообще когда-нибудь будет…
Все же те, кто считают, что от пороков можно избавиться, если соответственно воспитывать людей, твердо верят в возможность такого общества. Оно и правда, наука образования пока еще находится в зачаточном состоянии. Мы владеем неплохими знаниями физиологии, чтобы придумывать гимнастические упражнения для развития тела. Однако наши познания в том, что касается разума человека, особенно растущего разума, далеко не так полны; но и те знания, которые мы имеем, не систематизированы и не приложены к образовательному процессу. Наш разум похож на неразвитое тело городского жителя – не развит и не эффективен. У огромного количества людей интеллектуальный рост прекращается еще в детстве, и они проживают свою жизнь с интеллектуальными возможностями подростков лет пятнадцати. Правильная гимнастика, основанная на знании психологии, могла бы помочь любому человеку достичь, по крайней мере, своего максимума. Великолепная перспектива! Однако наш энтузиазм к учению несколько ослабевает, когда мы осознаем, что такое максимум большинства. Люди, рожденные с талантами, по отношению к людям без врожденных талантов все равно, что гомо сапиенс по отношению к собаке в области своего таланта. В математике я собака в сравнении с Ньютоном, и собака в сравнении с Бетховеном – в музыке, собака в сравнении с Джотто – в живописи. Что уж говорить о сравнении с канатоходцем Блонденом, с игроком в бильярд Ньюманом, с боксером Демпси, с виноделом Рёскиным-отцом. И так далее. Даже если я буду блестяще образован в математике, музыке, живописи, хождении по канату, игре на бильярде, в боксе и виноделии, то все равно останусь обученной собакой в сравнении с необученной. Такая перспектива не внушает мне особенных иллюзий.
Образование помогает человеку максимально раскрыть свои умственные способности. Однако настолько ли велик этот максимум в большинстве случаев, чтобы позволить всему обществу жить в праздности, не развивая те предосудительные качества, которые всегда характеризовали праздные классы? Я знаю довольно много людей, получивших лучшее образование, какое только можно получить в наше время, и проводивших свой досуг так, словно у них вообще не было никакого образования. Значит, у нас плохое образование (хотя оно достаточно хорошее для людей талантливых и гениев, которые у нас есть); наверное, если бы сделать его по-настоящему эффективным, то и эти люди проводили бы свой досуг, размышляя о законах природы. Наверное. Но я в этом сомневаюсь.
Мистер Уэллс, который верит в воспитание и образование, удаляет свою утопию на три тысячи лет вперед в будущее; мистер Шоу, менее оптимистичный насчет природы и духовной эволюции, свою утопию удаляет на тридцать тысяч лет в будущее. Говоря с геологической точки зрения, эти времена примерно равны. Но, к сожалению, мы не ископаемые, мы – люди. Даже три тысячи лет для нас невероятно долгий срок. Небольшое утешение думать о том, что через три или тридцать тысяч лет человеческие существа, возможно, будут вести прекрасное рациональное существование. Людям свойственно думать только о себе, своих детях и детях своих детей. И они правы. Тридцать тысяч лет, может быть, и неплохо, однако эти неприятные геологические «минуты», отделяющие сегодня нас от счастливого будущего, еще надо прожить. И я предвижу, что одной из малых, или даже больших, проблем этого периода будет проблема досуга. К двухтысячному году везде будет установлен шестичасовой рабочий день, а еще через тысячу лет максимальный рабочий день укоротится до пяти часов, может быть, и меньше. У природы не хватит времени изменить духовную жизнь человека; а образование лишь превратит собак в ученых собак. Чем мужчины и женщины наполнят свой досуг? Будут ли они размышлять о законах природы, как Анри Пуанкаре? Или будут читать «Мировые новости»? Интересно.
Популярная музыка
Есть одна веселая, подпрыгивающая, жизнерадостная мелодия, которая известна всем, проведшим хотя бы пару недель в Германии или имевшим в детстве немецкую няню. Называется она «Ach, du lieber Augustin». Простенькая мелодия на три четверти такта; до того простенькая, что даже деревенский дурачок может напеть ее, едва услышав; да и эмоционально тоже очень простенькая, так что не дрогнет и сердечко даже самой чувствительной барышни. Рамти-тиддл, ам-там-там, ам-там-там, ам-там-там; рамти-тиддл, ам-там-там, ам-там-там, ТАМ. Она настолько по-веселому глуповата, что обезоруживает любого критика.
Теперь обратимся к истории. Песенка «Ach, du lieber Augustin» была сочинена в 1770 году и представляла собой первый вальс. Первый вальс? Мне приходится просить читателя промурлыкать мелодию, а потом припомнить любой современный вальс, который ему знаком. Разница между мелодиями собственно предмет, достойный размышлений.
Разница между «Ach, du lieber Augustin» и любым другим вальсом, сочиненным начиная с середины девятнадцатого столетия, заключается в том, что одна мелодия начисто лишена эмоциональной окраски, а другая насыщена любовным чувством, томлением и сладострастием. Чувствительная барышня, заслышав «Ach, du lieber Augustin», не испытывает ничего, кроме, может быть, воодушевления и веселья, но у нее сильнее бьется сердце от сладких нот современного вальса. Ее душа мчится прочь на волнах из сладкого сиропа; она дышат воздухом, напоенным ароматами амбры и мускуса. Родившись как симпатичная скромная мелодия, вальс вырос до страстной пьесы, каким мы теперь его знаем.
То же, что произошло с вальсом, происходит со всякой популярной музыкой. Когда-то она была невинной, а теперь стала провокационной; была ясной, понятной, а стала богато разряженной; была элегантной, а стала варварской. Сравните музыку «Оперы нищих» с музыкой современного ревю. Они различаются, как Эдемский сад и артистический квартал Гоморры. Эдемский сад просторен и прекрасен, а квартал в Гоморре шумен и похотлив в сознательной дикости.
На низшем уровне эволюция популярной музыки происходила параллельно с эволюцией серьезной музыки. Авторы популярных мелодий не настолько талантливы, чтобы изобрести новые формы музыкального выражения. Они только и делают, что адаптируют открытия настоящих гениев под вульгарный вкус. В конце концов, пусть не прямо, но Бетховен ответственен за сладострастный вальс, за дикий джаз, за все сентиментальное и жестокое в современной музыке. Он ответственен, потому что именно он первым изобрел по-настоящему эффективные способы для прямого выражения эмоций. Бетховенские эмоции, как правило, благородны; более того, он был слишком умным композитором, чтобы не обращать внимания на формальную, архитектурную сторону музыка. Но, увы, он сделал возможным для не столь умных композиторов выражать в музыке экзальтированные страсти и вульгарные эмоции. Он сделал возможным слабую чувствительность Шумана, барочную грандиозность Вагнера, истеричность Скрябина, он сделал возможными вальсы всех Штраусов от «Голубого Дуная» до вальса из «Саломеи». И он же сделал возможными такие шедевры популярной музыки, как «Ты заставила меня влюбиться» и «Черная, как уголь, мама моя».
За насыщение музыки вибрирующей сексуальностью Бетховен, вероятно, несет меньшую ответственность, чем итальянцы девятнадцатого столетия. Мне не раз приходилось задавать себе вопрос, почему оперы Моцарта менее популярны, чем оперы Верди, Леонкавалло и Пуччини. Трудно назвать более «хватающие за душу» мелодии или их большее количество, чем в «Фигаро» или «Доне Джованни». Эта музыка, хоть и «классическая», не загадочна и не очень сложна. Наоборот, она ясная и простая той простотой, которая подвластна лишь гению. И все же на одно исполнение «Дона Джованни» приходится сто исполнений «Богемы». «Тоска» раз в пятьдесят популярнее «Фигаро». Если взглянете на каталог граммофонных пластинок, то обнаружите, что за время продажи трех пластинок «Волшебной флейты» продаются тридцать пластинок «Риголетто». На первый взгляд, это изумляет. Однако причина лежит на поверхности. Со времен Моцарта композиторы научились искусству делать музыку более хриплой и более сексуальной. Арии, написанные Моцартом, прекрасны, ясны и чисты, что делает их пресными в сравнении с душераздирающими мелодиями итальянцев девятнадцатого века. Привыкшая к более крепким напиткам, публика не берет кристально-чистые песни Моцарта.
Ни одно эссе на тему современной музыки не может быть полным без упоминания Россини, который был, насколько мне известно, первым композитором, показавшим, какое очарование кроется в вульгарных мелодиях. До Россини эти мелодии частенько были поразительно банальными и дешевыми, но никогда в них не было низкой вульгарности, присущей некоторым из наиболее успешных мелодий Россини и представляющейся нам непременным качеством современной музыки. Методы, которыми Россини пользовался для достижения своей мелодической вульгарности, не так-то легко проанализировать. Полагаю, его величайший секрет заключается в коротких и легко запоминаемых фразах, часто повторяемых в разных тональностях. Однако легче объяснить на примере. Вспомните первую арию Моисея из «Моисея в Египте». Мелодия на редкость вульгарна и совершенно непохожа на популярные мелодии более раннего времени. Она близка к современным популярным мелодиям. Сегодняшний умопомрачительный успех Россини связан с изобретением им вульгарных мелодий. Прежде вульгарным людям приходилось удовольствоваться изящными мелодиями Моцарта. Но пришел Россини и дал им другую музыку. В том, что мир пал и из благодарности стал поклоняться ему, нет ничего удивительного. И если он давно перестал быть популярным, то лишь потому, что потомки, восприняв его уроки, достигли в его вульгарной манере такого триумфа, о котором он и не мечтал.
Варварство вошло в популярную музыку из двух источников – из музыки варварских народов, например негров, и из серьезной музыки, которая обратилась к варварству за вдохновением. Техника эффективной интерпретации варварской музыки пришла, естественно, из музыки серьезной. В совершенствовании же этой техники больше всех остальных сделали русские композиторы. Если бы не жил на свете Римский-Корсаков, не существовала бы современная танцевальная музыка.
А вот приучившись к напористому, чисто физиологическому музыкальному стимулированию, какое представляет собой современная джазовая музыка с ее ударными, с ее ритмическим грохотом и завывающими переходами, вернется ли мир к чему-то менее прямолинейному, предсказать не может никто. Даже серьезные музыканты, кажется, находят трудным противостоять варварству. Несмотря на монотонность и устрашающее отсутствие изящества, они тянутся к русской манере, как будто нет ничего поинтереснее и посимпатичнее. Когда мальчиком я впервые услышал русскую музыку, меня захватила ее дикая мелодичность, ее неумолимые ритмы. Однако мое восхищение уменьшалось с каждым новым прослушиванием. Сегодня никакая другая музыка не кажется мне более скучной. Цивилизованный человек может получать удовольствие только от цивилизованной музыки. Если вас заставят каждый день слушать одно и то же, выберете вы «Oiseau de Feu»[50] Стравинского или «Gross Fugue»[51] Бетховена? Несомненно, вы выберете фугу, хотя бы за ее сложность и за то, что в ней гораздо больше заложено для работы мысли, чем в слишком простых русских ритмах. Похоже, композиторы забывают, что мы, несмотря ни на что, даже, может быть, несмотря на нашу внешность, все еще цивилизованные люди. Они отдают нас на растерзание не только русской и негритянской музыке, но и кельтским кошачьим концертам, и нестерпимым испанским завываниям с ритмичными кастаньетами и дисгармоничными гитарами. Когда серьезные композиторы вернутся к сочинению цивилизованной музыки – а некоторые из них уже отворачиваются от варварских мелодий, – мы, возможно, услышим изменения в сторону изысканности в популярной музыке. Но пока серьезные музыканты не меняются, нелепо было бы думать, что изменятся вульгаризаторы.
Загадка театра
Случилось так, что во времена моей неправильной жизни я побывал в театре примерно двести пятьдесят раз за год. Естественно, этого требовали мои обязанности; вряд ли кто-то проделает такое из удовольствия. А мне за это платили.
К концу года – и задолго до того, как наша планета обошла вокруг Солнца, – я пришел к выводу, что платят мне недостаточно; правда, за эту работу никаких денег не будет достаточно. Короче говоря, я перестал ходить по театрам; и теперь ничто не заставит меня повторить тогдашний опыт.
С тех пор я хожу в театр не чаще трех раз в год.
Но есть люди, которые посещают все премьеры, причем не из необходимости, не потому что им надо зарабатывать на хлеб насущный, а потому что им это нравится. Им не платят за походы в театр; они сами платят за это, как за особую привилегию. Неисповедимы пути людские.
Вот об этой загадке я частенько размышлял – по возможности абстрагируясь от наполнявших меня ужасов – во время самых мучительных пассажей в тех пьесах, которые я был вынужден смотреть. Вокруг меня в креслах – так я думал – сидели несколько сотен благополучных и образованных зрителей, которые заплатили свои деньги, чтобы посмотреть бессмысленную чушь (ибо мне кажется, что эта пьеса была одной из девятнадцати ей подобных или двадцатой в стиле «Дома, где разбиваются сердца» или «Дома миссис Бим»). Эти люди у себя дома предпочитают читать первоклассные романы, во всяком случае, не худшие. И они ужасно рассердятся, если им предложить грошовую книжку.
Все же эти читатели почтенной литературы ходят в театры (запомните, без принуждения), чтобы посмотреть пьесы, которые находятся на уровне дешевых романов, ими же презираемых – на полном основании и совершенно справедливо.
К романам они предъявляют определенные требования: хотя бы минимум правдоподобия, заслуживающие доверия персонажи, приличный слог. Они бы не стали читать невероятную историю с кукольными персонажами, которых приводят в движение нелепые условия бытия и которые выражают себя на гротескном, напыщенном, неправильном английском языке. Однако посмотреть пьесу с теми же характеристиками ходят тысячи. Их трогают до слез ситуации, которые в романах те же люди сочли бы смехотворными. Им нравится, они восхищаются языком, от которого любой, имеющий хотя бы минимальное чувство языка, содрогнулся бы, прочитав в книге.
Именно об этой странной аномалии я размышлял, проводя ужасные вечера в театре. Почему дешевые романы вызывают отвращение у тех, кто получает от них же удовольствие, когда они представлены на сцене? Правда, эта проблема не так уж неинтересна?
Мистер Бернард Шоу сказал, что легче написать роман, чем пьесу; и чтобы показать, какого труда стоит драматургу вложить многостраничные никчемные описания в несколько строчек диалога, он переписал в современном духе одну сцену из «Макбета». Замечу, что Шекспир выбран удачно для сравнения. Не буду спорить, плохой роман написать проще, чем хорошую пьесу. Но, с другой стороны, гораздо легче написать плохую пьесу, обреченную на успех – даже в расчете на умную и разборчивую аудиторию, – чем плохой роман, который сможет очаровать такую же аудиторию. Драматургу нужно создать нечто такое, в чем персонажи исключительно карикатурны, язык хуже напыщенной риторики и нет никакой правды жизни – а есть лишь одна игра положений. Романисту это не сойдет с рук.
Об этом мне вспомнилось (еще раз), когда я пошел в театр в Парме, но не в большой театр, а в маленький современный театрик, посмотреть итальянскую версию одной из пьес сэра Артура Пинеро – «Порядок в его доме», если я правильно запомнил по-английски. Признаюсь, постановка мне в целом понравилась. Английский Хиглиф, если поглядеть на него глазами гастролирующей труппы, заслуживал столь дальнего путешествия из самой Англии. Но, слушая, я не мог не удивляться тому, что такая пустышка – в Парме подсознательный юмор и хорошая игра стали случайными дополнениями к никчемному оригиналу – могла и может иметь оглушительный успех. В качестве трудолюбивого романиста я завидовал счастливчикам-драматургам, которые могут сочинять популярные и даже высокоценимые произведения, в которых персонажи – деревянные куклы или карикатуры, язык отвратителен, а сюжет – набор дешевых эпиграмм и обстоятельств, известных как игра положений. Если бы мне разрешили написать роман из подобных ингредиентов, я бы поздравил себя с тем, что отделался на редкость дешево.
Что же или кто позволяет драматургу вкладывать так мало в текст и все же ловить удачу? Конечно же, живые исполнители. Если драматург знает прием – а он узнает его с опытом, – то может передать актерам большую часть своей ответственности. Все, что от него требуется, если он ленив, придумать несколько интригующих положений и предоставить актерам разбираться с ними. Живые персонажи, правдоподобие, идеи, хороший слог и все остальное – дело писателей, работающих для печатного станка, а драматург прекрасно понимает, что публикой владеют актеры и ей ни к чему эти литературные пустяки.
Именно актеры представляют разборчивой публике ту чушь, которая находит себе место на сцене. Ради комедиантов зрители партера, которые могли бы, если бы сидели возле своих каминов, читать, скажем, Уэллса или Конрада, или Д. Г. Лоренса, или даже Достоевского, отправляются смотреть драматические эквиваленты дешевых романов или комиксов ради живых улыбающихся комедиантов, ради живого воплощения, ради живой ноты.
Будь исполнение всегда первоклассным, я бы понял ожесточенных посетителей премьер – скорее, слабых: ведь современный театр расслабляет сильнее тоника и смягчает сильнее вяжущего средства. На хорошую актерскую игру стоит посмотреть, как и на любое представление других искусств.
Но настоящие актеры редки так же, как настоящие живописцы и писатели. В каждом поколении случаются два-три таких. Мне пришлось видеть немногих. Например, Гитри. И Мэри Ллойд, великолепную, многоплановую, шекспировскую Мэри, увы, покойную – увы, рано умершую; car elle etait du monde ou les plus belles choses ont le pire destin[52]. И Крошку Тича. И Ракель Меллер, великолепную актрису-декламатора и киноактрису, самую утонченную, самую благородно-аристократическую в интерпретации страсти, какую мне когда-либо приходилось видеть; une ame bien nee[53], если такая когда-либо была. И Чарли Чаплина. Все они – и мужчины, и женщины – гениальны.
Их представления, конечно же, надо смотреть. Есть и не столь великие актеры, даром которых нельзя не восхищаться. Я с большим удовольствием заплачу деньги, чтобы посмотреть, как они исполняют чепуху, чем заплачу за хорошую пьесу в плохом исполнении (удивительно, насколько хорошая пьеса зависит от игры актеров). Но зачем платить деньги и смотреть плохую, может быть, профессиональную, но не вдохновенную игру актеров в соединении с плохой пьесой – вот это я отказываюсь понимать.








