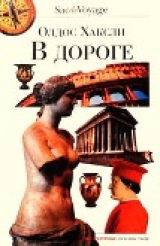
Текст книги "В дороге"
Автор книги: Олдос Хаксли
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Юношеское недоверие к реализму относится не только к современности, но и к прошлому. Из двух одинаково бездарных художников прошлого юноша, не размышляя, выберет того, кто менее реалистичен, более «примитивен». Конксолюса любят больше, чем его соперника из семнадцатого века, просто потом); что его фигуры не напоминают ни о чем прекрасном в природе, потому что он не имеет ни малейшего представления о свете и тени, потому что его композиции до ужаса симметричны, потому что эмоциональное содержание его исполненных христианского рвения полотен давно выветрилось, не оставив ничего, что могло бы пробудить в нас хоть какое-нибудь чувство – разве что знаменитый эстетический восторг, усердно насаждаемый молодыми.
Правда и условность в произведениях итальянских художников семнадцатого столетия совершенно невыносима. В надежде искусственно создать атмосферу страсти они заставляют своих персонажей дико жестикулировать, что выглядит крайне нелепо. Барочный и схожий с ним романтический стили более всего подходят для комедии. У Аристофана, Рабле, Нэша, Бальзака, Диккенса, Роулендсона, Гойи, Доре, Домье и безымянных творцов гротеска во всем мире и во все времена – творцов чистой комедии, будь то в литературе или в изобразительном искусстве, – всегда был экстравагантный, барочный, романтический стиль. И это естественно: для чистой комедии экстравагантность и преувеличение необходимы. А вот у истинных гениев (как Марло и Шекспир, Микеланджело и Рембрандт) этот стиль, если бы он служил для серьезных целей, был бы смешон. Почти все искусство барокко и почти все романтическое искусство более поздней эпохи были гротескными, потому что художники (не первого ряда) пытались выразить нечто трагическое, пользуясь чисто комическими приемами. В этом отношении творения «примитивистов» – даже второразрядных – предпочтительнее творений их потомков из seicento. Ибо в их живописных полотнах нет противоречия между стилем и предметом. Но это отрицательное качество, так как картины второразрядных примитивистов приятны на вид, однако невыразимо скучны. Работы более поздних реалистов могут быть вульгарными и даже в целом нелепыми, однако зачастую это искупается очарованием деталей. На полотнах второразрядных художников семнадцатого столетия, как правило, встречаются очаровательные пейзажи, необычные лица, странные сочетания света и тени: по правде говоря, это не искупает их посредственности, однако позволяет получать от них удовольствие. Работа Конксолюсов более ранних времен сама по себе вызывает почтение, однако их творения настолько скучны, что не спасают даже забавные или милые детали. Из-за своего нелепого аскетического недоверия к явно приятным вещам юное поколение лишает себя многих удовольствий. Оно утомляет себя скучными второразрядными Конксолюсами, тогда как могло бы получать удовольствие от таких же второразрядных художников, вроде Фетти, Караваджо, Розы да Тиволи, Карпиони, Гверчино, Луки Джордано и прочих. Если уж так необходимо изучать второразрядные произведения, – а при этом есть немало настолько хороших картин, что мимо них не пройдешь, – то разумнее взглянуть на те, которые могут хоть что-то дать (даже если лакомые кусочки спрятаны среди немыслимого кошмара), чем на те, от которых вовсе нет проку.
Лучшие картины
Добраться до Борго-Сан-Сеполькро не так-то просто. Из Ареццо туда ведет по горам до смешного короткая ветка железной дороги. Можно, правда, проехать из Перуджи по долине Тибра. Или, если вам случится оказаться в Урбино, то оттуда ходит автобус в Сан-Сеполькро, который потом отправляется обратно, и дорога по горам в один конец занимает часов семь, может быть, немножко больше. Это путешествие не шуточное, знаю по опыту. Но его стоит совершить – хотя желательно не на автобусе, а на каком другом транспорте – ради Бокка Трабариа, самой красивой дороги в Апеннинах, что проходит между долиной Тибра и расположенной выше долиной Метавро. Мы были там ранней весной. Наш автобус стонал и дребезжал, медленно поднимаясь по белому северному склону горы, среди голых камней, сухой травы и деревьев, на которых еще не распустились почки. Он пересек седловину и вдруг, словно по мановению волшебной палочки, все кругом стало желтым от бесчисленных примул: каждый их цветок был маленьким символом солнца, призывавшим его согреть землю.
Наконец мы добрались до Сан-Сеполькро – и что мы там увидели? Небольшой огороженный стеной городишко в широкой ровной долине между двух гор; несколько красивых дворцов эпохи Ренессанса с нарядными балкончиками, украшенными коваными решетками; не очень интересную церковь и, наконец, лучшую в мире картину.
Лучшая в мире картина – это фреска на стене в одном из залов Ратуши. Вскоре после того, как она была написана, какой-то невежественный вандал приказал ее закрасить, и она оставалась около двух столетий под толстым слоем штукатурки, после чего ее расчистили, и оказалось, что старая фреска прекрасно сохранилась. Благодаря вандалам посетитель Палаццо деи Консерватори в Борго-Сан-Сеполькро может любоваться воскресшей фреской почти в том же виде, в каком ее сотворил Пьеро делла Франческа. Она сияет со стен чистыми, изысканно сдержанными цветами, правда, не такими свежими, как прежде. Но ее не портили ни сырость, ни пыль. Нам не надо напрягать воображение, чтобы представить себе, как она была прекрасна: она перед нами во всем своем блеске – величайшая картина в мире.
Величайшая картина в мире… Улыбаетесь? Да, звучит нелепо. Нет ничего более бессмысленного, чем времяпрепровождение знатоков, составляющих первую, затем вторую десятку лучших художников, списки из восьми и четырех лучших музыкантов, пятнадцати лучших поэтов, выдающихся архитекторов и так далее. Нет ничего более бессмысленного, потому что сколько людей, столько и мнений. Кто лучше – Фра Анджелико или Рубенс? Такие вопросы бессмысленны. Все зависит от вкуса отдельно взятого человека. И с этой точки зрения все правы. Тем не менее, есть некий стандарт художественного мастерства. И он же, в качестве последнего прибежища, включает в себя нравственный стандарт. Хороша картина – или другое произведение искусства – или плоха, зависит исключительно от нравственных достоинств человека, выраженных в картине. Но это не значит, что все добродетельные авторы – гении, а гении исключительно добродетельны. Лонгфелло был плохим поэтом, а Бетховен недостойно вел себя со своими издателями. Однако можно быть недостойным по отношению к издателям и все же сохранять добродетели, необходимые настоящему художнику. Эта добродетель – честность по отношению к самому себе. Плохое искусство делится на два вида: скучное, глупое и некомпетентное, то есть негативно плохое, и позитивно плохое, то есть заключающее в себе ложь и притворство. Очень часто ложь преподносится настолько умело, что почти все в нее охотно верят – какое-то время. В конце концов ее, как правило, разоблачают. Меняется мода, публика учится смотреть на искусство с другой точки зрения и в том, что недавно представилось ей восхитительным волнующим творением, теперь она видит одно притворство. В истории искусств есть бесчисленные примеры подделок такого рода, сначала принятых с восторгом, а потом отвергнутых. Теперь уж забыты имена их авторов. И все же до сих пор иногда слышишь, будто Оссиана по-прежнему читают, будто Булвер – великий романист, а «Фестус» Бэйли – сильная поэма. Их двойники сегодня деловито зарабатывают признание и деньги. Меня часто мучает вопрос: может быть, и я один из них? Как знать? Можно быть жуликом, не желая обманывать, более того, изо всех сил стараясь быть честным.
Иногда шарлатаном оказывается перворазрядный художник, и тогда появляются такие странные фигуры, как Вагнер или Бернини, способные из фальшивого и театрального сотворить нечто почти великое.
Трудно отличить гения от жулика, это доказано тем, что люди постоянно ошибались и продолжают ошибаться. Честность, как я уже сказал, торжествует далеко не сразу. А в каждый данный отрезок истории большинство людей, если даже не предпочитает притворство честности, все же одинаково восхищается ими, поровну одаряя своим вниманием и то, и другое.
Ну а теперь, после этого небольшого отступления, возвратимся в Сан-Сеполькро к величайшей картине на земле. Она величайшая, со всех точек зрения величайшая, потому что создавший ее человек был благороден и честен, равно как и талантлив. Она трогает меня больше всех остальных картин, так как у ее автора было больше, чем у любого другого художника, тех черт характера, которыми я восхищаюсь в первую очередь, а его эстетические устремления – из тех, какие я, по своей природе, лучше всего понимаю. Естественное, спонтанное, непретенциозное величие – это главное качество всех работ Пьеро делла Франческа. Он величествен, не будучи искусственным, театральным и истеричным – как величествен Гендель, но не Вагнер. Пьеро достигает величия естественно, каждым движением, не гонясь за ним специально. Подобно Альберти, с архитектурными работами которого, как я надеюсь показать, у его картин много общего, Пьеро, должно быть, вдохновлялся тем, что я называю религией героев «Жизнеописаний» Плутарха – не христианством, а поклонением прекрасному в человеке. Даже его картины, написанные на христианские сюжеты, на самом деле пеан человеческому достоинству. К тому же Пьеро умен и образован.
Его почти не интересуют житейские и религиозные драмы. Даже батальная живопись в Ареццо в целом не драматична, хотя художник изображает множество драматических ситуаций. Вся суматоха, все чувства слагаются в единое разумное целое. Это как если бы Бах сочинил увертюру «1812 год». И две прекрасные картины в Национальной галерее – «Рождество» и «Крещение» – ценятся не за их религиозный смысл и не за эмоциональность. На потрясающей картине «Бичевание» в Урбино изображение самого события отступает назад и влево, уравновешивая три загадочные фигуры, которые находятся на переднем плане справа. Пожалуй, тут нет ничего, кроме эксперимента в композиции, однако он столь поразительный и успешный, что мы не сокрушаемся об отсутствии драматизма действа и полностью удовлетворены увиденным.
«Воскресение» в Сан-Сеполькро более драматично. Пьеро использовал простую треугольную композицию, символичную для этой темы. В основании треугольника находится гроб; вокруг спят солдаты, они составляют две стороны треугольника, сходящиеся вместе, а вершина треугольника – лицо восставшего Иисуса Христа; в правой руке у него флаг, левая нога поднята и поставлена на край гроба, словно он готов выйти к миру. Никакая другая геометрическая композиция не могла бы быть проще и удачнее. Однако человек, который поднимается из гроба на наших глазах, – скорее персонаж Плутарха, чем Иисус Христос общеизвестной религии. У него отлично вылепленное тело, словно тело греческого атлета, такое сильное, что рана на нем выглядит как бы неуместно. Лицо Христа строгое и печальное, глаза – холодные. Вся фигура выражает физическую и интеллектуальную силу. Здесь изображено воскрешение классического идеала, куда более могучего и прекрасного, чем классическая реальность – он восстает из гроба, куда его положили много сотен лет назад.
С эстетической точки зрения работа Пьеро очень напоминает работу Альберти: здесь художник тоже имеет дело с формами. Пьеро делла Франческа по отношению к своему современнику Боттичелли является тем же, чем Альберти по отношению к Брунеллески. Боттичелли был, в первую очередь, рисовальщиком, создателем податливых упругих линий, думающим арабесками на плоской поверхности. Пьеро, напротив, любил тяжелые, объемистые формы. В его работах есть нечто, напоминающее египетскую скульптуру. Он, как египтяне, любит гладкие округлые поверхности, которые служат внешним символом выразительности тяжелых масс. Лица его персонажей словно вырезаны из твердого камня, который плохо приспособлен для изображения деталей: для передачи впадин, морщин – линий реальной жизни. Его лица идеальны, как лица египетских богов и царей, их очертания словно образованы геометрически правильными кривыми. Поглядите, например, на женские лица на фреске Пьеро в Ареццо под названием «Царица Савская возле священного древа». Они все поразительно похожи: высокие округлые гладкие лбы, шеи – ровные цилиндры из полированной слоновой кости, из середины глазных впадин поднимается единая, не прерывающаяся линия выпуклых век, щеки тоже гладкие, и всего одним искусным изгибом форма подчеркнута лучше и точнее, чем самой эффектной игрой света и тени на картинах Караваджо.
Любовь Пьеро к массивным формам выдает себя не менее ощутимо и в изображении одежды, драпировке. Замечено, например, что, если позволяет сюжет, Пьеро старается надеть на своих персонажей такие головные уборы, которые своей массивной и геометрически правильной формой напоминают странные ритуальные уборы или тиары на статуях египетских царей. Кое-какие из фресок в Ареццо могут подтвердить мои слова. На той, что изображает Ираклия, возвращающего Святой Крест в Иерусалим, все церковные мужи в невероятно высоких головных уборах в форме конуса, раструба и даже прямоугольника. Они написаны очень гладко и, как очевидно, с особым интересом к их массивным формам. Один или два похожих головных убора и множество вариантов потрясающих округлых шлемов любовно изображены на батальных полотнах, собранных там же, в Ареццо. Герцог Урбино на хорошо известном портрете, что находится в Уфицци, – в красном головном уборе, несколько напоминающем формой «бродрик» современного английского солдата, но без острия наверху – цилиндр, плотно обхватывающий голову и увенчанный диском. Его гладкая округлая поверхность притягивает взгляд. Но Пьеро не оставляет без внимания и покрывала на женских фигурах. Легкие, батистовые, они задрапированы в жесткие складки, словно это не батист, а железо. Из одежды его особенно привлекают лифы со складками и туники. Изогнутые линии лифа завораживают его, и он искусно изображает складки, повторяющие изгибы тела. Драпировки делает особенно тяжелыми и роскошными. Наверное, его лучшую драпировку можно было когда-то увидеть на картине в алтарной части церкви Мадонны делла Мизерикордиа, правда, теперь это полотно висит рядом с «Воскресением» в Ратуше Сан-Сеполькро. Центральная фигура на этой ранней картине Пьеро – Дева Мария, стоящая с простертыми руками и словно укрывающая две группы просителей своим синим плащом. Тяжелые складки плаща и платья Марии образуют внизу незамысловатые перпендикулярные линии, наподобие желобков на одежде древней бронзовой фигурки возницы в Лувре. С особым удовольствием Пьеро писал эти выпуклые и вогнутые поверхности.
У меня не было намерения писать трактат о Пьеро делла Франческа; это уже делали достаточно часто и достаточно плохо, чтобы я почувствовал желание похоронить хорошего художника под еще несколькими слоями путаных комментариев. Мне всего лишь хотелось изложить причины, почему я люблю его работы и почему считаю «Воскресение» величайшей картиной на земле. В самой его личности меня привлекают интеллектуальная сила, способность к неаффектированному, но великому и благородному жесту, гордость за все, что есть прекрасного в человечестве. В нем как художнике меня особенно привлекает его любовь к тяжелым формам, его гладкие изогнутые поверхности, его композиции. Лично я предпочитаю его работы работам Боттичелли, и если бы потребовалось принести в жертву все творения Боттичелли, чтобы спасти «Воскресение», «Рождество Христово», «Мадонну делла Мизерикордиа» и фрески в Ареццо, я бы, не раздумывая, предал огню «Весну» и все остальное. К несчастью для репутации Пьеро, у него сравнительно мало работ, да и те не очень доступны. Если не считать «Рождества Христова» и «Крещения», что находятся в Национальной галерее, все остальные значительные творения Пьеро – в Ареццо, Сан-Сеполькро и Урбино. Портреты герцога и герцогини Урбино, что в Уфицци, при всем к ним уважении, прелестны и очаровательны, однако это не лучшие творения Пьеро. Алтарь в Перудже и «Мадонна со святыми и жертвователем» в Милане не дотягивают до уровня перворазрядных картин. Неплохи «Святой Иероним» в Венеции и попорченная фреска с изображением Малатесты в Римини. В Лувре нет ничего, а Германия может похвастаться лишь архитектурным эскизом, но менее интересным, чем тот, что хранится в Урбино. Любой, кому захочется получше узнать Пьеро, должен ехать из Лондона в Ареццо, Сан-Сеполькро и Урбино. Сегодняшний Ареццо – довольно унылый город, к тому же настолько неблагодарный по отношению к своим знаменитым сыновьям, что в нем даже нет памятника благословенному Аретино. Я порицаю Ареццо, но тем не менее в Ареццо надо ехать, чтобы посмотреть самые значительные творения Пьеро. Из Ареццо неплохо бы отправиться в Сан-Сеполькро, где есть только одна сносная гостиница и куда трудно добраться, если только не путешествуешь в своем автомобиле, а потому вынужден там задержаться. Из Сан-Сеполькро автобус за семь часов довезет через Апеннины до Урбино. Здесь, правда, есть не только два прекрасных Пьеро («Бичевание» и архитектурный эскиз), но и один из лучших дворцов в Италии и почти приемлемый отель. Урбино производит впечатление даже на самого безразличного и пресыщенного туриста, в Урбино нельзя не побывать, его непременно надо посмотреть. Однако в случае с Ареццо и Сан-Сеполькро никаких моральных принуждений нет. Соответственно, немногие туристы берут на себя труд их посетить.
Если главные работы Пьеро можно было бы посмотреть во Флоренции, а работы Боттичелли – в Сан-Сеполькро, не сомневаюсь, что отношение к этим двум мастерам кардинально изменилось бы. Английские старые девы, которые жить не могут без искусства, восторженно поклонялись бы «Возвращению Креста», а не «Весне». Восторг зависит от количества звезд в бедекере, а эти звезды распределяются в первую очередь между памятниками искусства в доступных местах. Если бы Капелла дель Арена находилась в горах Калабрии, а не в Падуе, мы бы куда меньше знали о Джотто.
Довольно. Появляется тень Конксолюса, чтобы не дать мне совершить ошибку тех, кто оценивает достоинства по шкале необычности и редкости.
Источник вдохновения
«Малое знание – дело опасное», – сказал Поуп. Кому, как не ему, взявшемуся переводить Гомера, не зная (хотя бы из практических соображений) ни слова по-гречески, это может быть лучше известно? «Пейте много (это идет из самой души переводчика), или не прочувствуете силу пиерийского источника».[36] Пейте много. Неплохой совет, если под рукой всегда есть крепкие напитки. А вода из источника вдохновения – это крепкий напиток? Вот в чем вопрос. Не всякий целебный источник полезен всем без разбора. Кое-кто из привыкших с пользой для себя пить воду Карлсбада или Монтекатини[37] может умереть от воды Бата. Точно так же и источник вдохновения полезен не всем. Философу и ученому можно пить вволю, и это им ничем не грозит. И поэту вода из этого источника не причинит вреда: его природный дар обогатится кое-каким знанием. Политику неплохо бы пить из него чаще и регулярнее, чем он обычно это делает. Бизнесмен в источнике может поискать «профит», но может и просто пить как любитель, для удовольствия. Однако есть люди, для которых источник вдохновения смертельно опасен. Художнику ни в коем случае нельзя из него пить.
Два века прошли с тех пор, как Поуп предостерег своих читателей относительно опасности малого знания. История этих двух веков, особенно последних пятидесяти лет, доказала, что для художника иметь мало знаний так же опасно, как много. Много знаний – даже опаснее.
Что бывает, когда художник много пьет из источника вдохновения, я могу объяснить на примере выставки Искусств и ремесел, которую мне довелось посетить пару лет назад в Мюнхене. Это была обширная выставка. Мебель, украшения, керамика, текстиль – все это было представлено в больших количествах. Выставлялись исключительно немцы, одни только немцы. И все же горшки и миски, кресла и столы, кружева, картины, резные и кузнечные работы говорили на множестве языков, не считая родного тевтонского. Арии, монголы, евреи, банту, полинезийцы, майя – мюнхенские носки и камни говорили на всех языках. Например, там был мексиканский горшок, украшенный мавританскими арабесками, греческая статуэтка шестого века, очень напоминающая бенинскую. Крестьянский стол из Черного Леса стоял на египетских ножках, да и распятие вполне могло быть вырезано китайским художником, жившим во времена династии Тан и проведшим год в Италии в качестве ученика Бернини. Козел, женщина, лев, грифон, на каждом шагу химеры и эмпусы[38]. И ни одна (вот в чем ужас, ибо успех оправдывает все), ни одна из этих работ не была доброй.
Именно в Германии с наибольшей очевидностью проявилась опасность больших знаний. В этой стране охотнее всего пили из источника вдохновения. За последние пятьдесят лет немецкие издатели выпустили в свет в шесть раз больше иллюстрированных монографий, чем напечатано во Франции, и по меньшей мерев двенадцать раз больше, чему нас в Англии. С неутомимым трудолюбием и энтузиазмом, которые не остудили ни война, ни мир, немцы фотографировали художественное наследие всех народов, живших прежде и живущих поныне на земле. Они издавали эти фотографии небольшими книжечками с научными предисловиями, которые продавались тогда по марке за штуку и которые теперь стоят, скажем так, не больше пятнадцати-двадцати миллиардов. Немцы больше всех других народов мира знают о художественных стилях прошлых времен – и их собственное искусство сегодня настолько безнадежно скучное, насколько только может быть народное национальное искусство. Если прибегнуть к математическим терминам, то их унылое искусство – это функция от их просвещенности.
То, что случилось в Германии, случилось, хоть и в меньшей степени, во всех странах. Мы слишком много знаем, и наши знания мешают нам – если только мы не исключительно независимы и не исключительно талантливы – создавать стоящие произведения искусства.
Еще совсем недавно ни один европейский художник не знал или не считал нужным знать что-нибудь, кроме искусства своего континента. Даже если и знал, то очень мало. Например, в шестнадцатом веке скульптор имел представление о греческом искусстве – скорее, о римских копиях греческих скульптур определенного периода. А вот о готическом искусстве даже собственной страны он почти ничего не знал, но и то, что видел, считал варварским. Тогда не было фотографий и было совсем немного гравюр. Скульптор эпохи Ренессанса работал, не ведая, чем занимались другие скульпторы в другие времена или в других странах. А посему он мог сосредоточиться на том, что ему казалось предпочтительней – на классике, – и работать на ее основе, пока не исчерпает ее потенциальных возможностей.
С архитектурой произошло еще нечто более примечательное. В течение трехсот лет в Европе непререкаемым авторитетом пользовались классические законы. Готику с презрением забыли. О других стилях никто понятия не имел. Поколение за поколением архитекторов работало в одном направлении. Но до чего же разнообразных результатов они достигли! Используя одинаковые классические образцы, архитекторы создавали совершенно оригинальные и непохожие друг на друга здания. Брунеллески, Альберти, Микеланджело, Пьетро да Кортона, Кристофер Рен, Адам, Нэш – все эти архитекторы работали в одной классической традиции, создавая уникальные шедевры, один не похожий на другой.
Все это были гении, которые создавали бы шедевры в любых условиях. Что удивляет – так это достижения малых художников. В течение этого долгого периода даже работы ремесленника обрели качества, которые мы напрасно будем искать в творениях второразрядных художников наших дней. Благодаря отсутствию отвлекающих знаний, даже не очень талантливые люди в своих работах достигали высокого уровня. Они полностью сосредоточивались на том, чтобы извлечь максимум из собственной головы.
До чего же теперь все по-другому! Сегодняшний художник умеет – скажем, его научили – ценить художественные достижения всех народов, когда-либо обитавших на земле. Для него не существует одной правильной традиции; тысяча традиций требует его почтительного отношения, потому что все они подарили человечеству шедевры. Нет больше благословенного невежества, исчезло здоровое презрение ко всем традициям, кроме одной-единственной. Сегодня традиции нет или есть сотня традиций – что, в сущности, одно и то же. Знания, обретенные художником, отвлекают его, он напрасно растрачивает энергию. Вместо того чтобы всю жизнь систематически работать в одном направлении, он беспокойно мечется между всеми известными стилями, не решаясь выбрать ни один и заимствуя из всех.
Однако в искусстве нет коротких путей к успеху. Нельзя в течение получаса познать все секреты того или иного стиля, который был сотворен и доведен до совершенства стараниями многих поколений. За полчаса, правда, можно познакомиться с наиболее оригинальными чертами стиля – и потом создать карикатуру на него. Вот и всё. Чтобы понять стиль, надо посвятить себя ему, надо жить, если так можно выразиться, внутри него; надо сконцентрироваться на нем и много работать.
Однако концентрации как раз и мешают разнообразные знания – мешают всем, кроме очень талантливых и умных художников. Они-то способны взглянуть на себя со стороны. В каком бы физическом и духовном окружении они ни оказались, они себе не изменят. Знания оказывают разрушительное влияние на более слабых людей, на циников и ловкачей. В другом веке подобные им работали бы, не отвлекаясь, беря лучшее из какой-то одной традиции, стараясь и, главное, чаще всего достигая предела своих природных возможностей. А их потомки попытались извлечь лучшее сразу из нескольких десятков разных традиций. В результате появилась отвратительная выставка в Мюнхене. И такое бывает не только в Мюнхене, но и в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, во всем нашем просвещенном мире.
Тем не менее, можно получать знания, и они стали доступны. Их не прячут и не уничтожают. Нельзя вернуться в прежнее невежество, которое позволяло художникам прошлых времен годами, даже веками разрабатывать одну традицию. Знания принесли с собой беспокойство, неуверенность и возможность быстро сменить одну традицию на другую. За последние семьдесят лет сменилось бог знает сколько традиций! Прерафаэлиты, импрессионисты, приверженцы арт-ну-во, футуристы, постимпрессионисты, кубисты, экспрессионисты. Египтянам потребовалось бы не меньше ста веков, чтобы освоить такое богатство стилей. Сегодня мы изобретаем новый стиль, вернее, воскрешаем разные стили прошлого, используем их и отвергаем примерно раз в пять лет. Устойчивость старых традиций, утонченность вкуса, рожденные невежеством и нетерпимой изощренностью, канули в небытие. Вернутся ли они? В свое время художники, несомненно, вновь начнут пить из источника вдохновения. Наши головы постепенно переварят множество знаний и, проанализировав, разложат их по полочкам. Когда это произойдет, будет достигнута некая устойчивость, а возможно, это будет неуклонное, но медленное движение, потому что природа не стоит на месте. А пока что нам придется жить в эпоху рассеянной энергии, эксперимента и стилизации, беспокойства и безнадежной неуверенности.
Огромное пополнение наших знаний по истории искусств повлияло не только на самих художников, но и на всех, кто интересуется искусством. Ибо tout savoir est tout pardonner[39]; мы научились находить и ценить лучшее во всех стилях. Вольтеру и доктору Джонсону даже готическое искусство казалось варварством. Что бы они сказали, если бы мы попросили их восторженно оценить пластику полинезийской статуи или изображения животного, автор которого жил в доисторические времена? Благодаря знаниям мы можем с пониманием относиться к разным точкам зрения и ценить художественные стили непохожей на нашу культуры. Все это, вне всяких сомнений, неплохо. Однако наше понимание – весьма растяжимое понятие, тем более что мы очень боимся высказать нетерпимость к таким вещам, которые, при нашей всеядности, должны нам нравиться, даже если они не первоклассные.
Мы не довольствуемся тем, что стали ценить хорошие вещи, отвергнутые нашими предками. Аппетит приходит во время еды. Хорошего уже недостаточно, чтобы насытить нас; мы обязательно должны проглотить и плохое тоже. Чтобы оправдаться, мы придумали целую серию новых эстетических ценностей. Процесс, начавшийся некоторое время назад, идет по нарастающей, и теперь уже не осталось ничего, даже откровенно плохого, от чего мы не можем получать удовольствие.
Полагаю, исторически первой стадией разрыва со старыми стандартами вкуса было введение «колоритного». Колоритная вещь – вещь, отличающаяся качеством или набором качеств, более, чем обычных, нормальных. Природа этого явления, в общем-то, кроется в безразличии. Даже грязь в больших количествах может придать объекту некую колоритность. Идеальный колоритный предмет или сцена должны иметь несколько таких, но непременно контрастных качеств: например, избыток тени, контрастирующий с избытком света, избыток величия – с избытком убожества.
Нечто эксцентричное тоже может рассматриваться как колоритное, но с оттенком комического. Старые домишки, которые очень любил описывать Диккенс: дыры, углы, странные происшествия – типичный пример эксцентричного. В эксцентричном всегда есть что-то уютное, домашнее, что-то – пусть даже в комическом смысле – добродетельное, смешное, но доброе, как Том Пинч в «Мартине Чезлвите». Это викторианский средний класс превратил эксцентричное в стандарт эстетического совершенства. Благодаря своей любви к оригинальности, помноженной на любовь к колоритности, он заставил восторгаться множеством вещей, не имеющих отношения к искусству. То, что я называю «художественными ремеслами» или «народными промыслами» – это толстовская разновидность эксцентричного.
Великим изобретением более позднего времени стало «занимательное». По своей сути это предельно утонченный, высококлассный стандарт в оценке художественных произведений. Все, что плохо в искусстве, но с позитивным, а не негативным оттенком, вроде респектабельной скуки, может быть названо занимательным. Например, Вордсворт, когда пишет плохо, вовсе не занимателен. А вот Мур занимателен, потому что плохое у Мура – от его времени: очень колоритно, манерно и сладко. Вордсворт же плох и хорош на все времена. «Духовные сонеты» просто-напросто провальны, так же как лучшие куски из «Прелюдии» и «Прогулки» – совершенная поэзия.








