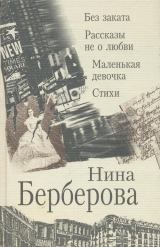
Текст книги "Рассказы не о любви"
Автор книги: Нина Берберова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
КРЫМСКАЯ ЭЛЕГИЯ
В Негорелом стояли долго. Была ночь.
«Надо было лететь, лететь до самого Тушина. Как все это долго!» – думала Юлия Болеславовна З., всматриваясь в черное окно, ища под фонарями, в теплом июльском дожде, русских таможенников, и волнуясь. Чемоданы она отперла, приготовила паспорт и вышла в коридор вагона, где было свежо и где слышалась французская речь. Это молодой дипломат с женой ехал из Парижа в Москву. «Верь моему нюху, говорил он весело, она пахнет хорошо, но не Парижем. Это – Вена, это – Будапешт, Варшава, Румыния, – что хочешь». Юлия по-французски не понимала, и не догадывалась, что говорят о ней.
Она положила свои полные руки на ребро спущенного окна, смотрела пристально в дождь и как бы видела себя обратно: из этой черноты в яркой раме вагона. В одной газетной рецензии недавно (по поводу возобновления «Севильского цирюльника») было написано, что она становится «все тяжелее и прекраснее». О чем вы хлопочете? – сказал ей доктор, все Розины, Маргариты и Джульетты толстеют к сорока годам.
Корсет на ее теле оставлял красные полосы; когда она взбегала по картонным ступеням искусственной луной освещенного Веронского балкона, она задыхалась; первый тенор, милый, верный, давний друг, однажды пошутил, сказав, что в сцене объятия в «Фаусте» она боковым ложам кажется и шире, и выше него. И хотя соперниц у нее не было, и даже далеко впереди не было их, потому что в консерватории вовсе не слыхать было колоратурные сопрано, ее беспокоило то, что она становится рыхлой, капризной и скучной.
Доктора, по ее мнению, не понимали ничего. Она обошла их всех в городе и вернулась к первому, знавшему ее уже лет пятнадцать.
– Пани, где вы родились? – спросил он внимательно на нее глядя.
– Далеко, доктор. В России. В Крыму, зачем вам?
– Новейшая теория: вернуться туда, откуда вы. Никаких болезней у вас нет. Но нервы… Поезжайте в Крым. Чудный климат. Вы поправитесь, пани, человек должен когда-нибудь возвращаться на свой огород, как всякая овощ.
– Но позволите, когда же овощ?.. Я хотела ехать в Мариенбад.
– Не надо Мариенбада, пани. Поезжайте в Крым. Ведь вам не опасно? И вы сделаете такую моду!
Она не сделала моды. Но страшно ей не было, и прежде всего потому, что она была ужасно левая: муж ее был левый депутат в сейме, и в доме ее бывала вся оппозиция. Бывал между прочим и толстенький полпред с супругой, тоже толстенькой, и певшей по-московски. Только было немножко смешно ехать за границу – не за ту, а за эту.
Так она стояла в вагоне, пока французский голос за ее плечом разбирал ее прическу, платье, туфли, – такое все скромное, серенькое с синим, у себя казавшимся последним криком, в Крыму оказавшееся неслыханной роскошью. Наконец, пришла власть: курносые, веснущатые лица, бритые головы, дегтем смазанные сапоги. Она дрожащим от радости голосом поговорила по-русски: до семнадцати лет она прожила в России.
Семнадцати лет в семнадцатом году, выхлопотав польские бумаги, с отцом инженером на линии и двумя маленькими братьями, она уехала, и с тех пор прошла, в сущности, вся жизнь, – безоблачная, полная трудов и успехов.
Теперь она смотрела в окно русского поезда, ничего не было видно, был мрак июльской ночи, но в этом мраке представлялся ей горизонт ширины необъятной, уже какой-то не европейский, жесткий, прямой горизонт. Она задремала, а когда открыла глаза, телеграфные провода в белом густом небе то взлетали, то падали вниз, и стучало в колесах какое-то русское стихотворение.
Это из детства. И она глубоко вздохнула, слушая и вспоминая. Припомнился ситцевые передник, который повязывала ей мать (а соседские дети кричали ей вслед: католичка в фартучке). Припомнились огромные, тяжелые яблоки, которые привозил отец из поездок, и ночи, когда мать, озабоченная и счастливая, ждала его. Встала в мыслях во весь свой сверхъестественный рост Божья Матерь из розового гипса, в голубом плаще, в глубине костела, куда ее девочкой водили, и где она до последнего дня пела с органом.
Она опять пожалела о тушинском аэродроме на московском вокзале, где с большим трудом добилась носильщика и извозчика, повезшего ее через весь город на станцию Курской железной дороги. Москву она откладывала на потом, на «после Крыма»: музеи, и мавзолей, образцовые рабочие дома и посещение Неждановой, которая все еще была жива, и к которой у нее было письмо.
Скорый Москва – Симферополь отошел под вечер и она, покуда еще он стоял, успела поговорить бойко, хотя и не совсем правильно, с двумя соседками, а в пути, таком длинном-длинном, дать им снять выкройки со своих панталон и лифчика. Последняя ночь была лунная, чистая. В южном прозрачном серебре плавился полный месяц. Там, за текущей вдоль поезда степью, за холмами, лесами и реками начиналась совсем новая, теплая, морская страна.
На что она была похожа? Если вспомнить… Сейчас же от вокзала начиналась бойкая торговая улица, потом шла аллея, Бульвар; дамы с кружевными зонтиками, лимонад в киоске, собакам и нижним чинам вход воспрещен. Дальше шли благородные кварталы: их дом, женская гимназия с правами, костел, управление железной дороги, лавки, где ей покупали шотландку на юбку и тарлатан для кукол. На всех углах жили какие-то Раечки, Манечки, Ниночки, с которыми она дружила и секретничала. Влево от вокзала сбегал по горбатым переулкам греческий и татарский городок. И все вместе окружало своим шепотом синее-синее, теплое, огромное, всегда шепчущее море, полное тогда турецких миноносок, и нельзя было зажигать огней на берегу.
– А вот это я в «Ромео», – говорила она соседками, вынимая из саквояжа открытки, – а саквояж этот стоит на ваши деньги… сейчас сосчитаю… А это модный губной карандаш… Да возьмите его себе, если нравится!
Было ранее утро, когда она сошла с поезда. Татарчонок, похожий на Мустафу из «Путевки в жизнь», снес ее вещи в «санаторий для ответственных работников», в котором останавливались интуристы. Это было пятиэтажное с плоской крышей белое здание, в пальмах и кактусах, где ей отвели номер (пополам с уже жившей там мужеподобной старухой). Она села на постель, отдышалась, потом умылась, повязала голову шарфом, надела на ноги сандалии, и ушла.
Москву – потом, на обратном пути, и санаторий этот – тоже потом, завтра, скажем, и даже номер свой – будет еще время рассмотреть. Она что-то спутала и не сразу попала на широкую пыльную окраинную улицу, спускавшуюся к кладбищу. Дома были такие ветхие, крошечные, и деревья игрушечные, пыльные, совсем не совпадали с теми, в памяти. Там все оставалось таким пышным, широким и грустным, черный катафалк и клячи, в перьях. Она шла долго, становилось все жарче. Дома сменились заборами. У чьих-то ворот она подала гривенник голому малышу. Наконец, в пыли, вдали, в уже начавшем дрожь и сверкание зное, мелькнули ворота.
Два кипариса возле монумента благодетелю, основавшему в городе костел, дорожка в белом цвету. Трава, трава, сквозь холмы, кресты и плиты, и ничего не найти, сколько ни отсчитывай шагов. Все пошатнулось, заросло и смешалось навеки. Ни роз, ни латыни над матерью, только кричат, поют, щебечут птицы… Какое ребячество было думать, что можно приказать здесь что-то выкопать и увезти с собой! Тут, если бы не эти птицы, слышно было бы как молятся мертвецы – кто Ченстоховской, кто Краковской…
Она вынула маленький батистовый платок, прочла «Отче наш», постояла немного. А на обратном пути уже не было проходу от голых, пузатых малышей, она раздала всю мелочь и решила написать отцу, что нашла все в полном порядке и даже посадила анютины глазки.
Дети проводили ее до города, до тех мест, где начинались мостовые и каменные дома. Она шла, куда глаза глядят, может быть ища Екатерининскую, бывшую Екатерининскую, там, в переулке, они жили. Но от проспекта отходили все какие-то Карла Маркса и Революции, и она свернула наугад, и вдруг узнала угол: в тупике, невероятно старый, осевший на фундамент, обнаживший свои темные каменные язвы, стоял костел.
«Так бывает во сне», – подумала она. Но она знала, что это была явь, потому что все было то, и вместе другое. На круглой площади рабочие в балахонах и тюбетейках рубили единственное дерево и оно кряхтело и не давалось, и так и не далось, пока она входила в маленькую отпертую дверь. В прозрачный, чистый зной пахнуло из под сводов (совсем низеньких, потому что она теперь была такой большой) сыростью и вечностью.
Из щербатой каменной чаши зачерпнула она воды. Шагу ее ответило эхо где-то в трубах органа. Все было пусто и глухо и только линючие, яркие бумажные розы гирляндой вились над престолом, спадали на черную бронзу каких-то предметов, которые она со свету не различила. Осторожно, боясь, что тут-то под ее ногами и рассыпятся эти черные ступени, она не спеша взошла на хоры и оттуда, со своего места, увидела розовую Мадонну, в голубом плаще, желтую женщину в серой хламиде, с разбитыми босыми ногами. Вот за выступом сейчас будет пюпитр. Тут она пела, когда не было колоратуры, ни даже обыкновенного сопрано, а так себе, детский, очень звонкий, совершенно неутомимый голос. И верно: стоял пюпитр и на нем лежали ноты. Она шевельнула переплеты, она узнала их, она потрогала «Ave Maria» Шуберта, положила на нее ладонь и надолго задумалась.
Внизу раздались легкие шаги босых детских ног. Она выглянула. Мальчик лет четырнадцати вошел и поклонился алтарю.
– Эй, послушайте!
Он поднял голову.
– Что, здесь бывает служба?
Он не сразу ответил:
– Нет. А вам что?
– Почему?
– Потому что запретили, и ксендз сторожем в кооперативе.
– А почему же розы?
Он помялся:
– Тут иногда собираются.
– А ты кто такой?
– Я здесь играю.
Сверху он показался ей в эту минуту совсем маленьким.
– Играешь? Как?
– На органе играю.
Она все смотрела вниз, держа руку на нотах.
– Я спеть хочу, – сказала она просто, – саккомпанируй мне пожалуйста вот эту «Ave Maria».
Он мотнул головой:
– Подожди маленько, сейчас народ придет. С хором и споешь. И он исчез, клейко отлепляя ступни от темного пола и появился снова с веником и тряпкой.
«Они собираются там один раз в неделю, такие, понимаете, тридцать или сорок человек. Ах я не знаю, что это есть за люди! Я объяснила им, что хочу спеть соло, что я уже пела здесь. Они позволили. Они все встали на колени, а мальчик сел за орган. Не могу вам сказать, что это было… Я пела. Потом один сказал: пани, позвольте нам сходить за ксендзом, ему это будет радость. В минуту! Я сказала: конечно. Мы подождали. Пришел ксендз, босой и старый, подвязанный веревкой и без тонзуры. Я опять пела. И тогда ксендз сказал: пани, позвольте же нам сходить теперь за православным священнослужителем, чтобы и ему была радость. И я опять сказала: конечно. И мы опять ждали. И открылась дверь, и вошел в белой рубашке и настоящих лаптях такой старый-старый, что не мог поднять головы, где я стояла, и ему объяснили, что такое есть наверху, и помогли тоже встать на колени. И я пела в третий раз, и все – Шуберта».
Голос ее поднимал своды, раздвигал стены, ломал все, что за много лет стесняло здесь камни и людей. Лица были обращены к ней, но она смотрела поверх и хотя лицо ее было влажно, она вовсе не боялась перехвата в горле. Ей казалось, что она дошла до крайней точки своей жизни. Мальчик босыми ногами нажимал на стертые педали, воздух, в котором ей было так хорошо, гудел долго.
В дверях, когда она выходила, она видела двух рабочих. Они стояли с непокрытыми головами, лица у них были степенные; пожилой еврей в узеньком галстучке стоял тут же и кажется хотел ей что-то сказать, но только пошевелил лицом. А на улице, не двигаясь, стоял кто-то в крагах и с винтовкой.
Там стреляло с крыш полдневное солнце, срубленное дерево, как вспоротый зверь, лежало поперек площади, разроняв вокруг свои свежие ветки, и где-то совсем близко – вон за теми садами – медленно, с шелковым шумом, катилось Черное море.
1937
ВЕЧНЫЙ БЕРЕГ
Это место он заприметил давно и навсегда сделал его своим. Лет двадцать пять тому назад, когда он был еще ребенком, знакомые его родителей жили в этой местности и он гостил у них перед войной. Теперь от усадьбы не осталось ничего: все продано. Дом, с узким поясом сада, подновлён и сдан, остальное разбазарено по кускам. Сюда приезжают дачники на лето и горожане по праздничным дням; они лежат в траве, слушают свои граммофоны, играют в карты, вяжут чулки. Есть кафе, оно же гостиница, есть бензинный кран для автомобилей, есть почтовый ящик и бакалейная лавка с леденцами для предполагаемых детей. Только название осталось то же, и та же дорога вверх, в рощу, где сосны, вереск и крепкие розовые цветы, которые, отцветая, дурно пахнут.
Он помнил всегда, даже в самый разгар своей жизни, что если пройти этой рощей, а потом лугом, обогнуть пруд, выйти на тропу, где мята и зайцы, то начнется уже совсем особенное: пахнущее хлебом затишье, обрыв, с которого видна заречная даль, тенистый спуск к реке, и там – камыш, чья-то старая лодка, блеск и мрак воды. И никого. Лодка всё стоит там, все стоит, говорил он себе иногда, вода мерцает и колышется. Он на всю жизнь заприметил себе это место.
Он собирался вернуться к нему в разные годы по-разному. Было время, он так представлял себе счастье: с молодой, красивой, умной женщиной, понимающей его во всем, он тайно проводит здесь целый месяц, а потом расстается навсегда. Она не знает даже, где они были, он не знает ее имени… Потом был план: жениться и непременно купить в этом краю кусок земли, выстроить в рассрочку дом, – с балконом, детской, курятником, – словом, связать себя с этим берегом навеки. Однажды, года два тому назад он едва не приехал сюда с чужой женой, но она испугалась деревенской скуки, а он не был уверен найдется ли в гостинице комната, и они поехали к морю.
И вот теперь он был здесь.
В деревушке, уместившейся в бывшем усадебном парке, в крошечной гостинице нашлась комната. В окошке был двор с цепной собакой и спящим петухом. Рисунок обоев – летящие корзины с цветами, вихрь цветочных корзин; в углу игрушечный умывальник, а посреди – все заполонившая, деревянная двуспальная кровать с грубым свежим бельем, периной и крахмальным пологом. Наташа, как увидела ее, так и качнулась:
– Это для вас и для меня? Такая огромная?
Они приехали вечером автокаром, из Парижа. Она сказала матери, что едет к подруге в Буживаль. Почему Буживаль? Первое, что пришло в голову, потому что в тот день она что-то читала про Тургенева. Мать подробно расспросила: что за подруга, кто такая, где живет, кто ее родители, как Наташа думает отплатить ей за гостеприимство.
Автокар несся по пригородам; он был полон. Они сидели рядом и Наташа смотрела в окно: сперва на дома и людей, потом в даль, в небо. Когда она оборачивалась к нему, с такой решимостью, с такой смелостью, он видел, что она его боится. Когда они сошли, был одиннадцатый час. В новенькой улочке было совсем темно, и они останавливались, целовались, опять шагали, и опять останавливались. Говорили о том, как им хорошо, как хорошо, что три дня перед ними, как удивительно, что он вернулся все-таки сюда. В гостинице дверь была настежь, на пороге сидел хозяин и следил за тем, как они приближаются к нему.
При свете лампы, за стойкой, он стал хлопотать, вынул пузырёк, с чернилами, перо. Он был выпивши, листик, который требовалось заполнить, два раза выпадал из его руки.
– Я напишу «такой-то, с женой». Наташа накрыла бумагу ладонью.
– Пожалуйста, не пишите своей фамилии, это совершенно не нужно.
– Не все ли тебе равно? Могут быть неприятности.
– Нет, нет, не нужно, мама может узнать.
– Так ведь твоя мама не запрещает мне ездить.
– Пишите: господин Наташин.
– Господин Наташин? – и он написал, прибавив, как полагается, с женой.
Год рождения – тот же, что и века.
Место рождения – русский город, он совсем, совсем его забыл. Профессия – поставил одну из многих. И они поднялись наверх.
– Это целый крейсер! – воскликнула Наташа, прыгнула и провалилась в перину, и кинула в него подушкой. И во всем этом ему тоже почудился страх.
А утром, утром! Эти птицы, это солнце! Край чужого сада в окне, липовый воздух, стук телеги, разбудивший обоих, нетерпение, хохот у крошечного умывальника, в котором можно было вымыть только пятку. Одна зубная щетка на двоих.
– Я думаю: одна зубная щетка на двоих – это любовь, – сказала она, – и один артишокный листик на двоих – тоже любовь. – И она засмеялась.
Внизу они пили кофе в тяжелых деревенских чашках, а хозяин опять был выпивши, и даже не смотрел на них. Выглянуло из-за двери только кроткое лиловое лицо хозяйки и скрылось; сеттер с отвислым брюхом бил хвостом по их коленям, и ему дали сахару.
– Ну, так скорей, чего же мы ждем? – и все ее лицо смеялось и светилось, – бежим, спешим, летим! Сейчас узнаем, на месте ли речка?
Он приберег это место для одного себя, он ни с кем не ездил сюда, не возил чужих жен, не разводил здесь хозяйства. Все оставалось здесь, как было, только деревья стали гуще, такими, какими, может быть, были тысячу лет тому назад. Эта мысль о неизменности, о вечности лесной тишины, о бесконечности речного движения и свела его с ума когда-то.
– Обыкновенно в таких случаях бывают разочарования, – говорила она, спускаясь к берегу, – придешь через пятьдесят лет, а лодки то и нету!
– Через двадцать пять!
– Ну, через двадцать пять. Значит, ты это облюбовал, еще тогда, когда меня и на свете не было!
Она замерла в изумлении при этой мысли, и опять, легко, словно танцуя, пошла вперед.
Но лодка нашлась. Их даже было две: одна – старая, другая – новая, крашеная в красный цвет. Весла были спрятаны в кустах, и они их тотчас отыскали.
Вода спокойно и ласково играла под солнцем. Как часто думал он о том, что непременно когда-нибудь будет вот так сидеть и слушать. Было что-то неизбежное в возвращении к этим камышам, к этим дрожащим теням, сбереженным памятью. Он чувствовал, что участвует в плеске времени, текучем и безначальном. В ранней юности, в минуту того незабвенного восторга, он понял, что сюда надо найти обратный путь.
Наташа между тем снимала через голову свое белое платье в цветочках и оказывалась в купальном костюме. Она говорила, что если бы он взаправду любил ее, то непременно взял бы эти весла, отвязал бы лодку и повез ее на середину реки, чтобы она могла там окупнуться.
– Запрещено, – сказал он показывая пальцем на ржавую доску, на которой что-то было нацарапано, и лег навзничь. – Протокол составят. В тюрьму посадят. На каторгу пошлют.
– Да никого же нету. Какой ты, право! И пожаловаться на тебя некому! (А еще накануне вечером она говорила ему «вы»!)
В этой прозрачности он чувствовал свою собственную прозрачность. Он говорил себе: такие случаи бывали, я где-то читал. Человек в молодости попадает на какую-то точку земного шара и вдруг говорит себе: это здесь! Проводят годы. Он живет, он путешествует, любит, трудится, и стариком возвращается, и поселяется, и не может объяснить, почему он здесь, когда есть столько других мест.
– Так не отвяжешь? – спросила она еще раз, и босой ногой наступила ему на руку.
– Я уже и без того совершил ради тебя преступление: скрыл свою фамилии от полиции. Теперь пойдет к черту вся статистика губернии. А ты еще хочешь, чтобы я украл лодку. Ты можешь окупнуться у берега.
Она вошла в воду, брызнула ему в лицо чем-то блестящим и мокрым, и вдруг зашумела, забила ногами, поплыла.
И вот он вернулся не один, вдвоем с женщиной, которую он кажется любит, и которая кажется любит его. Что будет с ним дальше? И с ней? Он лежал на спине, смотрел в небо, прислушивался. Прошло довольно много времени в блаженном забытье. Внезапно что-то дрогнуло в нем, и сорвалось сердце: она звала его.
Он крикнул в ответ и помахал в ответ рукой в воздухе. Она опять закричала. Она ли это? Он вскочил, подбежал к воде, на секунду остановился, но под щитом поднятых, рук не увидел ничего – только в блеске дрожала вода.
Он вдохнул воздуху, широко открыл рот, заорал: – А-а-а! Наташа-а-а! На противоположном берегу стояли, выстроившись в линию, окаменелые в зное безногие кусты. Все было тихо. Только эхо бормотнуло что-то в ответ. Тогда он бросился к веслам, загремел ими, упал, зацепившись о кочку, рванул лодку, еще раз рванул, грудью столкнул ее в воду, протащил по илистому дну, прыгнул в нее, качаясь, опять закричал, что было сил. Молчание.
Он греб, кидаясь от одного борта к другому, с одним веслом, другое куда-то ушло, сдирая с себя башмаки, пиджак, крича, двигаясь с угасающей медленностью туда, откуда ему казалось, она кричала. Лицо его было в крови, он ударился обо что-то, когда метался и падал на берегу. В середине реки он нырял три раза, сколько хватило сил, но кроме пятен глубокой зеленой тьмы не увидел ничего.
Когда он вернулся, солнце перешло на другую сторону молодой ивы, но под ней по-прежнему была тень. Он вышел из лодки, волоча за собой мокрый ил, снимая с рук, как перчатки, длинную траву. Кровь текла у него из ноздрей, голос был сорван от крика, странно выкаченные глаза искали чего-то – ее белого в цветочках платья, в которое он лег головой.
Потом, когда одежда на нем просохла, он завязал в носовой платок ее туфли и пошел. Перед тем, как войти в деревню, он вынул из наташиной сумочки ее гребешок, и всхлипывая аккуратно причесал свои редкие русые с проседью волосы.
1938








