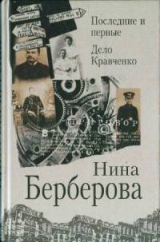
Текст книги "Последние и первые"
Автор книги: Нина Берберова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
Он толкал ее к мыслям, которых она боялась, которым она противилась. Она покраснела; рука ее стала легкой и слабой в его руке.
– Я говорила вам, – сказала она, словно еще защищалась, – мне кто-то нужен, иначе ничего быть не может. Я брошу все, я согласна на труд тяжелый и постоянный, я даже ищу его, но я не могу одна, мне нужна любовь. Я думала, что вы – моя любовь, но вы не ответили мне, и я вижу, что я так слаба, что бороться с вашим равнодушием, с вашей дружбой, не могу. Значит, я прощаюсь с вами в своей душе. И я буду искать снова.
– Вы должны искать не среди первых, не среди тех, что и без вас могут стать ими, вы должны найти самых слабых, самых последних. Там вас узнают, там вас полюбят… Я искал самых далеких мне – в Болгарии, здесь в Париже, в том доме, где живет Расторопенко, – вы ведь были там и, значит, знаете, что это такое. Вера Кирилловна вы тоже знаете, где искала, – в Иностранном Легионе.
Она взглянула на него, и он угадал вопрос в ее глазах.
– И она нашла, – сказал он тихо.
Сердце его было полно. Он словно бы опьянел от вина, выпитого в «Занзибаре». Как не стыдно, право! Деревенский парень приехал в Париж и напился, и шляется по улицам до рассвета! Нет, видно жизнь в деревне накладывает на человека законы, которых не избежать.
Они крутили по серевшим в рассвете улицам. Пронеслись битюги с молоком, из домов выносили ведра мусора, и громадный грузовик, попыхивая, переезжал с одного угла на другой, забирая их. Там, широко расставив ноги и засучив рукава, стоял парень, вываливая себе под ноги содержимое этих цинковых ведер, и порой веселому взгляду его попадалось то примятое тельце котенка, то горшок фикуса, изъеденного червями. А с шелестом мягким росистым, проходил другой, подобный первому, широкозадый грузовик; он поливал площадь, обдавая свежестью уличный воздух; и парень, может быть, брат тому, что реял над мусором, так же весело и гордо менял скорости, управлял кранами, всем телом наваливался на руль.
Больше между Ильей и Нюшей не было сказано ни одного слова. На площадке лестницы он простился с ней. Она велела передать Марьянне, что помнит ее и желает ей счастья в замужеств (лиловое мыло он ей так и не купил!).
Она вбежала наверх, с минуту постояла на площадке, послушала, как Илья вошел в номер. Потом быстро вошла к себе, в темноте (шторы были спущены) разделась, умылась, взяла подушку, собственную, в кружевной наволочке и, заперев дверь, ушла в конец коридора, к Меричке. Тихо-тихо улеглась она к ней под одеяло, и Меричка, на минуту проснувшись, пробормотала что-то бессвязное и ласковое, и обняла ее. Они обе заснули, прижавшись друг к другу, так что утром, Нюши Слетовой в ее комнате не оказалось, и прошло некоторое время прежде, чем ее нашли.
А Илья побоялся лечь, побоялся уснуть каменным сном часов на четырнадцать. Сердце его было полно тревогой и радостью. Он аккуратно уложил немногочисленные вещи и снес их вниз. Там было тихо. Он вышел на улицу, выпил кофе с булкой, в только что открытой кофейне, где сам хозяин выметал из под лавок вчерашний сор. Там просидел он до шести часов и прочел утреннюю газету.
И правда дел в Париже у него не было больше никаких, он мог свободно уехать утром вместо того, чтобы ухать вечером, но вечерний поезд был скорый, пересадка удобнее. Выезжая из Парижа утром он будет дома не раньше десяти часов вечера, ему придется со станции идти пешком по ночным полям, под месяцем, одному, – как это будет прекрасно!
В семь часов он вернулся в гостиницу, расплатился и уехал на вокзал. На вокзале он терпеливо прождал почти целый час, пока подали поезд. Народу было много; ему показалось, что рядом, в соседнем отделении, едет та самая женщина, что ехала с ним три дня назад в Париж, и тот же араб стоит у окошка. Мимо прошли тихие улицы и огороды Мезон-Альфора, Сена мелькнула свинцовым блеском, барками и лебедками. Илья растянулся на жесткой койке и под незабытый, мерный говор колес, заснул, подложив под щеку кулак.
Раза три за все путешествие, но никак не более, он вставал, покупал на станциях еду и пиво и опять ложился. На противоположной лавке не было никого. Колеса стучали, поезд несся с севера на юг, день был сырой и хмурый, дым бросался в окно вагона, и махали Илье рукавами низкие, дымные тучи.
Очнулся он в А., мягкий южный ветер и тихий вечер приняли его. Поезд умчался дальше, к лету, к морю, где еще купались, к берегам в цветах и белом камне.
Он опять был у себя, он опять был близок к тому куску земли, к тому месту в мире, которому отныне пожелал принадлежать. Что такое были для него город и сорок восемь часов, которые он пробыл там? Они истаяли у него за спиной ранним сумраком северной осени, и от них осталась только память – память о потерянности, о ненужности людской. О себе Илья не думал. Пока маленький, гулкий поезд вез его домой, в его мыслях медленно, несколько неповоротливо, но со спокойной отчетливостью проходили Нюша и Шайбин, пока, наконец, он не стал думать только о Васе, которого через час должен был увидеть, с которым предстояла большая, открытая братская борьба.
Поезд остановился на пол минуты; Илья соскочил. На дворе была ночь, пахло сырой листвой. «Верно, нынче был дождик», – подумал Илья, и сердце его забилось от радости. Он прошел по платформе, мимо служителя, во внутренность маленького, сиротливого вокзала. Две лампочки горели над кассой, отвратительно завизжала входная дверь. На круглой площади не было никого.
Город спал сном крепким и дружным. Ставни домов были закрыты, лишь в угловой булочной, в подвале, был свет, казавшийся издали красным. На главной улице, умытой дождем, горели редкие фонари, заведение господина Гастонета было еще открыто. Напротив, ловя веселые его светы, мерцала вывеска господина Жолифлера. Было тихо, сонно и свежо, как в комнате ночью, когда раскрыто окно. Илья, неся чемодан в руке, прошел сквозь этот недвижный город; на краю его шептались деревья. Внезапно, повернув влево, он увидел знакомое пространство; где-то, словно у самого горизонта, залилась собака. Не прошел он двадцати шагов, как из-за далекого, черного холма поднялся едва ущербленный месяц. Он поднялся с волшебною стремительностью и повис над дальним лесом, и сразу все стало живым в его прохладном свете. Небо далеко отошло ввысь со всеми своими внезапно уменьшившимися звездами, земля стала близкой до самого горизонта, и тень Ильи ушла далеко вправо, к последним домам городского предместья, к ограде школы, и там – поползла.
Он шел, и шел, и чем дальше уходил он от города, тем безумнее и горячее любил он эту ночь и эту землю, знакомую гущу деревьев у дороги, молчание в воздухе, глубокую тишину убранных полей. Он не знал стыда перед самим собой – он готов был запеть. Со шляпой в руке он шел довольно быстро, ловя губами шедшее ему навстречу чудное дыхание. Да, несомненно, сегодня здесь был дождик: дорога потемнела, умылись звезды… Господи, благодарю Тебя!
Вот на этом повороте сели они с Шайбиным в автобус три дня тому назад, вот сейчас покажутся высокие платаны и крыша дома, и чердак, где, должно быть, спит или нет, наверное, не спит, а мучается Вася. Да, в незыблемой прочности стояли платаны и дом за ними; в тишине и свете ночи увидел их Илья.
И тогда он не смог более противиться счастливому трепету, охватившему его. Тут же, на сырой дороге, встал он на колени и прижался к глинистой, рыхлой земле. И в наставшем безмолвии (ибо раньше он ничего, кроме шагов своих, не мог слышать) он различил ночные трески и шорохи в траве, у дороги.
Осторожно отпер он ворота, навстречу ему кинулась собака и с тихим урчаньем прижалась к его коленям. В доме, видимо, давно спали, окно кухни почему то было завешено Марьянниным фартуком. Илья подошел к лестнице, ведшей наверх; собака все кидалась ему под ноги.
Он осторожно стал подниматься, ему не хотелось будить ни Васю, ни тех, что спали внизу. Осторожно открыл он дверь чердака и во мраке увидел привычное очертание двух кроватей – на одной из них, закутанный в темноте, сидел кто-то и молча смотрел в его сторону, будто давно поджидал его.
– Вася, – сказал Илья тихо, остановившись у порога.
– Его нет, – ответила Вера Кирилловна, вставая, – он ушел, Ильюша. Он ушел от нас вчера вечером.
Он не мог видеть ее бледности, но глаза ее сверкали слезами. Илья присел на табурет у двери. Счастливый трепет в одно мгновение вылетел у него из души.
– Я ждала тебя, я чувствовала, что ты придешь, сказала Вера Кирилловна, подходя к нему. – В субботу вечером я поняла, что все кончено, что он не дождется тебя. Мне даже показалось, что он спешит и хочет застать тебя в Париже. С ним началось что-то странное. Утром, в воскресенье, он долго возился со скотом, потом был в городе; как признался Габриель, он приходил к нему за деньгами, сказал, что у него утром платеж и что ты не оставил денег. В это время Жолифлер был у нас, Марьянна просватана. Вечером после ужина Вася ушел. Он не вернулся ни вчера, ни сегодня, – он уехал.
– Он клялся мне, что простится со мной, – сказал Илья.
Оба находились друг от друга в расстоянии одного шага, в полной темноте. Илья протянул руку, нашел руку Веры Кирилловны. Рука Веры Кирилловны дрожала. Прошло несколько минуть.
– Мы с вами, мама, всегда искали путей самых трудных, – сказал Илья глухо, – другим они не под силу. Васе оказалось не под силу, но вместо Васи придет к нам кто-нибудь другой, и, может быть, не один, а может быть, когда-нибудь, вернется и Вася.
Она начала дрожать еще сильнее.
– Скажи, Ильюша, не томи, – прошептала она, – о чем ты? скажи…
– Нет, нет, ничего не могу сказать, ничего сам не знаю. Она отняла руку, закрыла лицо.
– Когда же будут высланы деньги? – спросил Илья. – Люди готовы, могут в пятницу выехать.
– Жолифлер получил деньги сегодня и сказал, что завтра же вышлет их Расторопенко.
Она прошла мимо него, как тень. Он следил за нею, душа его разрывалась от жалости.
– Ты знаешь, кто внизу? – спросила она с робостью, берясь за косяк. – В кухне он ночует с Анютой. После ужина привезли его из Л. За три дня они прошли километров двадцать пять, не больше, ему стало худо, он дал наш адрес. Девочка испугана. Он очень слаб.
Илья слышал ее шепот. Теперь он держал ее за концы платка.
– Вы знаете, кто эта девочка? Он вам не говорил?
– Нет, он вообще не говорит, он много кашляет. У него жар.
– Надо завтра чуть свет Марьянну за доктором послать.
– Он не хочет доктора.
Ее шепот и шорох ее движений таяли где-то совсем близко от Ильи. Она легко провела рукой по его голове и вышла. Он услышал, как скрипят ступени лестницы, приставленной к дому.
Итак, где-то подле Дижона, его поезд встретился с поездом Васи. С оглушительным свистом налетел паровоз, загрохотали вагоны, сливая два шума в один, в окнах замелькали другие окна, стенки вагонов, мгновенные просветы… Он ничего этого не видел, ничего не знал. И теперь с Васей было покончено. Дальняя дорога его, наконец определилась.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
– Ну, здравствуй, мужик, – сказал Адольф насмешливо.
– Здравствуй, – сказал Вася.
Люди, спешащие с поезда, не дали им остановиться, заторопили их к выходу.
– Где твои вещи?
– У меня нет вещей.
На нем не было даже пальто, и видно было, что за ночь в поезде он продрог: нос его покраснел, а руки, вылезающие из рукавов куртки, стали даже слегка лиловатыми. Вид у него был какой-то нечесаный, неопрятный.
– Видишь ли, – начал Адольф, опять довольно презрительно, – я должен тебе признаться: телеграмма, посланная тебе в субботу днем, была от меня. Илья, конечно, не мог телеграфировать тебе.
– Я так и понял, – кивнул Вася, – Илья не стал бы.
– Вот как? Значит, ты решил ехать? Тем лучше.
– Я решил, но я дал слово Илье, что не уеду, не простившись с ним. Поэтому я так и спешил, чтобы застать его здесь, чтобы не разминуться.
Адольф поморщился.
– Ну это ты прогадал, мужик: он уехал сегодня утром. Ему передали, что тебя вызывают, и он помчался держать тебя за хвост.
Вася остановился. Его красные щеки теперь казались одутловатыми, а испуганные, выцветшие глаза вызывали у прохожих сочувствие.
– Я не увижу его? – пробормотал он. – Но я клялся ему…
– Ты ни при чем, это он виноват, что не подождал тебя. Они сели в автомобиль.
– Улица Ганнерон, 14, – сказал Адольф, – я отвезу тебя в гостиницу, завтра уедешь.
Вася оглушенный смотрел на Адольфа, он совершенно не узнавал его. Кроме того, он был очень голоден.
– Откуда ты знаешь, что Илья уехал? – сообразил он спросить.
Адольфа раздражали вопросы.
– Ему вчера сказали, что послана телеграмма, с его характером не мог же он сидеть здесь? Кроме того, я только что звонил в гостиницу.
– Ему сказали нарочно? – спросил Вася беспомощно.
– Не твое дело. Боже мой, Васька, до чего ты деревенщиной стал!
«Это он мой автоматизм так называет», подумал Вася. Ему вдруг стало совестно: вот он в Париже, вот он на пути, который сам избрал. Нет, он просто никуда не годен!
Они неслись по широким многолюдным бульварам.
– Это Триумфальная Арка? – спросил Вася.
– Нет, это ворота Сен-Дени.
С ним совершенно не о чем было говорить.
– Ты не думай, что я совсем дурак, – сказал Вася, – просто душа не лежит к разговорам.
– Переживаешь, в себе копаешься? Понимаю. Остался таким же недорослем, каким был. – «Все равно, лучше не отвечать, – подумал Вася. – Куда мы едем? Лучше бы уж с вокзала на вокзал».
Но из грубых, отрывочных слов Адольфа выяснилось, что Васин поезд уходит завтра, в семь десять вечера. А до того времени он свободен, он может пойти сегодня вечером в кино, идет «Ангел улицы» – ты небось и в кино три года не был? Кроме того, можешь купить себе пальто, я дам денег. Нет, к Александру Адольфовичу нельзя зайти, он слишком занят.
Бензин и пыль были ему отвратительны сладковатым своим привкусом. В гостинице Адольф сам сговорился с хозяйкой. Да, как же, имеется свободная комната, та которую нынче ранним утром освободил приезжий из Прованса.
– Я тебе оставляю пятьсот франков, купишь пальто и проживешь до завтра. Завтра часов в шесть приду за тобой, привезу билет и паспорт.
Вася постоял посреди комнаты с пятью сотенными билетами в руке. Как просто все, как невероятно просто! Только с ним может происходить такое, оттого, что он ничтожен, жалок, оттого, что жизнь бежит мимо него.
Адольф ушел, и теперь Вася знал, что ему надо делать. Это одно и мучило его всю ночь. С успокоением взглянул он на деньги, сунул их в карман, побежал вниз и спросил где почта.
Два раза он терялся в шумных и светлых улицах. Наконец, после долгого стояния в очереди – в конце месяца всегда столько бывает денежных отправлений – он отправил Габриелю взятые у него накануне двести франков. Выйдя с почты, он купил в колбасной две пары сосисок и фунт горячей капусты; у себя в номере он все это съел, забыв о хлебе.
Ему предстояло прожить таким образом почти два полных дня. Он никого не знал в Париже, о сне он не мог и думать. На улице было весело и свежо, но не было пальто и денег на него тоже уже не было – Вася в точности не знал, что могло стоить, вообще, парижское пальто. Он сел к окну и стал смотреть на улицу. Он презирал себя, все ему было отвратительно, что имело касательство к нему. Он видел себя лживым, глупым, недостойным ничьей любви, предавшим Илью, обманувшим Веру Кирилловну. Особенно стыдно, почти страшно было ему вспомнить Марьянну, ее широкую рабочую спину, когда мешала она пойло свиньям, ее глаза, счастливые, влюбленные глаза, когда смотрела она на Габриеля. Все, что прямым путем не относилось к нему, словно зараженному дурной болезнью и распространяющему глухую заразу, все имело для него неизъяснимую, сладко-унижающую прелесть.
Он вспомнил Терентия Федотова, батрака, работавшего у них этим летом. Федотов так до конца и не понял, что отлично они могли справиться и без него: Илья нарочно взял его, чтобы научить, чтобы дать возможность с осени устроиться самостоятельно. И Терентий Федотов собрал трех земляков (один даже жену привел) и осел километрах в трехстах. Илья ему и контракт растолковал.
Нет, нет, он не мог жить ни там, ни здесь. «В такой гостинице обыкновенно стреляются», – подумалось ему. Он не застрелится, он испробует еще один способ жизни. Папаша, Степан Васильевич, небось встретит его на московском вокзале, том самом, с которого когда-то все они уехали; и тогда уже был в нем этот яд, но он был тайным. Адольф вынырнул из под земли со всеми своими письмами; Адольф дал яду этому разлиться в его жилах.
Первое письмо пришло год назад. Да, ровно год. Адольф тогда только спрашивал: хочешь? И Вася ответил: хочу-то хочу, но не верю. С тех пор прошло много месяцев, весной одно время он вовсе перестал отвечать Адольфу; это было на Пасху, после того, как побывал у них на ферме тот человек, тот слепой старик, бывший, говорят, сельский учитель.
Он уже не помнит ни одного слова из тех, что говорил этот необыкновенный гость. Он не может вспомнить ни одной его песни. Теперь, когда, одряхлевший и ослепший, странник опять пришел к ним на ферму, в нем по-прежнему не было ни благости, ни прощения. Что же это за христианин, который полон такой суровости, такой взыскательности? Благословляет ближних, но на далеких шлет анафему, просит у Бога для них болезней и голода. Не узнал Вася до конца захожего гостя, это будет его в Москве мучить. А Илья? Три года смотрел он на него, когда тот пахал, чистил хлев, строил пристройку, когда рубил кривое дерево у дороги, которое долго, должно быть лет тридцать мешало почтальону и всем другим. Три года он ходил за ним следом и «ничего не понял», как сказала Вера Кирилловна. «Поймешь – вернешься». Это пустые слова, это невозможно! Вернуться? Как, зачем? Нельзя вернуться ни житейски, ни душевно. Нет, кто попадает туда, тот не возвращается. Но кто же туда попадает?
Попадают «шкурники» (Марьяннино слово), ищущие «легкой жизни». «Неужели и я в их числе? – думал Вася. – Неужели мне хочется праздности и… подлости? Я хочу родины, так я сказал Илье. Родина прежде всего должна решить основные вопросы моего существования, – а это уже облегчение. Здесь я не слышу ее голоса. Да, я хочу облегчения, я хочу быть там, чтобы в самом главном не чувствовать ответственности и не быть хозяином своей жизни. Здесь я слишком свободен».
Он поднял голову, ему показалось, что в дверь постучали. Но стучать было некому, он не ответил.
«Я слишком свободен, я не готов к этому», сказал он себе с какой-то ранней горечью и вновь взглянул на дверь. Медленно повернулась ручка, дверь приоткрылась.
– Илья, вы спите? – спросил чей-то голос.
Вася вскочил.
– Илья? Здесь нет Ильи, – вскричал он в испуге.
Дверь внезапно распахнулась, и Вася увидел Шайбина.
С минуту оба стояли друг против друга, как бы не узнавая один другого. Они стояли молча, не спуская глаз друг с друга, пораженные этой встречей.
– Вася Горбатов? – медленно переводя дух, спросил Алексей Иванович.
Он вошел, и тут Вася впервые заметил, что он несколько хром на левую ногу. Он заметил кроме того, что человек этот, гостивший у них сутки, сильно изменился здесь, в Париже. Уже и тогда вид он имел далеко не блестящий, сейчас глаза его были воспалены, а все лицо подернулось серым налетом.
– Вы приехали к Илье? – спросил он, видимо, конфузясь своего любопытства.
– Илья нынче утром выехал.
Шайбин ничего не понял из этих слов.
– Куда выехал? – спросил он терпеливо.
– Домой, – ответил Вася.
Алексей Иванович в эту минуту понял, что он остался один, и одновременно с этой мыслью пришла к нему другая: Илья ухал, оставив его иным, чем привез, Илья оставил его тогда, когда это уже было не страшно, Илья бежал от него, выполнив все, что должен был выполнить, на что посылала его Вера Кирилловна.
– Зачем же вы здесь? – спросил Шайбин, что-то припоминая: он столько все эти дни думал о себе, что о Васе ему на время вовсе пришлось забыть. – Что вы здесь делаете, в Париже, в этой гостинице?
– Я здесь живу, я разминулся с Ильей. Я уезжаю завтра.
Ах, да! Маленький Вася, ставший взрослым человеком, уезжает в Россию. Это Шайбин уже слышал на юге. Но неужели это так-таки правда?
– Значит, вы хотите пропасть? – спросил Алексей Иванович невольно.
Вася взглянул ему под ноги.
– Вы ли это, Алексей Иванович? От вас ли это слышу? – набрался он дерзости.
Шайбин притворил дверь.
– Я только спрашиваю, я вас ничему не учу, хотя… мог бы. Вы убежали из дому?
Вася не ответил.
– Хорошо, мне ответа не надобно, ответ уже дан вами – посмотрите на себя в зеркало: у вас вид вора. Вы обманули Веру Кирилловну.
Вася покраснел и, как мог, постарался скрыть это.
– А вы? – усмехнулся он и сам испугался своих слов.
Шайбин простоял спокойно между дверью и умывальником. Ему никогда в жизни не приходилось слышать таких слов. Вся его жизнь, весь он сам, со своими раздвоенными мыслями, с больным сердцем, из-за которого ему дали преждевременный отпуск из Иностранного Легиона, все, что окружало его – и с этим вместе коротко и зло измучившая его Нюша, – все внезапно рухнуло и провалилось без возврата, без спасения, в какую-то пропасть. И осталась одна его вина, вина всей его жизни.
Он не опустил глаз под взглядом Васи. Тот сидел у стола красный и встрепанный.
– Ваш вопрос ко времени, – сказал Алексей Иванович горько, – но жизнь моя еще не кончена, хоть вам и кажется, что я старик. Вы знаете, сколько мне лет? Мне сорок два года. О, если бы мне было столько, сколько вам, все было бы по-другому, поверьте, – не стал бы я сейчас с вами разговаривать. Я бы сломя голову кинулся наверх, узнать: не уехала ли она с ним, – а я, как видите, никуда не кидаюсь и слушаю вас, и отвечаю вам, и даже в душе решаюсь, вот в эту самую минуту, на действия огромной важности, огромного для себя значения. И только теперь (и, заметьте, достаточно медленно) иду туда. Может быть, это и значит, что я старик? Нет, это значит что-то совсем другое…
Он и правда не спеша открыл дверь и пошел к лестнице.
Вася встал, и мало что соображая, неуверенно пошел следом за ним.
Он не мог остаться. Он поднялся по лестнице за Алексеем Ивановичем, и любопытство его было так сильно, что он, дойдя до верхней площадки, даже задал вопрос: куда Шайбин пошел и что все это значит? Шайбин не оглянулся на него. Дойдя до Нюшиной двери, он остановился и постучал. Он знал, что делает это по какой-то жестокой необходимости – беспокойства он не чувствовал. Никто не ответил на его стук. Ключа в замке не было. Может быть, он все-таки в душе желал, чтобы она осталась здесь, чтобы она не уезжала с Ильей? Нет, этого желания в нем не было. Нюша более не принадлежала ему – с нею было покончено. «Нет в тебе любопытства ко мне» – после таких слов люди уже не сходятся.
Он опять постучал. Было ясно – она уехала. Значит, любил ее Илья, если увез, значит, все кончилось так, как должно было кончиться. Значит, себе он ее оставлял и не давал ее Алексею Ивановичу, как самый обыкновенный, как самый рядовой соперник. Нет, не может этого быть! Он не увез ее… Может быть, она поехала за ним? Безответно уцепилась за него? Бедная Нюша!
Он затряс дверь. Никого. Ничего. Лучше бы ей все-таки было остаться здесь. Ну куда ей работать в поле? Разве она Марьянна, чтобы работать в поле? Пусть бы она осталась здесь – найдется ей и здесь кто-нибудь. А там уж предоставьте царить одной Вере Кирилловне, пусть хоть там не будет этого вечного беспокойства, этой неверности, этого плена. У Веры Кирилловны. Подле Веры Кирилловны.
Шайбин стоял в такой задумчивости, что Васе показалось на этот раз, будто Алексею Ивановичу дурно. Тогда же пришлось ему впервые увидеть ту короткую, ужасную судорогу, сведшую Шайбину лицо, которую до этого Шайбин тщательно скрывал от него, как и от других. Васе показалось, что Алексею Ивановичу дурно, что ему необходимо помочь, но он не знал, как утешают людей, да еще сорокалетних мужчин с загадочным прошлым – для Васи прошлое Алексея Ивановича было вполне загадочно. Берут ли их за руку и отводят куда-то, или приносят им воды, или, наоборот, делают вид, будто ничего не замечают в их состоянии?
Проходили минуты, Шайбин все стоял у двери. В гостинице было тихо, не такое было время, чтобы шуметь, люди, что проживали здесь, ложились поздно, и от алкоголя сон их к утру становился особенно крепок. Вася все стоял подле Алексея Ивановича. Он спросил, верно уже не в первый раз:
– Кто здесь живет?
Шайбин опять не ответил, но из противоположной двери высунулась растрепанная голова Наташи. Кратко взглянув на стоящих в коридоре, чтобы сейчас же опустить заспанные глаза, Наташа прикрыла вспухшее лицо рукой и, зевая, сказала:
– Что вы шумите, как баре! Она, может быть, у Мерички, в номере сорок первом. – И тотчас закрыла дверь.
Но Алексей Иванович и не оглянулся на нее – он быстро прошел в глубь коридора.
Когда Нюша появилась в дверях в Меричкином капоте, который был ей длинен, с лицом испуганным и розовым от сна, Шайбин почувствовал, что Илья значит в его жизни слишком много. Нюша была здесь, она не ухала с ним – нет, Илья не обманул его, пока Шайбин спал, приняв свои порошки!
Он взял ее за руку, которую она сначала ни за что не хотела ему дать, и почти насильно вывел ее из комнаты в коридор.
– Так ты не ухала с ним? – спросил он, и доля злой радости за свободу Ильи была в его словах.
– Он не взял тебя и уехал?
– Я знаю, что он уехал, – сказала она, робея. – Оставь меня, ты с ума сошел.
– Я оставлю тебя, но здесь Вася, смотри Василий Степанович! Почему он здесь? Ты что-нибудь понимаешь?
Нюша обернулась, глаза ее расширились.
– Боже мой, – воскликнула она, – зачем вы здесь? Я послала его, чтобы он успел удержать вас… Вы разминулись!
Шайбин и Вася в одинаковом удивлении стояли перед ней, а она все ломала свои тонкие руки. У нее хватило мужества прикрыть Меричкину дверь и выйти на середину коридора. Она не спускала глаз с Васи, словно все в нем было ей до боли любопытно и близко ее касалось. Она вошла к себе и позвала его за собой и он молча послушался, пригнув голову к груди, ве зная, куда девать руки.
Когда Шайбин услышал голоса, в Нюшиной комнате, он почти бежал от них. Нюша говорила громко, с какой-то необычайной твердостью, и звук ее голоса догнал Алексея Ивановича на лестнице.
– Я должна вас предупредить, что это я услала Илью Степановича сегодня утром, – говорила Нюша, – У меня была надежда, что он застанет вас, ведь телеграмму Адольфа вы еще не могли получить, ту, что была послана вчера вечером от имени Ильи! Ах, Илья решит, что это я нарочно отправила его, чтобы облегчить Адольфу вашу отправку в Россию!
– Я ничего не понимаю, – сказал Вася в раздражении, – вы знаете всех: и Илью, и Адольфа, и Алексея Ивановича, но телеграмма была от третьего дня и я ее спокойно получил. Я думаю, что нам и говорить-то с вами не о чем.
– Они послали ее в субботу! – воскликнула Нюша. – Они через меня услали Илью Степановича!
– Я уйду, если вы мне не скажите, при чем тут вы.
– Мне нет времени рассказывать вам, кто я такая. Вы понимаете ли что значит для меня, если Илья решит, что я его услала с целью? что я держу руку Келлермана?
– Нет, не понимаю.
– Молчите! Боже мой, как вы не похожи на него. Вы должны сейчас же ехать обратно, слышите? Я дам вам денег.
– Мне обратно ехать? – изумился Вася. – Да вы что, в уме?
Он видел в Нюше какую-то сумасшедшую, которая вдобавок мешается не в свое дело.
– Я то в уме! – вскричала Нюша, заливаясь краской, – да вы не в уме, вот что! Куда вы едете? Вы знаете, что такое Адольф?
– Еду я в Россию, оттого, что здесь больше не могу, – произнес Вася хмуро.
– А там что же?
– А ничего. Вероятно, плохо, да зато свободы меньше. Не знаю, что здесь с собою делать.
Нюша поглядела на него и в глазах у нее встали слезы.
– Бедный мальчик, – сказала она (Вася досадливо покраснел).
– Месяц тому назад и я, может быть, с тобой поехала бы! Пропадешь ты там, вот что.
И Вася не ответил; он сидел в кресле, том самом, где третьего дня утром сидел Шайбин, – другого, впрочем, в комнате и не было. Нюша подошла к нему близко, близко так, что ее колени пришлись между его колен.
– Милый, – сказала она со слезами в голосе, – не уезжай!
Он испугался, что она вот-вот дотронется до него нежной рукой, до него, до грубой куртки, пролинявшей подмышками, увидит его, может быть, не совсем чистую шею.
– Милый, – повторила она, – тебе не надо ехать, возвращайся к маме, Ильюше. Я-то знаю: другой дороги тебе нет.
Вася грубо отодвинулся от нее.
– Оставьте меня в покое! – пробормотал он. – Чем вы собственно, говоря, занимаетесь? – И он усмехнулся.
Она не сводила глаз с него, она присела на стол и положила руку ему на широкое плечо.
– Нет для вас другой дороги, как всем под крылышко к Вере Кирилловне, – сказала она с мукой, и вдруг слезы побежали у нее по лицу. – Ты даже не знаешь, зачем ты бежишь от нее. Я письма твои к Адольфу читала, я мечтала о тебе, думала: вот еще один, который, может быть, меня с собой возьмет. А теперь – нет! Слышишь: некуда бежать тебе из дому. Я тебе денег достану. Мама ждет тебя.
Она, не таясь, плакала и не вытирала слез. Вася не знал, как ему быть, он решил еще раз попытать грубости.
– Вы могли бы, кажется, чужих писем не читать. Мне не десять лет, чтобы меня Верой Кирилловной стращать… И на ты я с вами не переходил.
– Что ты! Господь с тобой! Разве я стращаю? Я говорю с тобой, как мог бы со мной Илья говорить: послушайся меня, поверь мне. Не можешь?
Васе делалось жарко; он все более отворачивался от Нюши.
– Что бы ты ни хотел, я все сделаю, – говорила она, – ты Адольфа и не увидишь: сегодня же вечером посажу тебя на поезд, билет куплю… Хочешь, я поцелую тебя? – сказала она вдруг совсем тихо и печально, ища рукой его руку – хочешь, сегодня вечером приходи ко мне?
Слезы лились у нее из глаз; она сжимала его пальцы и робко смотрела на него. В это мгновение Вася почувствовал, как сердце его на секунду остановилось. Где, где и когда чувствовал он в руке вот такие нежные и прохладные пальцы?
Возможно, что это было во сне, и сон этот был не столь давним, где голос Ильи и хруст конверта огромной важности заставили его дрожать от ужаса и стыда. И тогда, точно так же руку его поймала чья-то маленькая рука. О, как сладостно, как дивно было это прикосновение! И каким неповторимым казалось оно!
Он повернул лицо к Нюше, не зная, как взглянуть ей в глаза.
– Вы плачете? – сказал он, чтобы что-нибудь сказать в смущении, которое его душило. – Я уйду лучше, я приду потом; попозже, когда вы успокоитесь.
Она выпустила его руку. Он встал, но как мог он уйти вот так, после того, что она ему сказала? Или у нее вовсе не было стыда?








