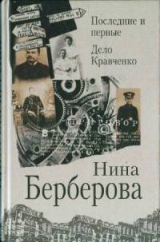
Текст книги "Последние и первые"
Автор книги: Нина Берберова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
ГЛАВА ПЯТАЯ
Илья был голоден. Лиловый воздух, тяжелый от влаги и городских испарений, то шел ветром навстречу, то ложился на плечи всей неподвижной сыростью, собранной с каменных улиц. Был первый час. В этих богатых местах ресторанов не было, да если бы они и были – Илья не отважился бы зайти. Он не очень знал, где именно предстоит ему завтракать. Самое лучшее было вернуться к площади Клиши и там, где-нибудь в стороне дома, недорого закусить. Он так и сделал.
Все, наконец, окончательно высветлилось перед ним. Он не лгал Шайбину ни одним словом: он и вправду не надеялся, что Келлерман откажется от Васи. Илья рад был, что не дошло у них даже до переговоров об этом: они не спорили, не требовали друг у друга уступок во имя отцовских чувств Степана Васильевича. О Васе, как о сыне, на которого отец имеет некоторые права, и вообще-то не было сказано ни одного слова. Сам Келлерман перевел разговор в плоскость иную, политическую. И это было хорошо.
Не для упорядочения семейных дел своих покинул Илья Горбатов провансальскую ферму. Давно уже писали ему, что в Париже идет правильная работа среди людей, ждущих земли, – работа осторожная, работа скрытная, – и давно уже стало Илье понятно, что Адольф и отец его связаны с этой работой, что уловление Васи есть как бы некоторое победное начало их деятельности; но доказательства не проникали в далекий департамент Воклюз.
Было нечто, во что Илья верил: это была Васина автоматическая честность. За полчаса до отъезда Ильи в Париж Вася успел отдать ему чек и сказать то самое, но бессвязно и поспешно, что передал Келлерману Илья. Оставалось бежать домой, заверить Васю в системе. Быть средством для темных целей Келлермана – нет, этого Вася не мог. Так думал Илья.
Между тем, он вошел в ресторан.
Ему очистили место в углу, у окна, где в щель грязной занавески он мог видеть тротуар и узкую полосу улицы. Возле него, в чаду близкой кухни, сосредоточенно завтракали девушка и рабочий, время от времени водя по тарелке куском хлебного мякиша.
Для них это были будни; для Ильи – странный, безрадостный праздник. Он был в городе и немного хмелел от шума и недостатка воздуха. Какое было сегодня небо? Он еще не видел его. Погода была влажная, ветреная, таких дней осенью, в особенности в октябре, бывает слишком много. Илья их не знал.
Он спросил картофель в уксусе, бифштекс, но насквозь прожаренный: деревенским людям трудно есть кровавое мясо. Съев бифштекс, он потребовал еще один – соседи посмотрели на него дружелюбно и почтительно. Потом ему подали сыр и сладкое. Вином он угостил своих соседей.
Ему предстояло побывать еще в двух местах, но он решил отложить оба дела на завтра. Завтра было воскресенье – он успеет и туда, и сюда и застанет, кого надо. Сейчас ему сильно хотелось спать, две ночи он спал непростительно мало, последнюю ночь в вагоне ему мешал Шайбин. О Шайбине Илья не знал, что думать, и, однако, чувствовал, что самое трудное уже позади.
Придя к себе, он раскрыл чемодан – сверху лежала записка Марьянны: «Ильюша! Привези мне в подарок лиловое мыло, каким моются в Париже». Он разбросал во все стороны сорочку, бритву, мыло, платки, щетку; снял пиджак и башмаки и повалился на постель. И тогда только, над крышей дома напротив, он увидел край неба: это был край неподвижного, дымного облака. Илья тотчас же заснул.
Он не шелохнулся не то два часа, не то три. В комнате серело, смеркалось, свет истаивал за окном. Илья лежал на спине, полуоткрыв рот, разбросав руки, на противоположном конце кровати торчали его ноги в серых, полосатых носках… Женщина вошедшая без стука и присевшая у стола, долго смотрела на них, потом пошарила в карманах его куртки, нашла спички и закурила.
Она сидела долго. Вода стонала в трубах; темнело; улица то затихала, то, сотрясая дом, мчался по ней грузовик. Женщина видела себя в зеркале шкафа, и это развлекало ее. На ней было то же темное платье и коричневые туфли, что и утром. Она успела сосчитать ряды тусклых цветов на обоях и вновь прочесть записку Марьянны. Она сидела и курила, но ни за что на свете не разбудила бы Илью.
Прежде всего – у нее не было никакого определенного дела, и она могла свободно просидеть таким образом до вечера. Вечерами, вернее ночами, она была занята: она выступала в увеселительном заведении, которое называлось «Aux horomes des boyards». Она вместе с партнером Лешей, танцевала сицилианское танго, в черном платье, закрытом до подбородка спереди и с голой спиной. Леша вывихивал ей мизинцы от презрения к ней – в этом заключались все их отношения. Лешу увозили американцы или немцы (а с виду кто бы мог подумать) в тайные притоны или уводили в ближайший отель. И Леша богател: говорили, что он копит, что хочет вывезти мать из Жиздры в Париж.
Нюша танцевала свое сицилианское танго. Если бы она попробовала, она могла бы танцевать что-нибудь другое, или даже петь. Потом она снимала черное платье, надевала другое, с рукавами и продавала куклы; она носила их между столиками в большой плоской корзине, у них были длинные слабые руки, парчевые платья, лица, раскрашенные господином Расторопенкой в его мастерской (говорили, впрочем, что он прогорает). Над Нюшей смеялись в «Aux horomes des boyards» и в других местах: в «Тройке», в «Каво», в «Усадебке». Когда она приходила ужинать в «Занзибар», ей говорили, что она роняет себя, что скоро ее перестанут считать артисткой. Удивлялись ей и по другому поводу: она никогда ни к кому не подсаживалась, она отбывала службу.
В «Занзибар» она приходила к двум, когда увеселительное заведение закрывалось. Здесь поджидала она из самых различных мест Берту, Наташу и Меричку, – Наташу, ту прямо с улицы: дела ее в последнее время были из рук вон. Здесь они ужинали. Здесь рыжий Анри летал для них от салата к горчице, с грохотом бросал чашку на блюдце и, вихляя локтем, наливал кофе рыжей струйкой, другой рукой поднося зажигалку к чьим-то потухающим папиросам. Здесь Нюша проводила час, другой, прежде чем отправиться в отель Сельтик. И здесь часто душа ее бывала непокойна: шли недели, приходили письма из Африки, приходили письма из Прованса, Адольф Келлерман писал ей записки. Жизнь текла.
Нюша сидела в густом дыму: дым трех папирос стоял в воздухе. За окном было черно. Она, не зажигая света, подошла к кровати и наклонилась над Ильёй. И тогда только он открыл глаза.
– Здравствуйте, Илья, – сказала она, потерявшись.
Он взял ее за руки, подвинулся, заставил ее сесть, а потом и лечь рядом с ним.
– Вы давно ждете? – спросил он, глядя ей в лицо, темнеющее перед ним на белой подушке.
– Да.
– Что же вы не разбудили меня?
Не зная, что сказать, она закрыла глаза, и он нежно, безмолвно, провел рукой по ее плечу и бедру. Она сделала усилие и не шевельнулась. Он потрогал ее волосы, гладкие у лба, собранные у затылка; оба не могли заговорить. В недушном, слабом объятии пролежали они долгое время, от дыхания лицам их стало тепло.
Нюша сказала:
– Я поцелую вас, Илья, я так рада вам.
Она потянулась к нему, поцеловала его в лоб, в глаза, он поцеловал ее руку. Она смотрела на него сияющим взглядом, она видела в сумерках его широкое лицо, оно казалось ей сделанным из камня, только глаза Ильи блестели светло и живо.
– Хотите послезавтра уехать со мной? – спросил Илья.
– Вашей женой? Вашей любовницей?
– Нет.
– Не могу, – сказала она, прижимаясь лицом к его широкой груди, – не могу вам лгать: у меня нет сил на это.
Он смотрел поверх нее, на раскиданные вещи, которые, вот подите же, оказались с ним в этом Париже! Он смотрел не мигая, пока не устали глаза.
– Не зажечь ли? – спросил он.
– Не надо.
Ему казалось, что она пахнет абрикосами. Она лежала слабо согнув кольни, будто грея руки у самого его сердца.
– Почему с вами так хорошо молчать, Илья? – сказала она, вовсе не ожидая от него ответа. – Вы вообще сплошное «почему» для меня, – улыбнулась она тому, как это у нее вышло. – Почему вы не любите меня? Почему вы никого не любите? Не отвечайте мне, я больше всего вас люблю, когда вы молчите.
Она осторожно отвела голову от его груди и стала смотреть ему в лицо. Медленно протянула она руку и обняла его за шею.
– Куда вы зовете меня? Куда вы без вас зовете меня, друг милый? – сказала она с нежностью, и в миг слезы застлали ей глаза. – Неужели вы думаете, что я могу жить подле вас и не мучиться? Неужели вы думаете, что я могу сама по себе жить и не пропасть? Кто это может сам по себе жить и не пропасть? Из нас – никто.
– Из вас?
– Из нас, последних. И если кто захочет не пропасть, Илья, (а ведь бывает так, что не захочет) – тот сейчас руку ищет… Дайте мне вашу руку.
Илья сжал ее слабую, чуть влажную руку.
– Вы не черствый, вы не холодный, почему же вы не любите меня? На минутку одну загляните в меня: вот, я хочу спастись, любовью спастись хочу, вас нашла. А вы… Сколько вам лет?
– Двадцать пять.
– Да. Это мало. Потому-то я так и откровенна с вами. Мне нравится, что вы ни с кем меня сравнить не можете, мне от этого гордо как то перед собой, от этого иллюзия, что я ваша единственная, а на самом-то деле – я никакая не ваша. Вам не смешно, что мы с вами в темноте лежим? что я вас обнимаю? Вы, кажется, хотели зажечь свет?
– Нет, оставьте.
– Как удивились бы ваши, если бы я приехала. Ваша мачеха не впустила бы меня.
– Она меня спрашивала, ждать ли вас.
Нюша отстранилась слегка.
– Вы говорите неправду.
– Я говорю правду. Она думала, что я привезу вас.
– Она не ненавидит меня? Она не… Простите меня, Илья, я думала, она считает меня во всем виноватой.
– Вы не виноваты, что Шайбин вас любит.
Нюша откинулась, выпустила шею Ильи и закрылась рукой. Ее кружевной рукавчик забелел темноте.
– Как вы это сказали! – с мукой воскликнула она. – Я во всем, во всем виновата. Три его года в Африке, смерть сестры моей – все у меня на совести. И еще другое, многое другое. Да зачем вам знать? Вы ведь и без того жалеете меня.
Она опять взглянула на него и увидела его слегка разомкнутые губы.
– Вам отсюда уехать надо, – прошептал Илья, поймав ее взгляд.
Она усмехнулась с горечью.
– Куда? Там у вас, верно, и парикмахера-то нет: кто меня стричь будет?
Она вся заметалась на широкой постели, закинув обе руки за голову.
– Мне ни ехать, ни оставаться, поняли? – сказала она с внезапною черствостью в голосе. – Мне жить невозможно. Хочу жить, спастись хочу, а выходит – деваться мне некуда.
Илья порывисто одной рукой сжал обе ее руки.
– Не смейте, молчите! Не смейте говорить так! – сказал он с силой, наклонившись над ней. – Если вы еще раз посмеете сказать это! Да вы понимаете ли, что говорите? Слушайте меня: вы уедете отсюда; пройдет какое-то время, может быть очень короткое, и жизнь ваша изменится. Вы судьбы своей боитесь, вы знаете, что такое судьба? Все кругом судьбы своей боятся, но перестанут, перестанут! Верьте мне – вы же верили мне во всем, или я ошибался? Все изменится, все прейдет… Вы не знаете, сколько еще… Только помощи не ищите. Не люди вас спасут – вы сами спасетесь, если только по настоящему пожелаете этого, и еще через вас, может быть оживет кто-нибудь. Милая, бедная моя, как я хочу, чтобы вы поверили мне!
Она беспомощно молчала.
– Значить, мне верить вам? – прошептала она, раскрыв глаза и глядя в пространство. – Но почему, почему? Неужели вы все знаете? Надежду мою вы отняли – ведь я, представьте себе, до сегодняшнего дня надеялась, все мы надеемся, ничего-то как следует по письмам понять не умеем; любви вы мне не даете. – Она опять приблизила свое лицо к его лицу.
– И теперь вы хотите, чтобы я верила вам.
Она медленно наклонилась и, давая ему время сделать самое ничтожное, самое незаметное движение, которое она не могла не почувствовать, нежно и целомудренно поцеловала его в губы. Он закрыл глаза.
– Никогда ни с кем? – спросила она тихо.
– Никогда.
– Но как же это возможно?
– Нюша, милая, о чем вы спрашиваете? Разве я знаю? Так просто – не пришлось, по настоящему – жажды не было. Разве я могу знать? Может быть, я урод, калека, не знаю. Простите меня.
Она скользнула с постели, зажгла свет и невольно подошла к зеркалу. С тревогой и стыдом заглянула она себе в глаза.
– Что же вы ответили вашей мачехе, когда она спросила обо мне? – проговорила она, не глядя в сторону кровати.
– Я сказал, что вы не приедете.
– Зачем же вы сейчас звали меня?
– Я мог ошибаться, но как видите, я не ошибся.
– Вы опять не ошиблись?.. Так вы говорите, что я спасусь?
– Непременно спасетесь.
– Господи, дай, чтобы он не ошибся и на этот раз, и помилуй меня! – сказала Нюша и перекрестилась с поклоном.
Илья оставался лежать; он потерся лицом о подушку, подушка пахла абрикосами.
– Что вы со мной вечером делать будете? – спросила Нюша.
– Мы пообедаем вместе, – сказал он, – и потом пойдем гулять… в какой-нибудь сад.
– Сады закрывают, да и погода не та.
Она подошла к нему; в наволочке, грубой и плотной торчал кончик пера, каким обыкновенно бывают набиты подушки. Она ухватила его; Илья не двигаясь следил за ее пальцами.
– С вами случалось в детстве, в постели (у меня была с решеткой по обе стороны), нащупывать вот такие остренькие хвостики; с волнением вытягиваешь, и вдруг, неожиданно – чудное, красивое перышко, невесть откуда, из старого матраца, выходит на Божий свет. Случалось?
Она потянула и действительно из подушки вышло гладкое, серое перо.
– Вот точно такое бывало, – сказала Нюша и улыбнулась. Улыбнулся и Илья. – Ну, а теперь я пойду оденусь, будьте готовы. Пойдем обедать.
И она вышла. Часы внизу пробили семь. Илья услышал над собой Нюшины шаги, потом все стихло. И тогда на него нахлынули разом все те мысли, все те чувства, что жили в нем полубессознательно последние часы. Он закрыл глаза.
Веки его были горячи. Он взял перо, которое Нюша бросила и провел им по глазам. И словно кто-то шелковистыми ресницами коснулся его век. «Мама», – вслух сказал он. И все было кончено. Он вскочил, надел башмаки, пригладил волосы.
Этот вечер 22 сентября перешел сам собою в сон для памяти Ильи. От него осталось немногое: печальные глаза Нюши, сидевшей насупротив него в шумном маленьком ресторане, и молчаливый их ужин. Холод улиц, блеск огней; женская рука в его руке (он никогда не носил перчаток) и, наконец, фокусник. Были ли они в цирке или в ярмарочном балагане, – он так и не понял. Фокусник творил свои чудеса в трех шагах от Ильи – он сошел прямо в публику. Этот фокусник потом, ночью, приходил к нему, продолжая претворять воду в вино.
– Сам Господь наш Иисус Христос не сумел бы сделать лучше, – приговаривал он.
Но ночью это был уже настоящий сон, такой, каким они с Васей обычно спали: глубокий, неподвижный, неслышный. В балагане же был еще япончик.
Ему было лет шесть, на нем были розовые штаны, которые постепенно намокали спереди, пока япончик выделывал сложные акробатические упражнения. Кончилось тем, что япончика унесли: под трапецией была лужа.
Нюша смеялась и немного плакала. Взявшись под руки, они вернулись домой, было одиннадцать часов: пора было Нюше идти в заведение, танцевать свое сицилианское танго.
Пусть этот грустный вечер с Нюшей перейдет для Ильи в сон! Пусть сейчас в трудовом Провансе, где земля так любит человеческую руку, он уже не помнит: плакала или смялась Нюша, когда отходила от двери его, номер тридцать четыре; пусть и через пятьдесят лет, когда все, что было в нашей туманной молодости, станет вдруг опять ясным таинственной человеческой памяти, пусть и тогда не вспомнит Илья этих холодных вечерних часов! Но пусть и сейчас, и через пятьдесят лет (он, вероятно, будет жить очень долго) он не забудет то свежее воскресное утро и встречи – вольные и невольные – в одном из углов города Парижа. Да и нельзя, невозможно их забыть! Кто раз был там, кто раз видел их, тот в сердце своем навсегда сохранит, пусть тайно, воспоминание, которому равного на свете нет по обиде и боли. И в зрелые годы борьбы и сознаний пусть пройдет перед Ильей Горбатовым, пронижет его острием своим мысль о том сентябрьском утре; и в старости, когда подойдут воспоминания другие, воспоминания сложно и страстно прожитой жизни, и захотят замутить мечту о той горькой прогулке, – да не замутят они ее! Да будут внуки у вас, Илья, чтобы рассказать им, чтобы сердцам их передать эту явь. Созовите правнуков ваших, пусть слушают сказку, страшнее сказки о Синей Бороде, страшнее всех бывших на земле сказок, которую, может быть, по возрасту их еще и не следует им рассказывать. А когда вам начнет сниться могила, и вам захочется, по старческой беспомощности вашей, найти тех, что тоже в прогулках своих забредали в эти темные места, слово «Париж» станет для вас, уцелевших с обветшалым сердцем, паролем… Пусть все останется в вашем сердце: и каждое слово умирающего Пашки, и мать господина Расторопенки, и тот Петр Иванович, что стоял ближе к двери… Тот, кто сам не видал, – не поверит вашему рассказу, Илья, и даже сама Вера Кирилловна сейчас закинутая в чужие страны, даже сама она не поверит вам. Сказкой прозвучит это на весь мир.
То утро было свежо и пасмурно; разорванные облака делали высоту утомительно пестрой; люди мелькали, кружились автомобили; ветер с Ламанша налетал порывами, завивал ветви нищавших платанов; бульвары роскошной кривой уходили в сизое пространство.
Часов в девять Илья вышел и пешком отправился через город туда, где жили «наши». Ему не хватало движения: камень тротуаров никак не мог досыта утомить его прочные ноги.
«Наши» живут, как и подобает им, в самых разнообразных местах Парижа (не говоря уже о пригородах); те, к которым пошел Илья, селились не столь далеко от лучших мест столицы: военной школы, Марсова поля. Впрочем, от Марсова поля было и вовсе не так близко: полчаса, а то и больше ходу. Здесь, несколько неожиданно, начинались в полном смысле слова трущобы.
Сначала шли улицы по большей части торговые – торговля шла почти исключительно снедью и башмаками. Лотки ломились от яблок, войлочные туфли были вынесены из помещений чуть ли не до самой мостовой. В праздничные дни здесь торговали бойчее, чем в будни: шалый народ бродил прямо по мостовой, не зная, как убить время. Потом шли улицы значительно тише, мощеные булыжником, с двухэтажными, облупленными домами, деревянными воротами и торчащим подле них краном. За этими, уже достаточно невместными для Парижа улицами, начинались тихие, безлюдные тупики.
Сюда не доносилось жужжание и рев моторов; здесь была нищета – и облака над нею. На окнах, видимо давно немытых, не было занавесок, но разглядеть что либо в них было невозможно: да оно и лучше, – чего, в самом деле, смотреть друг на друга? Сукотная кошка перебежала от одних ворот к другим. Илья остановился, взглянул на номер дома. На мостовой стояла ручная тележка с наваленными на нее дырявыми соломенными стульями.
Да, это и был нужный ему дом. Из-под ворот был ход в трактир «Город Киев», и у захватанной, узкой двери стояло огромное цинковое ведро, полное мусора. Рядом с ним было свалено все то, что в него не поместилось: рыжая зола, букет вялых цветов, пустые консервные банки и различные иные предметы, разглядеть которые Илье не удалось. А над этой кучей, над смрадом гниющей гвоздики, склонялись худенькая девочка лет десяти и мальчик несколько моложе. Оба молча рылись в сомнительных предметах.
Девочка успела порезаться консервной банкой и терпеливо посасывала испачканный кровью палец; мальчик зорко наблюдал, как бы она чего не вытащила, что могло пригодиться и ему.
– Зачем вы здесь? – спросил Илья, и холодный пот выступил у него на лбу и на шее.
Девочка подняла на него робкие, голодные глаза. Она была причесана на две ровные косички, но одета дурно и грязно.
– Цветочки ищем, – сказала она лукаво и опять принялась за прерванное дело. Мальчик и не взглянул на Илью.
Да, это был нужный ему дом.
Черномазый повар «Города Киева» внезапно распахнул дверь – в тесной кухне, которую в тот миг увидел Илья, уже трудно было дышать от пригоревшего сала. Повар ожесточенно затряс сетку с салатом, и брызги полетели во все стороны.
– Пошли вон, комары! – крикнул он и едва успели дети поднять головы, как целая пригоршня картофельной шелухи пролетела мимо них. Они тотчас кинулись к ней.
Илья пошел дальше.
Узкий двор, неровно вымощенный, отчего в нем застаивалась жидкая, блестевшая тут и там мокредь, с одной стороны замыкался длинным одноэтажным флигелем, с другой – забором давней кирпичной кладки; прямо, в тесной глубине двора, было крытое отхожее место, и рядом с ним навес, под которым сидел человек, подстелив под себя газету, и чинил плетеное сиденье ветхого стула. Ему, по всей видимости, и принадлежала ручная тележка, оставленная на улице.
Но Илья не сразу подошел к нему. Он медленно пошел мимо окон флигеля. Люди здесь жили не только в первом этаже, но и в подвале, окна которого приходились вровень с землей и куда заглянувши можно было увидеть каменный с выбоинами пол и немногочисленную домашнюю рухлядь. Тут же, у одного из окон, у выбитого стекла, прижавшись носом к острым краям его, присев на корточки, застыл маленький светловолосый мальчик. Он не мигая смотрел вниз, в окно, где в глубине пустой, низкой комнаты, в углу на тощем матрасике, прикрытый старой солдатской шинелью, лежал на спине, с широко открытыми глазами, такой же, как и он, мальчик лет семи.
Он лежал не двигаясь и тоже не сводил огромных, воспаленных глаз с окна. По всему видно было, что у него жар, и жар сильный: губы его были раскрыты, и оттуда, вместе с кратким хрипом, шел слабый пар; волосы его слиплись – лоб был в испарине!..
Мальчик, стоящий у окна, наконец осторожно вынул руку из кармана затрепанной куртки. В руке его блеснул сломанный перочинный ножик.
– Пашка, а Пашка! А у меня ножик есть, – сказал он, словно начинал игру, замирая от любопытства.
Пашка шевельнулся под шинелью, тоска исказила его худенькое лицо.
– Дай! – тихо выговорил он и еще больше расширил темные глаза. Мальчик у окна засмеялся.
– А помрешь ты – кто мне его отдаст? – спросил он жадно.
– Папа отдаст, – донесся слабый голос Пашки.
– Не отдаст. Лучше я с ним малость поиграю, а когда ты помрешь, я тебе его в гроб положу.
Тень надежды прошла в глазах Пашки, он попытался улыбнуться.
– Не врешь?
– Ей-бо!
– Не ври. Не то с того света приду пугать, слышишь?
Столько слов в конец истомили его. Несколько мгновений он метался под шинелью и затих.
– Кто это? – спросил Илья.
– Это Пашка, – ответил ему мальчик, не отводя от окна озабоченного взгляда.
И Илья пошел дальше.
В окне шили женщины; одна была еще молода и она не подняла головы, когда он остановился. Старуха с тревогой в глазах отложила работу.
– Где здесь найти Расторопенку? – крикнул Илья, чтоб он услышали его сквозь стекло.
– Дальше, дальше, – махнула рукой старуха. Дальше была низкая дверь в сапожную мастерскую. Здесь же, спиною к сапожнику, сидел человек с медалью и ковырял разобранные стенные часы. Да полно, воскресенье ли нынче? Сапожнику было, по правде сказать, все равно. Он с каким-то лихим отчаянием бил по каблуку разношенного дамского, на гвоздях, ботинка.
– Нынче закрыто, – сказал человек с медалью.
– Нельзя ли узнать, где живет Расторопенко?
– Узнать можно, – опять сказал человек, – сейчас узнаете.
Он встал с табурета, положил часы и, с гирей в руке, пошел к дверям, показать Илье, как пройти в нужную ему квартиру. Но в это время сапожник внезапно перестал бить и сощурился на Илью.
– Если вы по делу о натирке полов, то они этим больше не занимаются, – сказал человек с медалью, дойдя до двери.
– Нет, я из провинции.
– Да вы не на счет путешествия нашего? – с робостью спросил вдруг сапожник, роняя гвозди изо рта.
Илья молча кивнул. Оба с минуту смотрели на него в смущенном удивлении.
– Вы приехали сами? – заговорили они беспорядочно и сразу, – что же, скоро? а прогонные дадут?
Илья опять кивнул.
– Дадут. Мне бы видеть кого-нибудь из расторопенских. Не проведете ли?
– К Расторопенко проведем, отчего не провести, – засуетился сапожник. – Ну, как это я вас узнал, а? Нет, расскажите, пожалуйста, вот случай!
Человек с медалью был степеннее; он взял Илью за рукав и поспешно повел по двору.
– Из провинции! Эх, слово-то какое! Забыли слово-то, – бормотал он.
Чинивший стулья под навесом присоединился к ним. На крутой лестнице с железными перилами Илье показалось, что за ним уже набралось человек пять, не меньше.
– Пашка, а Пашка, а у меня ножик есть, – донеслось до него со двора.
Квартира господина Расторопенко состояла из одной, очень узкой, длинной и грязной комнаты, где не было другой мебели, кроме широкой, в конец продавленной тахты, стола и двух стульев, – мамаша господина Расторопенко спала на полу. Но тем не мене, в комнату войти оказалось довольно трудно: поперек ее, на уровне человеческого лица, были протянуты проволоки, и на них с тщательностью педантическою и даже несколько преувеличенной, были развешаны на проволочных крючках раскрашенные кукольные головы; их было штук семьдесят, и все они грустно улыбались. Кругом этих, довольно-таки аляповато сделанных и в высшей степени мучительных предметов, ничего нельзя было разглядеть. Золотой порошок летал по комнате, словно солнечные песчинки, пахло скипидаром. Расторопенко, как справедливо сказали Илье, боле не занимался натиркой полов: с супругой и матерью он временно начал новое и столь же мало прибыльное дело.
– Склонитесь низенько-низенько, чтобы, Боже упаси, не задеть чего, – раздался голос мамаши Расторопенко, не видящей, кто именно вошел, но по всему догадавшейся, что вошло сразу несколько человек. Но жена Расторопенко, Марина Петровна, высокая, с высокой прической, несколько тяжелая и смуглая женщина, искусно нагибаясь, где надо, оказалась внезапно в двух шагах от Ильи.
– Я – Горбатов, – сказал он, снимая кепку.
Она покраснела густо, медленно, как краснеют люди смуглой кожи. Стремительно оглядела она Илью и вошедших с ним людей.
– Горбатов… Пройдите… Сядьте… – В замешательстве она раздвинула на проволоке кукольные головы, дала Илье пройти. Кое-кто вошел за ним; на лестнице, как ему показалось, поднимались еще люди.
Марина Петровна подождала, пока Илья сядет, она и сама села и оказалась посреди комнаты – но на этот раз не смутилась.
– Вот живем, видите, – вырвалось у нее, несколько истерически, – двор видели? Дети есть… Лучше бы их не было!
Она с ним говорила, как с чужим, она чего-то стыдилась.
– Я зашел сказать, – проговорил Илья, – что в конце этой недели вы можете собираться. Завтра я еду домой, и вам тотчас же будут высланы путевые деньги. Дело это решенное, как я и писал, а зашел я предупредить, чтобы все были готовы.
И в эту минуту он поднял глаза и увидел этих всех: это были «наши», созванные из разных мест двора. В дверях стояла целая толпа, человек не менее десяти.
Они раздались немного – господин Расторопенко протиснулся в комнату.
– Илья Степанович, дорогой, простите за волнение, – сказал он, неизвестно, извиняясь ли за свое волнение или за всеобщее, беспорядочное, но тихое волнение «наших».
Он поздоровался с Ильей. Они хорошо знали друг друга, хоть никогда до того не видались; но длительное дело переселения расторопенских на землю, которое в Сен-Дидье вел Илья, и постоянная переписка укрепили их несложные отношения. Они едва дали себе время рассмотреть друг друга.
– Вы слышали, что он сказал? – воскликнула Марина Петровна. – Едем мы, слышали?
Люди заколыхались. Мамаша собрала куклы – не дай Бог попортят! И за проволокой стали видны бледные (и отчего это, правда, всегда такие бледные?) лица.
– Ас одежонкой как? – раздался чей-то голос.
– Одежду, если кто не имеет, там справите, не трудно это, – сказал Илья. – На первое время все дадут, даже топливо. Дело новое, и французы эти уж очень душевные.
– Благодаря вам, Илья Степанович, душевность их, – вставил Расторопенко, – разве мы не знаем?
– Благотворители, может, какие? – спросил еще голос.
– Нет, не благотворители: сейчас потратят, да потом свое возьмут: дело с будущим, я писал. Тоже и местные кассы сельскохозяйственного кредита на помощь вам приходят.
Задние начинали теснить передних.
– Пусть заводские не напирают, – говорила мамаша. – Заводские всегда всех перетолкают.
Были среди вошедших и женщины, те две, что шили у окна. Мужчины пришли все – точно сейчас с работы: никто не был одет, как говорится, по-праздничному. Половина, впрочем, уже давно никакой работы не имела.
– Вот что я спросить хотел: тут ведь среди вас кустари есть, так временно придется ремесла бросить. Временно потому, что потом, может через несколько лет, если все пойдет, как сейчас, там организуется русский поселок; сейчас идет горячая работа именно по собиранию – очень все распылены. Тогда русским кустарям найдется дело. А сейчас – всем придется на земле работать.
Сапожник, Петром Ивановичем его звали, стоял всех ближе к Илье.
– На это идем, – воскликнул он, – ни Боже мой ремесла не жалко! Да и случайно оно – у большинства с кочевья нашего пошло, не с измальства, – с беды.
– Еще я сказать хотел: трудная работа предстоит. И вообще, как вы, может быть знаете, то, что вы из себя, из пролетариев, крестьян делаете – противоестественно это. Теперь наоборот – естественным считается процесс обратный: сейчас люди из деревни в город идут. Значит, в самом корне вашего переселения уже есть некоторая трудность, органическая как бы, – понимаете?
Люди неподвижно стояли перед ним; Расторопенко за раз обратился и к ним и к Илье.
– А мы, значит, обратным путем, противоположным, как бы Европе всей на удивление…
– В работе – жизнь; научены мы, не страшно, – сказал кто-то.
– Работа каторжная, я писал, – продолжал Илья. – Вы не сразу помещиками сделаетесь. Ваша работа будет вроде как бы переходная: жить будете, как крестьяне тамошние живут; птица, кролики будут: работать на спарже будете, там завод консервный. Инициативы никакой, пока не скопите: скопить можно в два-три года, – тогда будет хорошо, тогда к фермажу ближе. Только удовольствий и развлечений – никаких.
Марина Петровна, в возбуждении, с горящими глазами и лихорадкой в руках, прервала его:
– А здесь что за радости? А ну, скажите мне? Кинематограф да кровать, и то отрава одна – кинематограф… А кровать – к чему она когда детей девать некуда, когда детей иметь нельзя: для русской женщины кровать без детей – не радость! Она вся пылала, на глаза ее навернулись слезы: все потупились, Расторопенко делал ей знаки, которых она не видела и не хотела видеть.
– Там детям тяжело, – опять заговорил Илья, – школы нет, ученья нет настоящего. Вот переедете – мачеха моя хочет передвижную школу начать, а сейчас плохо – хоть коров паси.








