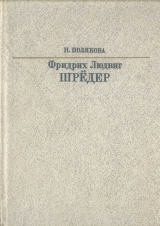
Текст книги "Фридрих Людвиг Шрёдер"
Автор книги: Нина Полякова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
Занавес Гамбургского национального театра впервые поднялся 22 апреля 1767 года. Представление открылось «Прологом» – обращением к тем, кто пришел на этот долгожданный праздник. Его сочинил, как считали, Лёвен, поэт, который, по мнению Лессинга, «лучше всякого другого умеет развеселить остротою серьезные умы и придать вид приятной шутки глубокомысленной серьезности».
«Пролог» «со всей подобающей ему пристойностью и достоинством» исполняла мадам Лёвен – одна из лучших актрис, вернувшаяся в труппу после продолжительного отсутствия в театре. Она «снова явилась на сцену со всеми теми достоинствами, которые признавали за ней и которыми восхищались знатоки и незнатоки, люди понимающие и непонимающие».
Сейчас они внимательно вслушивались в слова, обращенные к ним, сидящим в ложах и в партере, ко всем, кто верил в дарованное искусству чудо преображения, в театр, способный не только воссоздать картины жизни, но, сопереживая ей, влиять на мир – борясь, поучая, плача и смеясь.
Открытое, спокойное и вместе с тем выразительное лицо актрисы Лёвен, звучный, серебристого тембра голос, тонкое, прочувствованное исполнение не могли не расположить к себе публику. Притихшая, внимала она неспешно льющимся строкам «Пролога». В них говорилось о большой, благотворной роли искусства:
«Дано ему людей своею трогать силой,
Любовь горячую будить в душе остылой…
…Чтоб тот, кто бушевал, как дикий зверь в пустыне,
Гражданству научён, стал патриотом ныне».
Подлинное искусство, отстаивающее достоинство и лучшие чувства людей, не боится ни трона, ни порфиры. Оно открыто «клеймит убийц, украшенных венцом». Именно такой театр, «бич меткий и кинжал» которого грозно разили неправых, всегда высоко ценила публика.
«Искусство это чтил народ в Элладе весь;
Чтут в Галлии его, в Британии и здесь.
…Здесь музы обрели и сцену и приют —
Так пусть же в Гамбурге Афины процветут!
…Здесь новый Росций нам, Софокл второй созрел,
Чей долг – Германии явить котурн Эллады.
О благодетели! Что выше той награды?
К искусству щедрыми пребудьте, как сейчас,
И знайте: смотрит вся Германия на вас!»
Последние фразы «Пролога», словно прощальный всплеск фейерверка, озарили гамбургцев. Взрыв аплодисментов сотряс стены Театра на Генземаркт.
Когда мадам Лёвен, низким реверансом поблагодарив публику, покинула авансцену, настало время главного спектакля – трагедии «Олинт и Софрония» Иоганна Фридриха Кронегка. Выбор ее, по словам Лессинга, был вызван стремлением «дать оригинальное немецкое произведение, которое здесь имело бы еще и прелесть новизны». Правда, «внутреннее достоинство этой пьесы не имело никакого права на такую честь, – признавал он. – Самый выбор заслуживал бы порицания, если бы можно было бы доказать, что была возможность выбрать что-нибудь получше».
«Олинт и Софрония» – типично классицистская трагедия. Автор ее, ученик Геллерта, не был новичком в драматургии. Первая же его трагедия, «Кодр», получила одобрение. Ее отметили как «лучшую» из представленных на конкурс, организованный К.-Ф. Николаи, одним из издателей первого критического журнала Германии «Библиотека наук об изящном и свободных искусствах». Кронегк писал не только пьесы, но статьи, стихотворения и духовные песни. Он умер рано, на двадцать шестом году жизни, не успев завершить работу над «Олинтом и Софронией». Шесть лет спустя финал трагедии дописал венский архивариус К.-А. Рошман.
По мнению Лессинга, «Кодр» не блистал достоинствами. Критик деликатно называл эту пьесу «лучшей из тех, которые конкурировали на премию», и завершал свою оценку так: отзыв его не отнимает у пьесы достоинств, которые признавала за нею критика. Однако «если хромые бегают наперегонки, то тот, кто первый из них прибежит к цели, все-таки окажется хромым».
Несмотря на такое суждение, Лессинг охотно отмечал, что Кронегк «возбуждает сочувствие своим непритязательным умом, нежностью чувств и чистейшею нравственностью». Вероятности качества, проявлявшиеся в произведениях Кронегка, располагали к себе Лессинга. Поэтому, несмотря на их многие изъяны, он, драматург Национального театра, все же остановился на последней, христианской драме Кронегка, законченной усилиями Рошмана в 1764 году, но неизвестной еще немецкой публике.
Спектакль начался, и зрители стали свидетелями трагической истории, которая произошла в Иерусалиме во времена первого крестового похода.
Храбрый рыцарь Олинт находится при дворе султана Аладина. Юноша скрывает, что он христианин. Олинт похищает икону распятого Христа и передает ее главе крестоносцев, Готфриду Бургундскому: по преданию, икона эта чудодейственна и поможет одержать победу над войсками Аладина. Узнав о пропаже, султан грозит живущим в городе христианам истребить их всех, если не найдется преступник. Желая спасти единоверцев, Софрония берет вину на себя. Но тут является Олинт. Его ждет казнь. Прибывшая с войском для помощи султану персидская принцесса Клоринда влюблена в Олинта. Она предлагает юноше жизнь, свободу и трон, если тот согласится на брак с нею. Олинт отвергает Клоринду и называет ей имя возлюбленной, Софронии. Сначала принцесса в порыве ревности готова убить соперницу. Затем, смирившись, хочет добиться у султана прощения для Олинта и Софронии.
Трагедия близилась к концу, и тут венский «дополнитель драмы» Рошман, «по всей видимости, завершил сюжет совершенно иначе, чем это думал сделать Кронегк. Смерть всего лучше разрешает любую путаницу, – замечал Лессинг, – поэтому у него умирают оба героя, и Олинт и Софрония».
Кронегк успел написать лишь четыре акта. Пятый принадлежит Рошману. И хотя сюжет пьесы основан на эпизоде из поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим» и там оба героя остаются в живых, Рошман кончает пьесу Кронегка их гибелью. Почему? Да потому, иронично пояснял Лессинг, что «пятый акт – это какая-то злостная ужасная зараза, сводящая в могилу многих, кому четыре первых акта сулили гораздо более долгую жизнь».
Декорации спектакля, специально созданные художником Розенбергом, приглашенным в Гамбургский театр из Берлина, отличались вкусом и богатством. Роскошь сценической обстановки, которую по достоинству оценили зрители, говорила о значительных средствах, имевшихся в распоряжении новой дирекции. И хотя в целом пьеса была посредственной, сыграли ее хорошо. Об этом свидетельствовал прием, который спектакль встретил у публики. Она осталась довольна увиденным – мнение большинства, очевидно интуитивно, совпало с формулой Лессинга, представлявшейся критику единственно возможной и разумной, когда речь шла об оценке исполнения: «Надобно быть довольным представлением пьесы, если из четырех или пяти актеров некоторые играли превосходно, а другие хорошо». Тому же, кого «игра иного начинающего или подставного актера во второстепенных ролях так не удовлетворяет, что он морщит нос и на всю пьесу», Лессинг советовал ехать в Утопию и ходить там «в безукоризненные театры, где каждый ламповщик Гаррик».
Что и говорить, в Гамбургском национальном театре не только «каждый ламповщик», но и большинство ведущих артистов не могли соперничать с прославленным британцем. Лишь одного из всех соотечественники величали «немецким Гарриком». Им был Конрад Экгоф.
В первом спектакле Национальной сцепы он играл Эвандра, отца Олинта, который фактически является наперсником героя. Этот актер, умевший создавать любой образ, отлично играл даже самую, казалось бы, незначительную роль. Лессинг почитал в нем великого артиста и искренне жалел, что публика не может «видеть его в одно и то же время во всех остальных ролях». Трагедия Кронегка изобиловала нравственными сентенциями. Однако эти назидания, признанные Лессингом заслугой пьесы, представали в форме скучных тирад, к которым «прибегает поэт в трудных случаях». Их было немало в «Олинте и Софронии», но Экгоф умел все произносить с таким достоинством и задушевностью, что даже самые избитые истины получали «у него новизну и значение, самая сухая материя – занимательность и жизнь».
Впечатление от роли, исполненной корифеем отечественной сцены, было велико. Всем, что есть назидательного в спектакле, зрители, по мнению Лессинга, «исключительно обязаны игре Экгофа», художника, который не только «воспроизводит прекрасное, но сам создает его».
Публике запомнилось также отличное воплощение роли Клоринды Софи Фридерикой Гензель. Наиболее впечатляющей являлась сцена, когда Клоринда признается Олинту в своем чувстве.
Другие исполнители «Олинта и Софронии», партнеры Экгофа и Гензель, не оставили у зрителей сильного впечатления. Но не только оттого, что данные их были меньшими, чем дарования корифеев. Роль их ограничивалась усилиями затушевать просчеты пьесы. Потому неудивительно, что «лучший из них может являться не иначе как в сомнительном виде». Признавая все же эти попытки похвальными, Лессинг снимал с актеров ответственность за досаду публики, вызванную ошибками автора. Хотя не укорял и зрителей, недостаточно хорошо настроенных, чтобы отдать актерам «всю заслуженную ими справедливость».
Спектакль, открывшийся широковещательным «Прологом», завершился «Эпилогом», произнесенным Софи Фридерикой Гензель. В нем содержалось одно из главных нравоучений «Олинта и Софронии». Кончался «Эпилог», как в старину, обращением к присутствующим с просьбой о снисхождении:
«От вас же, о друзья, мы одобренья ждем;
Свои погрешности мы сами сознаем,
Но снисхождение наш путь вперед направит
И высшей похвалы упрек искать заставит.
Искусству мы тому едва кладем почин,
Где Кинов тысячи, а Гаррик лишь один.
Мы трудное должны преодолеть начало,
И – но лишь вам судить, молчать же – нам пристало».
Этот «Эпилог», написанный, как считали, Лёвеном и завершивший основной спектакль, сменила одноактная комедия Леграна «Торжество прошлого времени». Она была одной из трех небольших пьес, объединенных под общим заголовком «Торжество времени» и поставленных автором на французской сцене в 1724 году. Повествующая о победе времени над красотой и молодостью, она звучала забавно. Ее комичные положения несколько рассеяли навеянную «Олинтом и Софронией» минорную настроенность зрителей.
Так легким, приятным «десертом» завершился этот первый вечер гамбургской Национальной сцены. Он вызвал много разноречивых суждений, склонявших все же чашу весов в пользу нового дела.
Вскоре друзья театра нетерпеливо поглощали строки первого, написанного Лессингом 1 мая 1767 года очерка-отчета, очерка-критики, взыскательно и доверительно оценивавшего начальные шаги нового детища гамбургцев. За ним последовали и другие его статьи, стремившиеся критически осмыслить ставившиеся на Генземаркт пьесы, а также то движение, которое претерпевало здесь искусство поэта и актера.
События, происходившие в Гамбурге, не остались без внимания тех, кто считал театр не местом пустого времяпрепровождения, а мощным средством, способным нарушить дремоту национального самосознания, создать предпосылки для объединения расчлененной на мелкие княжества страны, способствовать просвещению и воспитанию ее народа. Начинание Лёвена и Лессинга вызвало понимание и интерес не только в Германии, но и в соседней Дании. Гельферих Петер Штурц, друг критика Герстенберга и поэта Клопштока, жил в те годы в Копенгагене. Познакомившись с Лессингом, он предложил поставить в Гамбурге написанную им трагедию «Юлия». Автор подчеркивал, что считает Гамбургский национальный театр тем воспитательным домом, которому бестрепетно вручает свое «дитя». С радостью воспринял Штурц изменения, намечавшиеся в репертуаре новой сцены. Поэтому стремился к сотрудничеству с Театром на Генземаркт, трижды показавшим публике его пьесу под несколько измененным названием – «Юлия и Бельмонт» – в том же, 1767 году.
Но прежде, чем это случилось, Штурц обнародовал свое «Письмо о немецком театре к друзьям и защитникам его в Гамбурге». Там говорилось, что эпоха подражания французским классицистским образцам осталась позади, а посредственным иностранным пьесам, закабалившим вкус немецкой публики, не должно быть места на новой сцене. Штурц решительно восстал против иноземного рабства, в котором прозябал немецкий театр. «Как можем мы ждать появления собственного театра, если вечно переводим, а наши актеры должны живописать чужие нравы немецкой кистью? Когда же наконец мы решимся быть тем, что мы есть?» – горько вопрошал он.
Разве не вправе мы гордиться хотя бы двумя-тремя трагедиями, говорилось далее. Думается, мы, немцы, меньше грешим против музы трагедии, чем французы, потому что наша драматургия свободна от ига того принятого благоприличия, на которое тщетно пытались ополчаться возвышенный Корнель, нежный Расин и трогательный Вольтер. У нас нет еще партера, который лишается чувств при виде крови и потому заклинает героев умирать за кулисами, а римлян и греков – вести себя так, словно они живут в наше время, утверждал Штурц. Нас ничто не вынуждает подменять действие холодным повествованием, страдания – их описанием, а трагический диалог превращать в беседу, полную патетического звучания.
В своем письме Штурц критикует драматургию Х.-Ф. Вейссе. Этому плодовитому и популярному в те годы автору принадлежало много трагедий, комедий, а также зингшпилей – наиболее известным из которых был «Черт на свободе» – и опер, созданных им совместно с композитором И.-А. Гиллером.
Уже в молодые годы сблизившись с Лессингом, Вейссе много времени посвящал театру. Его заботила судьба отечественной сцены. Стиль и построение трагедий Вейссе несколько напоминали манеру Расина. Но одновременно автор старался использовать тематику и некоторые приемы английской драмы, и в первую очередь – Шекспира, хотя и отвергал пьесы великого британца, которые считал порождением дурного вкуса. Будучи во многом эпигоном французских трагических поэтов, Вейссе, однако, восставал против классицистского педантизма своего соотечественника Готшеда.
Вейссе был типичным представителем переходного периода немецкой драматургии. Объединяя пафос французской трагедии с сентиментальностью и буржуазностью английской драмы, он создавал пьесы, нравившиеся бюргерской публике.
Лессинг, охотно признававший достоинства комедии Вейссе «Амалия», которую знатоки объявили лучшей комедией этого автора, отвергал поэтику его трагедии «Ричард III». Характеризуя «Ричарда III» как «одну из самых замечательных наших пьес», в которой «много прекрасных мест», Лессинг резко отзывался о ее герое: «Ричард III, каким изобразил его Вейссе, бесспорно, величайшее и гнуснейшее чудовище, какое когда-либо появлялось на сцене».
Порицая драматургию Вейссе, Штурц подчеркивал: его заботит сохранение оригинального характера соотечественников. Поэтому он противник тенденции Вейссе вводить в немецкую драматургию смесь английских нравов и французской декламация. Штурц предлагал черпать сюжеты трагедий в национальной истории средних веков и позднейших времен. Что касается героев – ими могут быть люди различных сословий; высокие чувства – не монополия избранных.
Решительность Штурца не распространилась, однако, на изгнание из драмы единства места, времени и действия. Он сохранил их не только в теории, но и в собственной практике, например в трагедии «Юлия». Но при этом пьесы его все же свидетельствовали об ориентации на прогрессивную драматургию Э. Шлегеля и Лессинга, на ее реалистический характер.
Штурц и Лессинг были не единственными, кто подверг серьезной критике компромиссные пьесы Вейссе. Двумя годами ранее это сделал Герстенберг. Он осуществил перевод трагедии Ф. Бомонта и Дж. Флетчера «Невеста» и сопроводил его критическим письмом в адрес Вейссе, где пытался также наметить новые принципы теории драмы. Ссылаясь на опыт английского театра эпохи Возрождения, Герстенберг утверждал, что истинно поэтичной и правдивой может быть лишь драма, обращенная непосредственно к сердцу, а не к холодному рассудку зрителя. Пьеса только в том случае захватит публику, если увлекательность действия станет нарастать и зал погрузится в бездну страстей поэта. Герстенберг решительно призывал и автора и актеров изображать действие и чувства так, словно их создала сама природа.
Такой представала немецкая, и в частности гамбургская, театральная действительность, в которой судьба судила Шрёдеру одолевать крутые ступени творческого пути.
В феврале 1768 года покинув труппу Курца-Бернардона, Шрёдер вернулся на Гамбургскую сцену. То было время, когда Национальный театр, испытывая большие трудности, быстро приближался к рубежу, грозившему прервать трудный, плохо удавшийся эксперимент, затеянный горсткой энтузиастов. С болью и горечью писал Лессинг в последнем выпуске «Гамбургской драматургии»: «Сладостная мечта основать национальный театр здесь, в Гамбурге, разлетелась в прах, и, насколько я изучил здешний край, он именно такой, в котором подобная мечта осуществится очень поздно». И Лессинг, определяя истинные причины неудач Гамбургской сцены, завершает свое раздумье скорбным восклицанием: «Пришла же в голову наивная мысль основать для немцев национальный театр, в то время как мы, немцы, не являемся еще нацией!»
Радужная надежда Лёвена на духовную и материальную щедрость гамбургских негоциантов, поддержка которых помогла бы идейному и художественному расцвету местной сцены, пробуждению и консолидации национальных чувств, оказалась призрачной. Владеющие солидными прибылями и капиталами, добытыми торговлей с купцами иноземных государств, состоятельные жители Гамбурга менее всего ощущали свою связь с исконными немецкими землями, жизнью страны, и мысль о национальном самосознании едва ли волновала их воображение.
Благоденствие Гамбурга, знаменитого в прошлом ганзейского порта, а ныне крупнейшего на Северном море торгового центра, как и века назад, зависело не столько от внутреннего экономического положения Германии, сколько от внешнеторговых операций. Наглядным доказательством их успеха являлись никогда не пустовавшие причалы, пакгаузы и биржа, занимавшая все помыслы местных воротил. Коммерческие сделки со своими соотечественниками давали незначительные возможности. Германские корабли составляли менее десятой доли торговой армады, ежегодно устремлявшейся в гамбургский порт. Зато визиты иностранных купцов сулили постоянную выгоду и быстрый рост личных капиталов. Давняя зависимость Гамбурга от благосклонности к нему заморских служителей Меркурия, а не коммерсантов страны собственной не способствовала укреплению национального самосознания бюргеров. Процветающие толстосумы не привыкли связывать благополучие, которым – в отличие от жителей соседних мелких княжеств – фортуна издавна наделила их, граждан вольного города, с судьбой родной земли. И это веками укоренившееся положение губительно сказывалось теперь на первой робкой попытке средствами театра объединить гражданские помыслы германцев, всколыхнуть их безмятежно дремлющее национальное чувство.
В конце зимы приехав в Гамбург, Шрёдер быстро и легко вошел в спектакли. Обретя благодаря работе у Курца-Бернардона еще большую уверенность в амплуа комика, он продолжает играть слуг в пьесах немецких и иностранных. Но все это было лишь прелюдией к необычному образу его соотечественника – Юста в «Минне фон Барнхельм» Лессинга.
Экгоф, являвшийся блестящим интерпретатором многих ролей в спектаклях Гамбургского театра, разделял эстетические взгляды борца за национальное искусство Готхольда Эфраима Лессинга. Манера Экгофа как нельзя более отвечала требованиям, которые выдающийся просветитель-реалист предъявлял к актерскому мастерству. И именно он, этот «немецкий Гаррик» и «немецкий Лекен», постиг сложность воплощения образов, предложенных Лессингом-драматургом. Актер искал лаконичных, естественных и точных средств их интерпретации и считал, что «лишь немногие авторы задают актеру такую трудную задачу, как Лессинг». А говоря о значительности исполнения, которой способствует его драматургия, Экгоф открывал секрет завоевания ее: «Когда автор так глубоко погружается в море человеческих мыслей и страстей, тогда актер должен следовать за ним, пока он его не найдет. Это, конечно, трудно и сложно».
Но трудности, о которых предуведомлял Экгоф, он, выдающийся артист, сумел успешно одолеть. Это случилось трижды. Первые две победы были одержаны в Гамбургском национальном театре, где Экгоф сыграл сначала легкомысленного Меллефонта в «Мисс Саре Сампсон», а затем майора Тельгейма в «Минне фон Барнхельм». Что касается полковника Одоардо из «Эмилии Галотти», то свидетелем успеха актера стала публика придворной веймарской сцены. Именно здесь в 1772 году зрители увидели это главное достижение выдающегося истолкователя драматургии Лессинга. Берлинский критик Николаи восхищался исключительной силой и достоверностью образа, созданного артистом. Он высоко ценил искусство Экгофа, который, по его мнению, «отвергал всякую театральную мишуру декламации, выступающей на ходулях, и стремился быть верным природе». Николаи считал – это Экгоф «ввел в трагедию простой тон, равно присущий достоинству и нежности», и «первый ввел в комедию естественный, непринужденный разговорный тон, который господствует в обыденной жизни воспитанных людей».
Девятнадцатого июня, под свежим впечатлением от веймарского спектакля Экгофа, он писал в Берлин поэту К.-В. Рамлеру: «Во вторник вечером я смотрел „Эмилию Галотти“. Одоардо играл Экгоф. Дорогой друг, я явился сюда во всеоружии своего предубеждения против этого великого человека… Но как был я ошеломлен этим подлинным Росцием. Насколько ниже его стоят все известные мне актеры». Такая оценка не была единственной. Когда, например, по настойчивой просьбе Николаи профессор И.-Я. Энгель – позднее директор Берлинского национального театра – посетит спектакль Экгофа, он, философ, не разделявший эстетику Лессинга, придет в восторг и убежденно скажет: «Чтобы понять глубину Эмилии, надо увидеть Экгофа в роли Одоардо».
Большие новые возможности давала исполнителям и предшествовавшая «Эмилии Галотти» комедия Лессинга, в которой предстал в Гамбурге Шрёдер. «Море человеческих мыслей и страстей» комедии «Минна фон Барнхельм», о которой поминал Экгоф, омывало конкретные, немецкие, берега. Поняв сочность и своеобразие характера человека из народа – слуги майора Тельгейма, Юста, – Шрёдер впервые представил такой привычный для подмостков образ лишенным буффонной легкости и штампов. Актер наделил его национальными чертами. Эта роль словно открывала широкие просторы подлинного мира, населенного людьми преимущественно «незначительными», но абсолютно достойными внимания. Лубочное представление о них актеров-ремесленников, цепко сохранявших живучие, укоренившиеся в театре трафареты, было весьма далеким от жизненной правды, от реальных условий, в которых в действительности обитали такие персонажи. Аркадские пастушки и пасторальные пастушки вместо крестьян, комичные слуги, либо нерасторопные увальни-глупцы, либо разбитные, оборотистые пройдохи, – вот привычный набор «людей из народа», кочевавший из одной пьесы в другую. Ну а ремесленник, если ему и случалось порой здесь мелькнуть, напоминал нечто среднее между первыми и вторыми. Все они были «народом вообще», людьми, о которых всерьез не давало себе труда думать подавляющее большинство драматургов, а соответственно и актеров.
Юст Лессинга из «Минны фон Барнхельм» не был ни гольдониевским Труффальдино, ни мольеровским Скапеном. В его характере отсутствовала занимательная театральная облегченность. Но Юст – не немец «вообще» и не просто слуга. Он в прошлом крестьянин, человек, чья судьба прочно связана с недавней Семилетней войной. Майор Тельгейм, денщиком которого Юст является, не только его хозяин. Это человек, с которым прожиты годы, пройдены трудные дороги войны. Солдатская участь сблизила их, так многое переживших вместе. Потому социальное различие не препятствует известной простоте и человечности, установившейся в отношениях офицера и ординарца. И это – в жестокие времена воинской службы при Фридрихе II!
Человековедение, присущее Лессингу-драматургу, не осталось нераскрытым. Экгоф – Тельгейм и Шрёдер – Юст хотя и в разных спектаклях, но одинаково убедительно показали, что правильно поняли гуманный замысел автора и высветили подспудные, но такие важные особенности характеров своих героев. Тельгейм Экгофа не был лишь вымуштрованным на плацу офицером, а Юст Шрёдера – привычным слугой при барине. Это был тот счастливый случай, когда большая драматургия, попав в руки больших актеров, вскрывает всю неоднозначность человеческих отношений, способную одержать верх даже над незыблемыми социальными условностями крепостнически-милитаристского строя фридриховских времен.
В пору, когда Шрёдер вернулся в Гамбургский театр, Лессинг опубликовал уже более восьмидесяти статей своей «Драматургии». Но в последующих очерках тщетно искать даже беглого упоминания имени молодого актера Фридриха Шрёдера. И совсем не потому, что искусство его не стоило еще внимания и не заслуживало разбора в одной из более чем двадцати финальных статей завершившегося в апреле 1768 года интересного труда. Причина здесь другая.
Лессинг не охладел к живому искусству сцены, не перестал изучать его и сейчас. Слишком много отдано было театру, чтобы отвернуться от его практики, перспектив и задач, тесно связанных с освоением просветительской драматургии. Взыскательный к себе, Лессинг не мог, однако, не признать здесь собственных заслуг. Не случайно он писал: «Каждый вправе хвалиться своим трудолюбием: я полагаю, что изучил драматическое искусство, и изучил основательнее двадцати человек, посвятивших себя ему». И все же в столь важном для Лессинга труде, как «Гамбургская драматургия», имена актеров местной труппы, начиная с двадцатых выпусков, отсутствовали.
Причиной стала критика – хотя и осторожная – выступления премьерши труппы Фридерики Гензель, которую позволил себе Лессинг. В двадцатом очерке от 7 июля 1767 года, говоря о представлении французской «слезной комедии» «Сения» Франсуазы де Граффиньи, автор заметил, что мастерство Гензель, игравшей героиню пьесы, молодую воспитанницу почтенного Доримона, гораздо выше выбранной ею роли, но он сам, однако, не желал бы «выполнять всего того, что не может выполнять превосходно». Эта фраза критика намекала на властные притязания Гензель, захватывавшей любые, в том числе неподходящие ей роли, только бы прослыть единственной «звездой». Не терпящая успеха соперниц, Гензель забирала все эффектные роли, хотя многие из них не отвечали ее данным. Однако говорить о том вслух не смели. Нарушив неписаный закон, Лессинг вызвал бурю негодования премьерши. Чтобы подобное не повторилось, критик твердо решил не разбирать игру актеров. Свое намерение Лессинг выполнил. Вот почему дальнейшие три четверти очерков «Гамбургской драматургии» лишены его ценных размышлений об искусстве отечественных исполнителей. Лессингу, активно и плодотворно интересовавшемуся всем, что касалось сцены, выполнить это было нелегко. И все же, боясь подвергнуть жизнь Гамбургской сцены лишним осложнениям, Лессинг вынужден был поступить именно так.
Скандал «оскорбленной» Фридерикой Гензель был подготовлен давно. Уже в самом начале работы Лессинга в Гамбурге актриса всячески дискредитировала его как критика. Она и ее приверженцы не уставали распускать всевозможные злоумышленные слухи. Один из них, например, гласил, что Лессинг по-настоящему не знает спектаклей, о которых пишет: почти все время он проводит в буфете и лишь изредка заглядывает на сцену сквозь щель приоткрытой двери партера. Эта и другие подобные небылицы сочинялись не случайно. Актеры – и первая из них Фридерика Гензель – считали, что Лессинг, получающий жалованье от театра, призван восхвалять все постановки и всех актеров. А убедившись, что он критик, чуждый компромиссов, разочаровались и осердились, так как не находили в его рецензиях дифирамбов в свою честь, на появление которых рассчитывали. Вот тут-то версия Гензель о нерадивости Лессинга-критика многим из труппы пригодилась.
В Гамбургском национальном театре имелись, конечно, артисты, достойные серьезного разговора и поддержки. Но анализ их игры именно потому и не появлялся в отзывах Лессинга. Пример – талантливая Сусанна Мёкур, особенно восхищавшая исполнением субреток и жеманниц и превосходившая в том «универсальную» мадам Гензель. Зная коварство гамбургской премьерши, Мёкур сразу же просила Лессинга не разбирать роли, которые играет. Сусанна имела на то основания, и критик не пренебрег ее просьбой. А потому в эссе «Гамбургской драматургии» нет не только оценки игры этой интересной актрисы, но даже ее имени.
С каждым днем разочарование труппы в руководителе нового театра заметно росло. Началось же все просто: после первых репетиций актеры быстро поняли, что директор труппы, литератор Лёвен, не помощник им в делах творческих. Комедианты же привыкли, что с художественными трудностями способен справиться тот, кто сам прошел горнило сцены. Именно он, опытный в театральном деле, смел указывать на просчеты, учить, распекать и подбадривать, именно он должен был служить примером на подмостках и в жизни. Лишь такой руководитель достоин стоять во главе, лишь такого соглашались признать лидером вообще, а новой сцены особенно.
Но сейчас даже крупнейшие корифеи Экгоф и Аккерман, их творчество попали в зависимость от несведущего в актерстве Лёвена и, что того хуже, двенадцати бюргеров, вершивших судьбу нового дела. Помыслы же главного из них, Абеля Зейлера, занимала карьера его фаворитки, честолюбивой Фридерики Гензель. Мечтая о единовластии, работе без принципала, Лёвен не учел своей сценической неопытности, забыл о меценатах, их материальной силе и общественном воздействии. И, отвергнутый актерами, вынужден был исподволь стать ординарным распорядителем, подчиненным воле и вкусам богатых бюргеров.
Такой ли уж чрезмерной была претензия гамбургских лицедеев к Лёвену – художественному наставнику труппы? Много лет спустя, обсуждая подобные казусы, Шрёдер безоговорочно разделит мнение актеров. Он решительно отвергнет тип театрального руководителя, лишенного собственного творческого опыта и непререкаемого авторитета, добытого отличным владением актерским ремеслом. Не лишая художника права на творческие ошибки, неудачу поиска, Шрёдер никому не прощал просчетов, идущих от самомнения и слабости в искусстве. Авторитет директора, считал он, должен быть абсолютным. Это – вывод из многолетней практики человека, которому рано и надолго довелось взять театральный штурвал в свои руки. И потому веско звучал его вывод. «Не знаю, – сказал однажды Шрёдер, – как можно быть директором, если этого не умеешь. Если бы такой директор высказал мне как актеру порицание за ошибку, я законно ответил бы ему: „Осел, вчера ты сам допустил ту же ошибку“. И думаю, имел бы на это право».








