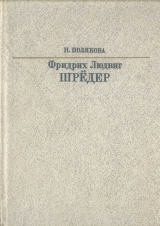
Текст книги "Фридрих Людвиг Шрёдер"
Автор книги: Нина Полякова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
Глава 10
«МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ПОЧИТАТЬ ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТАЛАНТЫ…»
Молодой директор Гамбургского театра не довольствовался появившимися к середине 1770-х годов пьесами штюрмеров, хотя в числе их были поставленные им «Клавиго» и «Гёц фон Берлихинген» Гёте. Увлекшись идеями «бурных гениев», Шрёдер стремился подвигнуть их на создание новых пьес и потому организовал ежегодный конкурс драматургов.
3 марта 1775 года в «Театральной еженедельной газете» появилось «Объявление». Оно, как гласила предпосланная ему заметка от редакции, публикуется по настоятельному желанию дирекции здешнего, Гамбургского театра. Считая помещаемое извещение важным, способным благотворно повлиять на состояние всей немецкой сцены, редакция высказывала просьбу к «господам издателям политических и научных газет» довести до сведения и своих читателей его содержание.
«Объявление», говорилось далее, убедительное свидетельство заботы мадам Аккерман и господина Шрёдера о рождении нового репертуара, о добром влиянии, которое может оказать театральное искусство, способное доставлять удовольствие и воспитывать нравы гамбургцев. Редакция особо отмечала, что владельцы антрепризы пекутся не столько о кассовых сборах собственной сцены, сколько о появлении значительных отечественных пьес, и готовы расходовать на это свои средства – жест, которого трудно было ждать от руководителей частного театра. Драматургов, к которым адресовано «Объявление», газета призывала активнее «возделывать ниву немецкой сцены». Общие усилия, говорилось в заключение, позволили бы получить наконец национальный театр. Он «не побоялся бы сравнения с театрами наших соседей, как не боятся подобных сравнений наши другие изящные искусства».
В первых фразах «Объявления» директора Гамбургской сцены мадам Аккерман и Фридрих Шрёдер сочувственно говорили о талантливых немецких писателях, которые «до сих пор почти не получали поощрения и работали, вдохновляемые собственным гением». Что же породило такое положение? «Нечестная погоня издателей за прибылью», а также другие причины, которые постоянно лишали немецких книготорговцев возможности оплачивать труд авторов. Заинтересованные в подъеме творчества отечественных писателей владельцы гамбургской антрепризы призывали их «отдать часть вдохновения сцене, не опасаясь, что время, усилия и талант будут затрачены впустую».
Предлагая за каждую оригинальную комедию либо трагедию, из трех-пяти актов двадцать старых луидоров, или сто талеров, Софи Аккерман и Шрёдер говорили об условиях, которые позволят им принять представленную на конкурс пьесу.
Директора Гамбургского театра не ограничивали творческой фантазии драматургов. Единственное непременное условие, предъявляемое ими, – пьеса должна быть нравственной. Назначая гонорар и стремясь тем «обеспечить наш театр большим числом хороших оригинальных пьес», Шрёдер подчеркивал: предложенные на конкурс произведения подвергнутся «критическому разбору», в результате которого предпочтение окажут работам наиболее талантливым. Стремясь щадить самолюбие конкурсантов, а также добиться, чтобы имена их не влияли на решение рецензентов – в «Объявлении», разумеется, о том тактично умалчивалось, – антрепренеры гамбургской труппы спешили сообщить: для них «желательнее получать пьесы без упоминания имени автора». При этом дирекция обязывалась, если драматург того потребует, сохранять в тайне его имя до истечения обусловленного срока. В «Объявлении» особо говорилось: пьеса появится на сцене, если постановка ее не потребует непомерных затрат на костюмы и декорации. Авторам напоминали, что, сочиняя, им не следует забывать о размерах и фактических возможностях немецких трупп.
Лапидарность «Объявления» не мешала проявиться здесь творческим интересам Шрёдера, его приверженности к течению «бурных гениев». Фраза – «хотя мы неотказываемся от трагедий, написанных в стихах, однако предпочли бы видеть их созданными в форме прозы» – указывала на стремление дипломатично, но настойчиво отучить публику от зарифмованных высокопарных тирад классицистских особ и, освободив сцену от стихотворного засилья, вывести новых персонажей, мысли и чаяния которых отвечали бы сегодняшним настроениям людей, а речь их звучала бы естественно, подобно речи публики, заполнявшей партер и ярусы зрительного зала. Вспомним, сколько труда положили Каролина Нейбер и Иоганн Готшед, чтобы, решительно искореняя барочность, насадить на отечественных подмостках трагедию, упорядоченную строгими нормами эстетики Буало, ее канонами. Теперь же, когда роль ее была сыграна, классицистская драматургия должна была потесниться и уступить место порывистой, эмоциональной, более современной прозаической форме пьес штюрмеров. Сознавая насущность благотворного сдвига, существенное значение в котором имело все большее знакомство с драмами Шекспира, стремясь усилить и закрепить наметившиеся вдохновляющие изменения, Шрёдер спешит призвать авторов к созданию этих, иных по форме и содержанию, пьес.
Шрёдер предлагал представлять в театр не только оригинальные произведения, но назначал шесть луидоров – тридцать талеров – за талантливый перевод хорошей иностранной пьесы. Однако просил господ переводчиков, прежде чем приступать к работе, знакомить дирекцию с оригиналом «во избежание того, чтобы несколько человек переводили ее одновременно, ибо переводчик, которому будет возвращена работа, вправе подумать (заблуждение, которое невозможно для авторов оригинальных пьес), что в его отсутствие пьесу все же поставили, незаконно списав предложенный перевод, либо воспользовались им, чтобы улучшить уже имеющийся». Далее Шрёдер высказывал еще одну просьбу – будет приятно, если совсем чужие и мало известные в Германии обычаи и нравы других наций, встречающиеся в пьесах, переводчики заменили бы немецкими: «не отрицаем, – пояснял он, – что такие изменения в точном по тексту пьесы переводе явились бы предпочтительными».
За автором, говорилось также, сохраняются права на рукопись, которую он может по своему усмотрению либо продать издателю, либо опубликовать за собственный счет. Однако все это будет разрешено не прежде, чем через шесть месяцев со дня первого спектакля, поставленного по предложенной театру пьесе. В случае же, если автор решит вручить гамбургской дирекции свою рукопись с правом публиковать ее, условия будут составлены особо. В ожидании благосклонного внимания драматургов к их призыву Софи Аккерман и Фридрих Шрёдер спешили в заключение заверить: «Если тот или иной господин автор захотел бы передать нам свою работу на других условиях, из всего вышесказанного ясно, насколько мы заинтересованы почитать драматические таланты и прилагать старания, чтобы по мере сил знакомиться с ними».
Документ этот, изданный Боде, был написан не без его участия. Возможно, Боде являлся не только редактором, но и консультантом появившегося «Объявления», роль которого оказалась важной. Так, прежде немецкие драматурги и переводчики могли рассчитывать на гонорар лишь в венском придворном Бургтеатре, правилами которого вознаграждение им предусматривалось. Гарантируя авторам гонорар в случае сотрудничества с его театром, Шрёдер значительно облегчал их участь.
Еще в конце 1760-х годов, в последнем выпуске «Гамбургской драматургии», Лессинг с возмущением писал о бытующем в стране произволе издателей. Он приводил текст «Сообщения гг. книгопродавцам», составленного «Додсли и Кº» – знаменитой английской книгоиздательской фирмой в Лондоне, за респектабельной маркой которой скрывался немецкий книготорговец Э.-Б. Швикерт, беззастенчиво перепечатывавший самые популярные произведения немецкой литературы и продававший их по заниженным ценам. Практика этой фирмы и ей подобных наносила ощутимый ущерб германским авторам и их законным издателям. Жертвами таких хищнических операций, ущемлявших права пишущих, были и литераторы и ученые. Не случайно еще в 1715 году, незадолго до своей кончины, философ и математик Г.-В. Лейбниц предлагал основать общество ученых, в ведении которого находилось бы издание книг, что избавило бы наконец авторов от злоупотреблений издателей.
Но время шло, а порядки не менялись. Лессинг с негодованием писал о смысле «Сообщения гг. книгопродавцам»: «Если бы в этом объявлении не заключалось ничего, кроме приглашения к более тесному сближению книгопродавцев между собою, чтобы воспрепятствовать обнаруживающемуся между ними перепечатыванию сочинений, то едва ли хоть один ученый отказал бы ему в своем сочувствии. …Они хотят перепечатывать издания тех, кто перепечатывает их издания.Пусть будет так, если только власти позволят им мстить за себя таким способом. Но они в то же время хотят воспрепятствовать авторским изданиям!…Какой закон может отнять у ученого право извлекать из собственного произведения всю ту пользу, какую он может извлечь?»
В заключение, говоря об издателях, Лессинг заявлял, что будет «относиться с презрением и ненавистью к тем лицам, в сравнении с которыми любые разбойники с большой дороги и бандиты, право, люди не самые дурные. Каждый из них мошенничает поодиночке, а Додсли и Кº хотят грабить шайкой».
Упоминание в «Объявлении» Шрёдера «нечестной погони издателей за прибылью» только подтверждало, что драматурги, как и ученые, все еще продолжали подвергаться и «мошенничеству поодиночке» и «грабежам шайкой». В этом по-прежнему повинно было отсутствие строгих законов, охранявших авторское право. Особенно часто разбойничья перепечатка постигала произведения, снискавшие широкий успех у читателей. Так, неизвестные предприимчивые издатели, пользуясь тем, что впечатление, произведенное драмой «Гёц фон Берлихинген», как утверждал позднее Гёте, «было повсеместным», в 1773 году перепечатали и распродали ее дважды. Гёте и его друг писатель Иоганн Генрих Мерк, в ту пору самостоятельно издававшие эту трагедию, «не могли достаточно быстро распределить экземпляры», и мошенники от печати ловко их опередили. Поэтому план Мерка «издать это странное и, наверно, замечательное произведение за собственный счет и получить от этого большую выгоду» не принес ожидаемой прибыли автору, зато обогатил ловких, нечестных книгопродавцев.
«Объявление» Шрёдера намечало выход из нелегкого положения драматургов. Теперь авторы, посвятившие вдохновение Гамбургской сцене, могли рассчитывать на справедливое вознаграждение своего труда.
Сообщая о суммах, причитающихся отныне драматургам и переводчикам, желающим сотрудничать с его антрепризой, Шрёдер положил начало узаконению авторского гонорара в немецком театре. Глядя на гамбурского принципала, многие директора стали вводить у себя схожий порядок; он не замедлил расширить границы своего действия и постепенно закрепиться.
И все же, почему Шрёдер был обеспокоен не только художественными достоинствами, но и числом новых драматических произведений, налаживанием их притока на Гамбургскую сцену?
Стремясь сделать Театр на Генземаркт своеобразным культурным центром, деятельность которого удовлетворяла бы не только передовую публику, но и настойчиво формировала художественный вкус бюргерства, Шрёдер решает расширить круг пьес, изменить систему подготовки спектаклей, подчинить жизнь своей труппы неукоснительно четкому ритму. Одну из своих главных задач он видит в утверждении большого, продуманно подобранного, постоянно сменяющегося репертуара.
Убедившись в скромных результатах объявленного им конкурса драматургов и переводчиков, Шрёдер сам принялся готовить пьесы и начал с обработки английских комедий. Этим он стремился, по мысли Гёте, избавить «публику от неизбежной монотонности, в которую так легко было впасть немецкому театру». Гёте, хорошо знакомый с оригиналами, позднее вспоминал, что сюжеты английских пьес Шрёдер «использовал лишь в самых общих чертах», так как те были бесформенны. Он убирал «нестерпимые длинноты», губившие интересно и планомерно развивавшийся поначалу сюжет. Весьма причудливые сцены этих пьес публике только мешали. Следя за событиями на подмостках, «зритель вдруг с неудовольствием обнаруживал, что его загнали в какую-то трясину». Гёте подчеркивал – это происходило из-за того, что немецкая публика привыкла «к сдержанным произведениям». К тому же, продолжал он, комедии англичан «носили столь необузданно безнравственный и пошло-беспорядочный характер, что изъять все безобразия из сюжета и поведения действующих лиц подчас было невозможно». Неодобрительно относясь к содержимому английского оригинала, Гёте назвал его «пищей грубой и опасной, воспринимать и переваривать каковую в определенное время» могут лишь «испорченные массы». Но явное неодобрение, звучавшее в оценке поэта, не распространялось на Шрёдера, взявшего на себя труд поближе познакомить немцев с драматургическим достоянием соседей.
Гёте отмечал, что Шрёдер поработал над иноземными переводами-переделками «основательнее, чем предполагают. Он в корне их перестраивал, приспосабливая к немецкому пониманию, и всячески старался их смягчить». А «порочное зерно», которое в них все-таки оставалось, поэт относил на счет свойственного им юмора, сводившегося главным образом «к третированию человека, безразлично, заслуживал он того или нет».
И все же, в заключение, Гёте положительно оценит спектакли по пьесам англичан, широко распространившиеся в немецком театральном обиходе и явившиеся «как бы тайным противовесом чрезмерно щепетильному репертуару», господствовавшему на отечественной сцене.
Шрёдер не только переводил сам, но охотно брал для своей сцены наиболее удавшиеся переработки иностранных пьес, сделанные другими. Так внимание к современной зарубежной драматургии, свойственное в свое время принципалу Конраду Аккерману, унаследовал и его преемник. Все самое интересное, появлявшееся на книжных прилавках и сценах соседних стран, не миновало обсуждения в директорской комнате Шрёдера. А потому неудивительно, что первая же комедия Ричарда Бринсли Шеридана, «Соперники», вскоре попала на подмостки Гамбургской сцены. Эту пьесу, написанную в январе 1775 года, сразу же поставил лондонский театр Ковент-Гарден. А осенью следующего года ее показал Шрёдер.
Комедия нравов Шеридана населена колоритными персонажами, принадлежащими к разным слоям общества. Ее сложная интрига цепко держит внимание публики. «Соперники», представленные в Гамбурге, были не переводом, а переработкой Я.-А. Энгельбрехта, пьесой «по Шеридану». В ней Шрёдер выбрал для себя роль деревенского сквайра Боба Акра. «Склоняя» британскую комедию на немецкий лад, Энгельбрехт поспешил заменить в ней имена. И вот уже вместо Боба Акра появился юнкер Акерланд, неудачливый соперник героя пьесы, капитана Абсолюта.
Мечта юнкера – жениться на сентиментальной девице, аристократке Лидии. Это нужно ему, чтобы войти в светское общество. Но первое же испытание – дуэль из-за избранницы – охлаждает пыл деревенского помещика, показная храбрость этого безудержного хвастуна мгновенно испаряется. Юнкер, желавший прослыть бретером, спешит отказаться от Лидии, от всех своих заманчивых планов, лишь бы не рисковать жизнью и быть «в безопасности у себя дома». Шрёдер великолепно передавал резкую амплитуду настроений Акерланда – от воинственных восклицаний «Клянусь моей храбростью!», «Клянусь целью и мишенью!» до трусливых, жалобных стонов: «Клянусь смертельным трепетом…»
Свидетели крушения «отчаянного храбреца» юнкера Акерланда в гамбургской постановке говорили о комедийном даровании Шрёдера лишь в превосходной степени. Исключения не составили и профессиональные ценители сцены. Так, актер венского Бургтеатра И.-Г. Мюллер, описывая «Соперников» в городе на Альстере, восхищался ансамблем, чувством меры и мастерским раскрытием характеров помещика-самодура Абсолюта-старшего и его сына, капитана, исполненных актерами Рейнеке и Брокманом. 26 сентября 1776 года, под свежим впечатлением от спектакля, Мюллер писал дирекции Бургтеатра: «Юнкером Акерландом был Шрёдер. Это бесспорно один из величайших комиков. Ничто не было преувеличено. Он играл так правдиво, с такой прекрасной естественностью, что заслужил восхищение всех знатоков. Ни разу не прибегал он к шаржу. В сценах, где у него нет реплик, он не мешал игре партнера. Никогда еще не видел я такого тонкого комедийного актера. Если бы он не был сыном здешней владелицы антрепризы и мы могли иметь его в Вене, он вызвал бы у нас большую сенсацию».
Продолжая служебную поездку по Германии, Мюллер 3 октября 1776 года смотрит спектакль «Соперники» в Берлине, у Дёббелина. И остается недоволен. В своем дорожном дневнике он пишет: «Как далеко ему до гамбургского спектакля. Я едва узнал пьесу». В четверг, 15 октября, Мюллер вторично отправляется на «Соперников» в театре на Беренштрассе, надеясь «найти в спектакле хоть что-то хорошее». Однако тщетно. Принципал и актеры знали причину появления Мюллера в столице. Это подтверждала и гамбурская газета, в заметке которой, озаглавленной «Из Австрии», говорилось: «Вена. Наш театральный деятель осуществляет сейчас поездку по всем городам Германии, имеющим большие постоянные сцены, с целью многое изучить и привезти с собой хороших актеров, чтобы наш национальный театр мог стать совершеннейшим». Понятны потому старания актеров Дёббелина, которые, стремясь покорить сидящего теперь в их зале театрального посла Вены, буквально лезли вон из кожи. Но именно потому, как никогда, переигрывали. Глядя на сцену, Мюллер невольно вспоминал гамбургскую постановку с ее острокомедийным юнкером Акерландом Шрёдера и интересно созданным Рейнеке Абсолютом-старшим, которого сейчас берлинский актер изображал ужасно, прямо-таки грубияном боцманом.
Опытный Мюллер не ошибался. Его вывод о Шрёдере прочно закреплял первое, мимолетное впечатление, сложившееся еще в Вене. Совсем недавно, летом 1776 года, совершая поездку в Чехию и Австрию, Шрёдер играл в Бургтеатре. Актер предстал ловким Труффальдино в «Слуге двух господ» Карло Гольдони и в «Оловянщике-политикане» – пьесе датского комедиографа Людвига Хольберга. Выступления Шрёдера никого не оставили равнодушным. Публика дружно наводняла театр, спеша насладиться незаурядным комедийным мастерством гастролера. В городе долго и весело вспоминали его образы, их подкупающую заразительность, виртуозность. И зрители искренне жалели, что пребывание актера в Вене было коротким.
А гастроли и правда длились недолго. Весной 1776 года Шрёдер, решив, что слишком засиделся в Гамбурге – восемь лет не покидал города, – отправился свет посмотреть и себя показать. Тянуло увидеть чужие сцепы, новых актеров, свести знакомство с руководителями вновь сформированных трупп, о которых знал пока лишь понаслышке. Популярность, которую быстро и прочно завоевала его игра в Гамбурге, была приятна. Но не меркла ли ее высокая проба в сравнении с мастерством коллег, работавших на других, дальних подмостках? Как встретит его иная, незнакомая публика? Во всем этом хотелось разобраться. Творческая умиротворенность не была уделом Шрёдера. Потому и потянуло в путь, который помог бы рассеять мучившие сомнения и обогатиться впечатлениями.
Но, расставаясь ненадолго с Гамбургом, Шрёдер, разумеется, не предполагал, что результат его короткого вояжа станет столь весомым. Ведь именно 1776 год явился для него – как для всего немецкого театра – историческим. Потому что, впервые встретясь тогда со сценическим образом драмы Шекспира, Шрёдер заключит с ней пожизненный союз.
Озабоченность судьбой своей сцены приводила Шрёдера не только к репертуарным, но и к организационным нововведениям. Принципал вознамерился ввести систему абонементов, при которой театр каждые две недели приглашал бы зрителей на очередную премьеру.
Шрёдер был не из тех, кто, взявшись осуществить задуманное и столкнувшись с трудностями, легко сдавался. И потому не дрогнул, когда публика, привыкшая к развлекательству, царившему в игравшей в Гамбурге французской труппе, загоравшаяся при мысли об очередном блестящем, шумном маскараде, осталась холодной к предложенному ей новшеству. Отказываясь от абонементов, публика словно подчеркивала, что не намерена приковывать себя к колеснице Шрёдера и предпочитает развлечения поучениям. Бездумно отмахнувшись от возможности покинуть пустопорожний лабиринт зрелищ-однодневок, она спешила закрепить свое неписаное право и, по-прежнему устремляясь на постановки облегченные, обходила стороной спектакли, призывавшие к размышлению.
Пристрастие зрителей к увеселительным представлениям, показываемым французской труппой, вызывало законную горечь Шрёдера. Его огорчала не столько финансовая конкуренция, сколько вкус и культура гамбургских бюргеров, исподволь приученных заезжими иностранцами к ремесленным поделкам, заметно теснившим достойную драматургию. Шрёдер не держал обиды на своих коллег-французов, но решил противопоставить невзыскательному репертуару прежде всего пьесы их же соотечественника Мольера и сыграть там роли предельно естественно и по возможности сильно. Он спешил познакомить зрителей с нестареющими шедеврами великого драматурга, надеясь, что эти и другие серьезные, настойчиво повторенные постановки приобщат публику к живительному источнику высокой литературы.
Мольер был одним из самых популярных драматургов в немецком театре XVIII века. Комедии его Аккерман ставил часто и любил в них играть. Дарование принципала как нельзя более соответствовало этим реалистическим пьесам. Шрёдер утверждал, что в «комических амплуа у Аккермана не было роли, которую он не исполнял бы в совершенстве… Аккерман, – вспоминал он, – был единственным актером-комиком, мастерство которого я признавал. За все время моих наблюдений я не запомнил ни одного случая утрировки в его игре».
Сам Шрёдер еще в детстве начал выступать в комедиях Мольера. Каждая из этих пьес была своеобразным классом актерской школы, через которую прошел Фридрих, прежде чем заслужил признание. Персонажи знаменитого французского комедиографа – люди самых различных сословий, возрастов и характеров. Работа над ними давала исполнителю огромные возможности.
Начав с детских и юношеских ролей – Луизон в «Мнимом больном», Дамис в «Тартюфе», Валер в «Скупом», – Шрёдер снова появится затем в тех же комедиях в роли аптекаря Флорана («Мнимый больной») и слуги Клеанта, Лафлеша («Скупой»). Позднее он сыграет центральные роли – Оргона («Тартюф»), Гарпагона («Скупой»), Арнольфа («Школа жен») и Аргана («Мнимый больной»).
Шрёдер никогда не расставался с героями великого драматурга. Впервые мольеровскую роль он получил десятилетним мальчишкой. Публику забавляла его лукавая обманщица Луизон, дочь знаменитого страдальца Аргана. Пройдет почти сорок лет, и, словно бумеранг, «Мнимый больной» снова появится в репертуаре Шрёдера. Но теперь, в пору размышлений о близкой разлуке со сценой, актер предстанет обреченным на мифические недуги Арганом, сочно написанным портретом которого прославленный художник завершит классическую галерею своих героев.
То же произошло и с другими комедиями. В послужном списке двадцатилетнего Шрёдера роли господских сыновей Дамиса и Валера сменили разбитные, изворотливые слуги, ловко выручавшие своих терзающихся любовью молодых хозяев. Возлюбленный Элизы, Валер, угождает старику Гарпагону, чтобы снискать его расположение и получить руку избранницы. Учтивые поддакивания этого нового управителя дома приятно баюкали слух вечно настороженного скряги. Зато слуга сына, Лафлеш, вызывал постоянную тревогу – пронырливый малый возникал поблизости всякий раз, когда Скупой спешил убедиться в сохранности своей отрады, своей туго набитой пистолями припрятанной шкатулочки.
А Лафлеш и впрямь догадывался о причине частых отлучек Гарпагона. Сметливый, острый на язык, он не скрывал своих чувств к главе дома. Из всех смертных, считал он, Гарпагон «самый негодный смертный, скупущий, злющий, загребущий», человек, для которого деньги «дороже доброй славы, чести, благородства». На словах расточая мед, он глух ко всему на свете. Лафлеш подметил – Гарпагон сроду не говаривал: «Я дам», но непременно: «Ссужу».
Не только напористый Лафлеш, но и другие домочадцы честят Гарпагона. Скареда, сквалыга, жадина, лихоимец – вот употребляемые ими слова, когда речь заходит о старом хозяине дома.
А Гарпагон? Испытывал ли он радость, дрожащими от вожделения и страха руками ощупывая, прижимая к груди свое сокровище? Тревога, вечное беспокойство сквозили в каждом его слове, движении. Герой пьесы, Скупой, по мысли Шрёдера, персонаж больше трагический, чем комедийный. И внешний вид и характер его Гарпагона убедительно подтверждали это.
Иссохший, пергаментно-прозрачный старик появлялся в черном вытертом сюртуке, слишком тесном ему и коротком. Из узких, высоко открывающих запястья рукавов торчали сухие, с длинными пальцами руки, напоминавшие лапы паука, из тенет которого не вырваться ни одной жертве. Этот двигающийся, обтянутый кожей скелет венчала голова, сидящая на тонкой, костлявой шее, стянутой узкой белой повязкой. Жидкие седые волосы, едва прикрывавшие полуголый череп, острый, выдающийся вперед подбородок делали Гарпагона Шрёдера живым олицетворением болезненной скупости. Слабые ноги, ненадежная опора убогого туловища, при каждом едва уловимом шорохе влекли его к единственной святыне – деньгам, спрятанным в заветной шкатулке.
Едва появившись на сцене, Шрёдер подчеркивал лихорадочный, неусыпный страх Гарпагона. Его взгляд был взглядом многоглазого великана Аргуса, а сам он – бдительным стражем любовно скопленных золотых. Тревога за деньги, неустанная забота, чтобы никто не проведал, каким сокровищем он владеет, делала Гарпагона – Шрёдера недоверчивым, подозрительным, готовым в каждом видеть вора, стремящегося захватить бережно хранимый клад.
Боязнь оказаться преданным, обманутым вселяла в Скупого смертельный страх. Спеша предупредить беду, он яростно набрасывался на каждого с вопросами – успел ли что заметить, зачем появился здесь, известна ли тайна – и, горячась при дознании, нечаянно сам предавал себя. Достаточно было Гарпагону – Шрёдеру услышать, что он скряга, скупердяй, скареда, и испуг сменялся яростью. В эти мгновения голос его, прежде тихий и вкрадчивый, становился резким, визгливым.
А стоило поверить в неотвратимость беды, решить, что застигнут врасплох и будет погублен – злодеи подслушали и теперь оберут его, – и старик делался трусливым и жалким. Однако ужас, рожденный мыслью о возможной утрате богатства – главного, единственного смысла его жизни, – вскоре возвращал Скупому силы. Взором рыси пронзал он всякого появившегося на глаза. Пристально, с недовернем и тревогой вглядывался Гарпагон – Шрёдер в лицо собеседника, пытаясь понять, прочесть по нему, какие из опрометчиво оброненных им, беднягой, слов стали известны свалившемуся на его голову пришельцу. В встревоженной душе Гарпагона непрестанно сменялись боязнь и гнев, ярость и страх. Скупого сражали слова, что он богат. А просьба о деньгах была ножом в сердце. Негодники смеют называть его состоятельным! Бледное лицо скряги багровело от возмущения, мускулы век дрожали, бурный поток брани извергался из его уст. Гарпагон – Шрёдер упорно втолковывал всем, что беден. Раздосадованный, злой, покидал он собеседника и устремлялся к ней, к своей шкатулке!
Наедине с золотом Гарпагон Шрёдера преображался. Лицо его сияло, полный любовного томления взор обращен был к сверкающему кумиру. Он начинал «диалог» с сокровищем – и в голосе звучали воркующие переливы, а губы замирали в сладкой улыбке. Восхищение охватывало Гарпагона – Шрёдера, когда дрожащие от радостного нетерпения пальцы пересчитывали, ласкали монеты, блеск которых для скряги был целительнее лучей солнца. Он называл золото «отрадой», «магнитом сердец», «печалью нищих» и снова пересчитывал монеты, с любовью глядел на каждую, взвешивал на ладони, наслаждался ее звоном. В веских переливах пистолей слышалась ему торжествующая праздничная мелодия колоколов, звучавшая лишь для избранных – тех, кто способен быть преданным рабом злата, существом, втайне мнящим себя властелином мира.
В эти редкие мгновения Гарпагон – Шрёдер забывал обо всем на свете. Даже о «нелегком труде хранить большие деньги в своем доме» и возможном налете грабителей, готовых перерезать ему горло. Вид золота вселял в старика страстное желание жить долго, до ста лет, жить, чтобы каждый год наполнять по одной шкатулке. И уж потом умереть. Умереть окруженным несметным богатством.
Но мысль о деньгах недолго согревала Гарпагона – слово «умереть» буквально сражало его. Бледность покрывала лицо старика, дрожь сотрясала тело, речь его замедлялась. Скупой Шрёдера не мог допустить разлуки со своим кумиром, боялся, ненавидел смерть.
И все же присутствие золота, на которое падал смятенный взгляд скряги, оживляло, бодрило его. Лицо Гарпагона – Шрёдера снова вспыхивало восхищением. Блеск монет волновал, завораживал, притягивал, мерцание их было для него сказочной картиной, целебным бальзамом, врачующим душу. Зачем предаваться тревоге, унынию? Ведь деньги здесь, а он жив! Сладостная мысль проясняла лицо, и преданностью золотому тельцу лучились потеплевшие глаза. Гарпагон – Шрёдер охотно забывал, что смертен, а столетняя жизнь – лишь химера. Сейчас он гнал прочь волнение об утратах. И, охваченный благодарностью к шкатулке, бережно заключал ее в объятия.
С каждой минутой Шрёдер все четче высвечивал фанатичную скупость мольеровского героя. Тем трагичней становилась сцена, когда тот обнаруживал пропажу денег. Первые слова охваченного ужасом Гарпагона – «Воры! Воры!» – раздавались из-за кулис. Величайшее отчаяние сквозило в каждом звуке голоса потрясенного старика. Гарпагон – Шрёдер вбегал в комнату, дико озираясь вокруг. Его полные боли глаза блуждали, лицо искажал страх. Тонкие руки обвивали торс, сраженный смертельным ударом. И вопль «Держите вора! Грабителя! Убийцу!» – оглашал зал. Одержимый порывом немедленно найти, задержать негодяя, Скупой Шрёдера начинал метаться. Дрожащие ноги несли Гарпагона то вперед, то назад, то вправо, то влево. Разгоряченная фантазия скряги рождала мираж – грабитель со шкатулкой стоял перед ним. Хватая собственную руку, Гарпагон яростно взывал к «мерзавцу», требуя вернуть похищенное сокровище. Но мгновение спустя, опомнившись, понимал – от отчаяния и страха за судьбу денег разум его настолько помутился, что полонил он не вероломного налетчика, а вцепился в собственное запястье.
Буря негодования сменялась внезапным штилем. Гаснущим от потрясения и скорби голосом Гарпагон – Шрёдер произносил едва понятные слова. Боль, причиненная потерей, безраздельно овладевала им. Страдание становилось доминантой дальнейших фраз монолога. Ярость вытеснял элегический тон, скорбь туманила взор, наполняла глаза слезами. Гарпагон Шрёдера напоминал теперь отца, стоящего у могилы единственного дитяти. Печаль заставляла удрученного говорить все медленнее, глуше, и казалось, будто жизнь покидала его. Слова Гарпагона звучали все тише, дышал он все реже и сам видел себя не только умершим, но и погребенным.



![Книга ЖИЗНЬ [ live ] 1/4 автора Анастасия Аккерман](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zhizn-live-1-4-315349.jpg)




