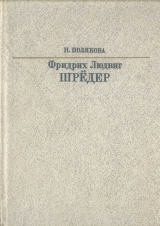
Текст книги "Фридрих Людвиг Шрёдер"
Автор книги: Нина Полякова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
И вот 24 ноября 1755 года двери театра впервые распахнулись. Сначала с подмостков прозвучала торжественная приветственная речь, обращенная к выжидательно притихшему зрительному залу. Затем показали трагедию «Митридат» Расина. Роль понтийского царя Митридата, лелеющего грандиозный план завоевания Рима, но преданного врагам его сыном Фарнаком, превосходно сыграл Конрад Аккерман. Расин, обратившийся здесь к античной истории, вместе с политической темой ввел в трагедию и личную жизнь монарха. Он рассказал о Митридате не только как о грозном полководце, но и как о человеке – двуличном, подозрительном и мстительном, в частной жизни совершенно лишенном героизма. Великий поэт снял античного героя – постоянный предмет изображения классицистского театра – с привычных котурнов и показал, что царь, как и все смертные, не лишен обычных людских пороков. Только боязнь попасть в руки ненавистных римлян заставляет Митридата принять крайнее решение: окруженный врагами, он пронзает себя мечом, взяв с младшего сына, Ксифареса, клятву отомстить за гибель отца.
Напряженно глядя на сцену, слушали зрители наказ умирающего Митридата. Голос Аккермана, до этого властный и твердый, вдруг становился приглушенным, скованным и наконец, перейдя на шепот, безжизненно обрывался. Публика жадно ловила каждый звук угасавшего голоса, который, словно растворяясь в застывшей тишине зала, улетал все дальше и дальше, чтобы никогда не вернуться.
Здание театра Аккермана вышло отличным. Пройдет много лет. Не один десяток самых разных – больших и маленьких, роскошных и скромных, аляповатых и строгих – театров со сценами самых различных конструкций перевидает на своем долгом актерском веку знаменитый к тому времени Шрёдер. Но он всегда с глубокой признательностью будет вспоминать удобную для актера сцену первого аккермановского театра. Продуманные размеры подмостков и зрительного зала кёнигсбергского храма искусства обеспечили ему хорошую акустику, позволяли исполнителям не форсировать звук и передавать самые тонкие оттенки чувств воплощаемых героев. Это благотворным образом сказалось на развитии голосовых средств и манере игры начинающего тогда юного актера.
В Кёнигсберге Фриц Шрёдер выступал редко: послушный родительской воле, он стал воспитанником Коллегиум Фридерисианум. Пребывание в стенах этого закрытого учебного заведения, сострившего из пяти классов, было платным. Кров, еда и обязательные занятия стоили 52 гульдена в три месяца. Уроки французского языка, математики и игры на фортепиано оплачивались дополнительно.
Фриц был очень прилежен. Не проходило недели, чтобы его не вызывали в старшие классы и не ставили там в пример воспитанникам. Но не было и недели, когда бы его не наказывали за очередную шалость.
Порядки в школе славились суровостью. Каждый воспитатель обязан был неусыпно надзирать за двумя подопечными, которых помещали в его комнату. Он следил за ними днем и ночью, – и на уроках, и во время перемен, и в час вечерней молитвы, без которой ученик не смел отойти ко сну. Телесные наказания составляли здесь основу педагогики. Учителя и надзиратели никогда не ходили без плетки.
Но однажды произошел случай, заставивший инспектора пересмотреть давно сложившийся жесткий кодекс законов. Как-то на большой перемене, длившейся с двенадцати до часу дня, ученики отдыхали на школьном дворе. Одни играли в мяч, другие состязались в прыжках, третьи мчались стрелой к финишу, обгоняя неудачливых соперников. В углу двора ученики-добровольцы пилили и кололи дрова. Вдруг зоркий глаз надзирателя не обнаружил воспитанника выпускного класса Малаховского. Немедленно организовав поиск, рассвирепевший цербер быстро напал на след исчезнувшего. И задохнулся от негодования, увидев «преступника» беседующим с девицей. Ни возраст, ни последний класс не избавили Малаховского от немедленной расправы. Над ним нависла плетка разгневанного преследователя. Но произошло небывалое. Обезоружив надзирателя, рослый и крепкий ученик швырнул его на землю. Раздался отчаянный крик о помощи. Сбежалась вся школа. Быстро прорвавшись сквозь толпу, Малаховский исчез.
Назавтра, на большой перемене, он неожиданно появился во дворе школы. Стройную фигуру юноши красиво облегала гусарская форма. В руке он держал злополучную плетку, захваченную накануне в качестве трофея. Малаховский произнес горячую речь, порицавшую палочную муштру, царящую в Коллегиум Фридерисианум, а застывшим от неожиданности, растерявшимся инспектору и педагогам бросил упрек в том, что их суровое обращение толкнуло его на шаг, который, возможно, принесет ему только несчастье. Затем юноша обернулся к столпившимся, жадно слушавшим его крамольную речь вчерашним однокашникам и призвал их всегда отстаивать человеческое достоинство, противиться жестокой расправе и убивать всякого, кто осмелится подвергнуть их унизительным побоям.
История с Малаховским не прошла бесследно. С той поры инспектор отменил телесные наказания в двух последних классах. Ученики же долго вспоминали бунт и слова Малаховского, ратовавшего за гуманное воспитание и достоинство личности.
Фриц Шрёдер был из тех, кто крепко запомнил наглядный урок. Он собрал одноклассников и заставил поклясться, что теперь они не станут терпеть наказаний и начнут действовать по закону: один – за всех, все – за одного. Клятва прозвучала внушительно. Но жизнь показала ее несостоятельность.
Как-то утром, придя в третий класс, учитель увидел открытым окно у своей кафедры. Сочтя, что это сделано умышленно, в нарушение установленных правил, он ударил плеткой ученика, совершенно неповинного в случившемся. С быстротой рыси кинулся Фриц Шрёдер к грубому обидчику, выхватил у него плетку и швырнул в окно. Учитель на мгновение остолбенел, а затем, возмущенно покинув присмиревший класс, ринулся к инспектору.
Вскоре разнесся слух, что Фрица ждет суровое публичное наказание. Начались немедленные приготовления. В центре двора поставили скамью, принесли веревки и бочку с мокнувшими в ней розгами. На школьном плацу по приказу инспектора выстроили все классы. Главный бунтарь под конвоем двух воспитателей стоял поодаль. Для пущего устрашения он должен был видеть подготовку к экзекуции. Наконец дали команду начать наказание. Увы, ни один из голосов тех, кто недавно принес торжественную клятву, не нарушил тишины. Не только слово негодования, но даже робкая, еле слышная просьба о смягчении кары не вырвалась из чьих-либо уст. Фриц лежал, туго привязанный к дубовой скамье, а инспектор медленно вещал воспитанникам о его страшном прегрешении. Затем двое служителей, взмахнув несколько раз для пробы прутьями, направились приводить приговор в исполнение. И только тут учитель, по чьей жалобе затеяли расправу, смягчился. Он просил инспектора помиловать Фрица Шрёдера.
Экзекуцию отменили. Но, перед тем как ученикам разрешили покинуть двор, инспектор разразился речью, куда более длинной, чем «криминальное» обращение Малаховского к товарищам. Он долго говорил о священной обязанности воспитанников повиноваться богу, королю, власти и завершил пространное назидание внушительной тирадой: «Кто восстает против своего наставника, тот – страшный мятежник, бунтующий против самого господа бога!»
Суровость и жестокость, царившие в школе, не очень удивляли Шрёдера. Ведь и у него дома законы были безжалостны. Там тоже не видел он ни тепла, ни ласки. Мать и отчим всегда были заняты бесконечными заботами о труппе, пьесах, костюмах, гастролях и суммах сборов. Особенно нелегко сводить концы с концами им стало теперь, когда над семьей нависли еще и долги, в которые Аккерман влез из-за постройки театра. Фрица, как старшего сына, родители рано начали считать взрослым, не требующим больших забот. Сын Аккерманов Людвиг умер еще младенцем, и все свое внимание Софи обратила на воспитание двух дочерей – Доротеи и родившейся 23 августа 1757 года Шарлотты.
Отданный в Коллегиум Фридерисианум, Фриц совсем редко бывал теперь дома. В труппе его место занял будущий танцовщик Кох, которого Аккерман определил также в учителя своей дочери Доротее. И Шрёдер получил возможность погрузиться в добросовестное изучение самых разных наук.
Первое место в школьном обучении отводилось латыни. По тому, насколько ученик владел этим языком, определяли и класс, в который его принимали. Что-что, а латынь домашний наставник Шрёдера Аст знал свободно и хорошо подготовил своего воспитанника. Поэтому Фрица, зачисленного в декабре 1755 года в четвертый класс, уже через полгода перевели в более старший, третий класс.
В то время Шрёдеру приходилось не так уж часто думать о театре. Он знал, что дела отчима идут хорошо, что в новом здании показывают не только спектакли, но устраивают и шумные маскарады, которые стали еще одним источником дохода Аккермана. В середине лета труппа отчима уехала в Гданьск, а Шрёдер остался под сенью Коллегиум Фридерисианум. Вернувшись в Кёнигсберг, Аккерман открыл сезон 3 декабря и предполагал всю зиму провести в своем театре. Но этому не суждено было случиться.
Военные действия, начавшиеся еще в 1754 году между английскими и французскими войсками недалеко от границы Канады и британских владений в Северной Америке, не замедлили сказаться на судьбе стран Европы. В январе 1756 года Англия заключила Вестминстерскую конвенцию с Фридрихом II Прусским. По ней Пруссия должна была содействовать Англии в борьбе против Франции, а Англия – помогать Пруссии, предъявлявшей территориальные притязания к Австрии, Польше и Саксонии.
Войну в Европе начала Пруссия, части которой в августе 1756 года вошли в Саксонию. Россия, стараясь помешать завоеваниям Фридриха II, в декабре 1756 года присоединилась к австро-французскому союзу. Она намерена была передать Восточную Пруссию Польше и взять Курляндию.
Известие о вступлении в войну России принесло в Кёнигсберг смятение и панику. Ходили разные, противоречивые слухи, жители опасались захвата города русскими войсками.
Вначале Аккерман не поддавался общей тревоге. Жизнь в театре продолжалась как обычно. Но актеры постепенно все настойчивее осаждали принципала просьбами покинуть Кёнигсберг, над которым нависла реальная опасность. Наконец Аккерман вынужден был сдаться.
Это тягостное решение пришло не сразу. Трудно было и подумать о том, чтобы покинуть на произвол судьбы свой с таким трудом построенный театр. Большие планы, еще недавно казавшиеся Аккерману абсолютно осуществимыми, мгновенно снес ураган налетевших событий, и он вдруг ощутил гнетущую зыбкость почвы, которую прежде считал состоящей из базальта.
Теперь принципалу предстояло заботиться о безопасности не только своей семьи, но всех актеров труппы, их чад и домочадцев. И действовать быстро. Аккерман списался с директором лейпцигской сцены Кохом и получил приглашение прибыть в его театр. Звал его и Леппер. Но в Варшаву в ту пору ехать Аккерман не решился. Выбор его пал на Лейпциг.
Настал грустный вечер 18 декабря 1756 года, вечер последнего представления в Кёнигсберге. Шла английская пьеса «Джордж Барнвель» – так кратко, по имени главного героя, был назван перевод мещанской трагедии «Лондонский купец, или История Джорджа Барнвеля» Дж. Лилло, популярной в Германии середины XVIII века. Обычно набитый на этом спектакле, сегодня зал не был заполнен. Напряженная настороженность чувствовалась на сцене и в публике. А над злополучной судьбой осужденного на казнь за чудовищное убийство, раскаявшегося Барнвеля зрители и партера и галерки проливали слез куда больше, чем всегда.
Расстроенный предстоящим отъездом, стоял Аккерман у двери, ведущей на сцену. Он знал, что через какие-нибудь десять-пятнадцать минут занавес упадет в последний раз, и чутко вслушивался в каждое слово ведомых палачами Барнвеля и его возлюбленной, куртизанки Мильвуд. В те горькие, последние минуты ему казалось, что на эшафоте обречены погибнуть не преступный лондонский купец и порочная, нераскаявшаяся молодая красавица, но он сам, Аккерман, и его верная спутница Софи Шрёдер, а вместе с ними их взлелеянное детище – театр.
Когда же прозвучали заключительные слова осознавшего свою вину и примирившегося с ожидавшей его участью Барнвеля:
«Все люди, коль они на грех соблазнены,
Покаются пускай и будут прощены.
Кто кары не понес, тем без прощенья умирать.
Грешить дано всем людям, а небесам – прощать»,—
(Пер. А. Аникста)
старый солдат почувствовал, что он, такой правоверный лютеранин, не может сейчас смириться пред небесами и оправдать, простить уготованную ему и его соотечественникам участь.
Сборы в Лейпциг были поспешными, брали только самые необходимые костюмы, реквизит, декорации. Основное же театральное имущество сложили в хозяйственные помещения, находившиеся за сценой, и тщательно заперли. Вместе со всем домашним скарбом закрыли и квартиру принципала. Сторожить все это Аккерман поручил бедному сапожнику, который с женой и сыном перебрался в комнатушку в подвале театра.
Когда вещи были собраны, труппа во главе с Софи Шрёдер быстро направилась в Лейпциг. Аккерман же немного задержался в Кёнигсберге – он должен был провести маскарад, о котором афиши еще в начале месяца оповестили публику. Затем он простился с друзьями, прочел последние наставления Фрицу, которого решено было на время отсутствия труппы оставить в Коллегиум Фридерисианум, и отправился вслед за труппой, надеясь догнать ее в пути.
Все это произошло так быстро, что Фриц, привыкший к частым гастролям труппы, в первое время не успел осознать всей серьезности наступившей разлуки. Теперь не стало редких отлучек домой, в театр. И в будни и в праздник он был в школе, особенно тщательно упражняясь в чистописании и штудируя грамматику и математику – предметы, в которых из-за своеобразной методы Аста значительно отстал от сверстников. Занятия шли хорошо. Его успехами были довольны, и на пасху 1757 года Шрёдера перевели во второй, предпоследний класс.
Однако к этому времени серьезные заботы одолевали Фрица – от родителей не было ни вестей, ни денег. А деньги становились все нужней и нужней: в школе неоднократно напоминали о том, что все сроки платы за обучение и пансион давно прошли. Мальчик несколько раз писал об этом матери и отчиму, надеясь, что хоть одно из писем, несмотря на нарушенную войной работу почты, сможет попасть к ним. Полный отчаяния, он решил обратиться к родителям с последней просьбой. Фриц долго обдумывал каждое слово своего важного послания, которое как нельзя достовернее отразило катастрофичность создавшегося положения. Вот что он написал:
«Кёнигсберг, 2 мая 1757 года Дорогие родители!
Печаль, в которой я, милые родители, пребываю, заставляет меня проливать горчайшие слезы. Как Вы знаете, дорогая мама, я послал уже Вам письмо, в котором подробно изложил свое бедственное положение, и, став таким несчастным, не могу снова не беспокоить Вас. Господин инспектор давно исключил бы меня из Коллегиума, если бы я на коленях не вымолил у него отсрочки на 14 дней. Дорогая мама, 8 мая Вы можете считать, что Ваш сын уже не в интернате, а на улице. Сейчас в школе нас кормят так хорошо, что лучшего для себя не желаю. Я, вероятно, наелся надолго. Причина хорошего питания та, что нам готовит настоящий повар.
Дорогие родители! Пожалуйста, как можно скорее выручите меня из беды. Я должен большую сумму, достигшую 10 гульденов, учителям французского языка, математики и пения. Когда же я прихожу к опекуну и прошу, чтобы он тотчас выложил деньги, он говорит, что у него их нет; он не дает мне и бумагу, в которой я так нуждаюсь. Дорогие родители! Учитель, который занимался со мною музыкой, покинул Коллегиум, и теперь я не знаю, у кого мне учиться; прежнему я не смог уплатить за 2 месяца 6 гульденов, которые ему должен. Сжальтесь же, дорогая мама, и узрите мою нищету; не знаю, куда от нее бежать, в каком углу спрятаться от тех, кому должен. Разве что господин инспектор заберет мои вещи и тем вернет себе мой долг.
Десятого апреля я перешел во второй класс, где требуется много книг, а у меня нет ни единой и не знаю, откуда их брать. Сумма долга составляет 136 гульденов. Из них 31 гульден я взял у господина инспектора на вещи, которые мне необходимы, а остальные 105 гульденов – сумма за питание на полгода.
Храни вас бог и дальше и избави вас от всякого зла, которое могло бы выпасть на вашу долю.
Остаюсь наипослушнейшим сыном моих высокочтимых и дорогих родителей,
Ф. Шрёдер».
Поставив последнюю точку, Фриц глубоко задумался. Он вдруг отчетливо представил себе мать, когда перед выходом на сцену она придирчиво смотрится в зеркало, покрепче прикалывает высокий пудреный парик и, поднявшись с круглой табуретки, тщательно расправляет сначала пышные высокие фижмы, а затем длинный шуршащий шлейф платья Меропы, вдовствующей царицы Мессены. Вспомнились ему терпение и настойчивость матери, когда она учила его, часто игравшего в детстве роли девочек, делать плавные реверансы. А теперь в их семье выросла уже и юная актриса – еще год назад четырехлетняя тогда сестренка Доротея впервые появилась на сцене. Играя Арабеллу в «Мисс Саре Сампсон» Лессинга, она была очень мила. Подумав об этом, Фриц снова придвинул к себе старательно исписанный лист и аккуратно добавил:
«Р. S. Передайте привет моей дорогой сестре. Пусть и ее господь избавит от всякого зла».
И вдруг решив, что родителям это будет интересно, дописал ниже:
«Господин Брунеус и мадам Кернин здесь и думают отправиться в Россию».
Письмо было отправлено. Потянулись дни, полные напряженного ожидания. Но Фриц не только ждал. Все еще не терявший надежду на помощь, он стучался в дома богатых друзей отчима, побывал у своего опекуна. Однако к просьбам облегчить его участь все остались глухи. Нередко сейчас приходилось ему слышать один и тот же ответ: «Твой отец мне и так должен. Ничего ты не получишь». Униженный, удрученный, возвращался он в школу, чувствуя невозможность избежать неотвратимо надвигающуюся беду. Даже названный инспектором самый последний срок платы – июль не внес облегчения в судьбу Шрёдера. Родители не откликнулись, а в Кёнигсберге взывать о помощи было уже не к кому. Горькие мысли глодали его день и ночь. Не раз в эту пору Фриц думал о смерти. Июль 1757 года казался ему краем пропасти.
Глава 2
ЦИРК ИЛИ ДРАМА?
В мае 1757 года, когда прусские войска разбили австрийцев у Праги, Фридрих II был полон радужных надежд. Но в середине июля его войска потерпели поражение у Колина в Чехии, после чего австрийские войска вторглись в Силезию, а французские – заняли Ганновер. Русские части, находившиеся на территории Польши, в начале августа перешли границу Пруссии и в конце месяца нанесли поражение пруссакам у реки Прегель, возле Грос-Егерсдорфа.
Теснимый со всех сторон вражескими армиями, Фридрих II считал себя погибшим. У него возникла мысль о самоубийстве. Он написал своей сестре, маркграфине Байрейтской, что хочет покончить с собой.
Этот монарх, который, по словам лично знавшего его Вольтера, «обходился без двора, без советников и без религии», монарх «более самодержавный, чем турецкий султан», утверждавший, что «Моисей, предводительствуя евреями, действовал по своему благоусмотрению, а я правлю пруссаками по своему разумению», решил, что сейчас достиг грани катастрофы. Но прежде чем покинуть этот мир, он написал маркизу д’Аржансу длинное стихотворное послание. В двухстах стихах изливал он горечь своего монаршьего крушения и говорил последнее «прости». Не веря глазам, медленно читал маркиз строку за строкой:
«Друг, совершился жребий мой!
Устав под вражеской секирой
Склоняться гордой головой,
Гоню я прочь постылый рой,
Рой дней, исполненных печали,
Что боги щедрые мне дали —
В насмешку над моей безрадостной судьбой.
С веселым сердцем, с твердым взором
Хочу концом, благим и скорым,
Спастись от худших зол, что присудил мне рок.
Зачем боязнь? К чему упрек!
Прости, величье! Прочь, химеры!
Моя душа не знает веры
В быстробегущий ваш поток.
Гоним, уничижен, отвергнут целым светом,
Лишен обманчивых друзей,
Я так несчастен в мире этом,
Такая скорбь в душе моей,
Что мнятся мне: в аду, продуманном поэтом,
Не ведал мук таких злосчастный Прометей.
Хочу прервать свои мученья —
Подобно узнику, что обрывает сам,
Назло жестоким палачам,
Позор и пытку заточенья.
Готов я способом любым
Покончить с бытием земным,
Что нитью, вьющейся устало,
Со смертным обликом моим
Полет души моей связало.
Из слов моих, достойных слез,
Ты видишь мой удел постылый:
Кончина для меня – апофеоз,
И ты не сетуй над моей могилой.
Но в день, когда цветы тебе повеют в грудь
И новая весна твои осушит слезы,
Зеленый мирт, живые розы
Принесть на гроб мой не забудь!»
(Пер. А. Кочеткова)
Вольтер, которому Фридрих II не преминул послать копию этих виршей, был убежден, что прусскому самодержцу «хотелось показать, что он сохранял полное присутствие духа и свободу мысли в такие мгновения, когда другим это недоступно». Французский философ не без иронии подчеркнул, что «выступил с прозаическими возражениями против решения умереть» и ему не составило труда склонить монарха к жизни. Фридрих II внял совету Вольтера войти в переговоры с маршалом де Ришельё. Он написал маршалу письмо, а не получив ответа, решил сокрушить французскую армию. Сообщая об этом Вольтеру, Фридрих II заканчивал письмо стихотворными строками, полными решимости и воли к битве:
«Пред ураганом не робею:
И жизнь и смерть приять умею,
Как подобает королю».
(Пер. А. Кочеткова)
5 ноября 1757 года в сражении под Росбахом, на границах Саксонии, войска Фридриха II одержали победу. Пять прусских батальонов да несколько эскадронов обратили тридцать тысяч французов и двадцать тысяч императорских солдат в стремительное бегство. Вспоминая те дни, Вольтер считал битву под Росбахом «самым неслыханным, самым полным разгромом, какой только знала история», и утверждал, что «силою счастливых обстоятельств Фридрих в какие-нибудь четверть часа был вознесен из бездны отчаяния на вершину благополучия и славы».
Советчиком Фридриха Прусского в критический момент его жизни был великий французский философ. Нашелся свой философ и у тезки его императорского величества – бедного, бездомного, покинутого всеми безвестного в то время подростка Фридриха Шрёдера. Им оказался сапожник, сторож владений Аккермана.
Этот почти нищий человек проявил куда больше мудрости и широты души, чем богатые, образованные меценаты, считавшие себя истинными друзьями кёнигсбергского принципала.
В конце июля, когда истекла последняя отсрочка платежа за учение и пансион, Шрёдер вынужден был покинуть школу. Собрав свои скромные пожитки и книги, оставив в уплату долга принадлежащее Аккерману фортепиано, Фриц грустно попрощался с товарищами. Впереди – ни крова, ни средств, ни вестей от родных…
Видя отчаянное положение Фрица, сапожник не стал выяснять, сколько должен ему отчим парнишки, а просто предложил обездоленному приют в своей каморке. Щедрый душой, он не делал различия между собственным сыном и пришельцем – и корку хлеба и голод делили в этой семье честно, поровну. Фриц научился немного ремеслу своего покровителя и скоро смог шить детские ботинки, которые охотно покупались в базарные дни. Однако товар, изготовляемый в подвале театра, был столь скромен и далек от совершенства, что давал грошовый заработок членам новой артели. Неделями, даже в воскресные дни, не видели они дымящейся похлебки. Нищета давала себя знать все больше. Когда прожиты были и деньги, вырученные от продажи учебников Фрица, настало время изведать настоящий голод.
Летом еще был маленький огород, грело солнце. Но пришла осень, и холод закрался в подвальное жилье, угрожая в зимнее время заморозить его обитателей. И хотя кочерыжки осенней капусты, перепадавшие теперь Фрицу и сынишке сапожника, насыщали их, постоянно голодных, приближение зимы отнюдь не сулило благополучия.
В городе по-прежнему было тревожно. После битвы при Грос-Егерсдорфе прусские войска прошли через Кёнигсберг. Фриц видел солдат, их пыльные, пропитанные кровью повязки, слышал стоны тяжелораненых, крики и плач стоявших у обочины дороги женщин и детей.
В начале 1758 года русские войска заняли Кёнигсберг. Здание театра сразу привлекло внимание квартирмейстера. Зрительный зал открыли, в партере и ложах настелили солому и разместили более двухсот солдат. Командующий, генерал Корф, вскоре по приезде осмотрел театр и сказал Фрицу: «Напиши твоему отцу, пусть немедленно возвращается. Он меня хорошо знает». Офицеры штаба тоже помнили выступления Аккермана в Москве и Санкт-Петербурге. Письмо было послано, но ответа не последовало.
Вскоре войска покинули город.
Весной в Кёнигсберг прибыл зубной лекарь, канатоходец и фокусник Заргер. Маэстро счел помещение театра вполне подходящим для демонстрации своего искусства. Осмотрев его, Заргер осведомился, с кем нужно вести переговоры об аренде. «Со мной, – гордо ответил Шрёдер. – Я сын Аккермана и хозяин театра». Этот юный самозваный хозяин думал, что достиг вершин коммерции, заключив соглашение, по которому театром и тремя жилыми комнатами при нем с того дня за шесть талеров в месяц стал распоряжаться гастролер Заргер.
Как повелось со времен средневековья, врачевание и балаганные спектакли часто дружно шагали рядом. Манипуляциям лекаря нередко предшествовала громкая реклама – буффонное представление на рыночной площади, участниками которого обычно бывали и сами «светила медицины». Такие Гиппократы бойко и зазывно торговали настойками, пилюлями, микстурами и мазями, «помогавшими» от всех болезней, давали универсальные советы и проявляли при этом не только отменную технику королей рыночной коммерции и балаганных иллюзионистов, но и тонкое умение бывалых шарлатанов.
Средневековье кануло в Лету. Но традиции его, хоть и несколько осовремененные, продолжали бытовать. И потому никого не удивило, что в марте 1758 года на театре Аккермана и людных перекрестках улиц появились яркие афиши, извещавшие, что после веселого циркового представления маэстро Заргера, его сына Зигриста, а также других членов семьи прославленного лекаря страждущим помогут расстаться с гнилыми зубами и снабдят их мудрейшими медицинскими советами.
Когда народ повалил в театр на первое представление, Фриц Шрёдер с нетерпением ждал за кулисами его начала. Весь поглощенный каскадом фокусов, напряженно смотрел он на ловкие руки маэстро, стремясь уловить хотя бы намек на приемы, которые рождали чудеса на глазах у зачарованной зрелищем публики.
Вот Заргер берет шляпу, наливает в нее ложкой тесто… и тотчас протягивает публике дымящийся ароматный блин. Мгновение – и шляпа красуется на голове загадочно улыбающегося фокусника, в руках которого теперь сухая раскидистая ветка. Дуновение легкого шелкового шарфа над ней – и ветка покрылась изумрудом листочков, тугими розоватыми бутонами яблони. Короткое заклинание – бутоны становятся роскошными нежными цветами, а магические пассы Заргера превращают их в круглые румяные яблоки. Затем на сцене появляется черный куб, а из него – мертвая голова, голова знаменитого Цицерона. Мороз пробегает по коже зрителей, когда, словно из преисподней, звучит речь – это «заговорила» голова мудреца.
Все попытки Фрица понять природу чудес Заргера ни к чему не приводили. А так хотелось постичь их секрет, чтобы научиться самому удивлять толпу хитроумными фокусами. Но вскоре ключ к некоторым из них был найден. Им оказались несколько костюмов и декораций Аккермана, которые Заргер охотно позаимствовал со склада театра, поведав за это Фрицу тайну интересующих того чудес. Теперь Шрёдер знал, как разрезанная при публике лента оказывается в действительности нетронутой, как из одной шляпы, в которую помещают яйцо, оно в мгновение ока оказывается в другой, а затем молниеносно возвращается обратно. Понял он и другие хитрости иллюзиониста, производившиеся с колодой карт, тростью, свечкой, спичками и шляпой.
Что же до коронного номера Заргера – баланса на канате, – то к нему была лишь одна отмычка: смелость, терпение, риск и бесконечные тренировки. Недюжинная настойчивость Фрица помогла ему сначала устоять, а потом и начать передвигаться по туго натянутому канату. Пользуясь тем, что маэстро в ярмарочные дни спешил с раннего утра на рыночную площадь, чтобы рекламировать и продавать там свои снадобья, Шрёдер начинал тренировку в дремотном полумраке пустого зрительного зала.
Вот он стоит на крохотной площадке, с которой должен начать такой нелегкий путь. Но прежде надо превозмочь скованность, которая никак не дает сделать первый, самый первый, важный и страшный шаг. Легкая слабость в коленях не оставляет сомнения в том, что новоявленный канатоходец волнуется и немного трусит.
Фриц рад, что сейчас один в зале. Он ненавидит эту неотвязную растерянность, ненавидит самого себя за трусость. Ненависть рождает гнев. Негодуя на собственный страх, Фриц крепче сжимает в руке маленький веер-экран, взятый для баланса, и уверенно скользит правой ногой по канату. Шаг, шаг еще и еще… Но тут поднятые на уровне плеч руки резко вздрогнули, им словно недостало надежной до этого опоры воздуха, а извивающиеся движения тела так и не восстановили утраченного равновесия. Фриц срывается с каната, но в последний момент, цепко схватившись за него, как за единственный якорь спасения, повисает над партером. Упруго подтянувшись, мальчик быстро садится на раскачивающийся сейчас, словно маятник, канат, а затем, когда движение каната затухает, решительно подбрасывает тело вверх и встает на ноги. Теперь любой ценой надо дойти до конца. Быстро преодолев оставшееся расстояние, Фриц рывком, чтобы не потерять равновесие, поворачивает обратно и снова устремляется по коварной своей шаткостью дороге.
Когда спустя несколько часов он до завтра оставит канат, натруженные ноги и все тело будут устало взывать об отдыхе. Но в эти минуты мальчик будет просто счастлив: он преодолел рубикон страха и хоть на дюйм, но упрямо приблизился к поставленной цели.
Фриц был строен и крепок. Баланс на канате развивал силу, ловкость, вырабатывал упругую пластичность. Вот где пригодились танцевальные навыки, полученные юным актером на занятиях у хореографа Финзингера. Пригодились и терпеливые уроки матери, приучившие его легко и изящно двигаться по сцене, замирать в красивой позе после плавного поклона. Только тогда все происходило на твердых подмостках, а теперь под ногами – врезающийся в подошву натянутый струной канат, а внизу, в серой мгле закрытого днем зала, – прочные, но такие далекие с высоты и пугающие сейчас доски пола.
В начале июня Заргер уехал. И Фрицу Шрёдеру пришлось снова вспомнить о шиле, дратве и детских ботинках. Опять пошли чередой голодные, а теперь и ставшие скучными без представлений дни. Лишь изредка в каморке подвала наступало оживление: вынужденный бедой по временам продавать что-нибудь из вещей отчима, Фриц отдавал вырученные деньги своим покровителям. Тогда на старом колченогом столе появлялись дымящаяся миска супа и краюха хлеба, а рядом с ними – бутылка из мутного, толстого, зеленовато-серого стекла, заткнутая деревянной пробкой. Сапожник не только вожделенно прикладывался к ней сам, но считал своим долгом не скупиться для ближних. И жене и обоим парнишкам в такие дни тоже доставалось угощение. Пара глотков горького, как полынь, дешевого хмельного питья обжигала наголодавшиеся желудки и быстро туманила головы подростков. Но начав свой долгожданный праздник, сапожник кончал его, лишь достоверно убедившись, что дно коварной бутылки сухо, как пески пустыни, а в доме опять ни корки, ни гроша.



![Книга ЖИЗНЬ [ live ] 1/4 автора Анастасия Аккерман](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zhizn-live-1-4-315349.jpg)




