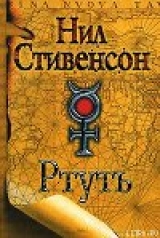
Текст книги "Одалиска"
Автор книги: Нил Стивенсон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц)
Элиза не хотела, чтобы Боб, открыв глаза, увидел её такой, потому рухнула вперёд, упёрлась ладонями в стол по обе стороны его головы и опустила лицо, чтобы волосы упали завесой, скрыв всё, что выше груди. Не то чтобы Боб особо пялил глаза; он явно счёл, что попал в далеко не худшую ситуацию.
Некоторое время Элиза двигалась вверх-вниз – очень медленно, отчасти из-за боли, отчасти из-за того, что не знала, насколько близок финал. Все мужчины разные, и даже у одного мужчины это происходит по-разному в зависимости от времени суток; судить можно только по ритму дыхания (которое она слышала) и расслабленности лица (за которым могла наблюдать в просвет между прядями). Судя по всему, скорой развязки ждать не приходилось. Однако через какое-то время он всё-таки кончил честь по чести: выгибая спину и колотясь головой о стол.
Боб сделал первый вдох, показывающий, что оргазм позади, и открыл глаза. Элиза смотрела прямо на него.
– Чертовски больно, – объявила она. – Я проделала это над собою в качестве демонстрации.
– Чего? – спросил Боб, ошалевший, растерянный, но довольный собой.
– Хотела показать, что думаю о твоей хвалёной чести. И где сейчас была Абигайль?
Боб Шафто попытался рассердиться, но без особого результата. Англичанин познатней или побогаче сказал бы: «Знаешь что…», однако Боб лишь стиснул зубы и попытался сесть. В этом он преуспел больше – поначалу, – ибо Элиза была девушка миниатюрная. Тут из-за шелковистого занавеса вынырнула рука с маленьким турецким кинжалом. Изящный клинок дамасской стали, нацеленный в левый глаз, принудил Боба снова лечь на спину.
– Демонстрация очень важна, – продолжала Элиза, вернее, прорычала, поскольку ей было по-прежнему очень больно. – Ты приходишь и говоришь красивые слова о чести, ожидая, что я бухнусь в обморок и выкуплю тебе Абигайль. Я много раз слышала, как мужчины распинаются о чести при дамах и забывают о ней, когда похоть или телесный страх берёт верх над показным благородством. Как кавалеры, которые бросали дорогое оружие и пышные стяги, чтобы бежать от восставшей черни. Ты не хуже их, но и не лучше. Я не стану помогать тебе оттого, что растрогана твоею любовью и пустозвонством о чести. Я помогу тебе, потому что не хочу, как волна, уйти в песок на заброшенном берегу. Господин Мансар может строить королевские замки, чтобы оставить свой след в жизни, ты можешь жениться на Абигайль и наплодить целый клан Шафто, но если я оставлю по себе память, это будет как-то связано с рабством. Я буду помогать тебе постольку, поскольку это служит моей цели. Выкуп одной девушки моей цели не служит, но Абигайль может быть полезна мне в чём-то другом. Я должна подумать. Покуда я думаю, она будет рабыней Апнора. Если она тебя и помнит, то лишь как труса и перебежчика. Удел твой жалок. С течением скорбных лет ты, возможно, оценишь мудрость моей позиции.
Тут разговор – если это можно назвать разговором – нарушило мощное «кхе» из другого конца комнаты: галлоны воздуха выталкивали флегму из дыхательных путей.
– Кстати о позициях, – произнёс хриплый голландский голос, – не будете ли вы с вашим кавалером так любезны отыскать себе другую? Поскольку спать из-за вас невозможно, я намерен хотя бы поесть.
– Со всей охотой, минхеер, но ваша жиличка приставила мне к глазу кинжал.
– Вижу, с мужчинами ты ведёшь себя хладнокровнее, чем с женщинами, – шёпотом заметила Элиза.
– Такие, как ты, никогда не видят мужчин хладнокровными, разве что через щёлочку в заборе, – возразил Боб.
Хозяин дома – седой здоровяк лет пятидесяти пяти – снова громко прочистил горло. Бровями его Бог не обидел; сейчас он поднял одну, словно мохнатое знамя, и смотрел из-под неё на Элизу – типично для астронома, привыкшего глядеть одним глазом.
– Доктор предупредил меня, что следует ожидать странных гостей, однако ничего не сказал о деловых сношениях.
– Некоторые назвали бы меня шлюхой, а кое-кто и не без основания, – отвечала Элиза, предостерегающе глядя на Боба, – но в данном случае вы ошиблись, мсье Гюйгенс. Дело, которое мы обсуждаем, никак не относится к сношению, которое мы имели.
– Тогда к чему заниматься ими одновременно? Неужто вы настолько торопитесь? Так ли ведут дела в Амстердаме?
– Я пыталась прочистить ему мозги, дабы он лучше соображал, – сказала Элиза, выпрямляясь, потому что спина у неё заболела, а корсаж давил на рёбра.
Боб резким движением отвёл её руку и сел, так что Элиза кувыркнулась назад. Она бы приземлилась головой, если бы он не поймал её за плечи и не развернул – а может быть, он сделал что-то в равной степени сложное и опасное. Элиза – когда всё было позади – поняла только, что сердце у неё оборвалось, голова кружится, волосы упали на лицо, а кинжала в руке нет. Боб, выставив её перед собой, как ширму, одной рукой натягивал штаны. Другой рукой он крепко, как уздечку, держал её кружевной воротник.
– Никогда не выпрямляй руку, – тихо объяснил это, – это показывает противнику, что ты не можешь сделать выпад.
В благодарность за урок фехтования Элиза крутанулась так, чтобы вывернуть ему пальцы. Боб чертыхнулся, выпустил воротник и натянул наконец штаны.
– Господин Гюйгенс, Боб Шафто, сержант Собственного королевского блекторрентского гвардейского полка. Боб, это Христиан Гюйгенс, величайший натурфилософ мира.
– Гук бы вас за такие слова укусил. Лейбниц талантливее меня. Ньютон, хоть и сбился с пути, по слухам, очень даровит. Скажем лучше, что я – величайший натурфилософ в этой комнате. – Гюйгенс быстрым взглядом пересчитал присутствующих: себя, Боба, Элизу и висящий в углу скелет.
Боб только сейчас заметил скелет и несколько опешил.
– Прошу прощения, сударь, это было безобразно…
– Не оправдывайся, – прошипела Элиза. – Господин Гюйгенс философ, ему безразлично.
– Когда я был совсем юн, сюда приходил Декарт и за этим самым столом в сильном подпитии вещал о проблеме ума-тела.
– Проблема? В чём проблема? Не вижу никакой проблемы, – бормотал Боб, покуда Элиза не придавила каблуком его ногу.
– Так что Элиза не могла отыскать лучшего места, чтобы усилить ваш умственный процесс путём избавления от лишних телесных соков.
– Кстати о телесных соках, что мне делать с этим? – спросил Боб, покачивая на пальце продолговатый мешочек.
– Положи в коробку и отправь Апнору в качестве задатка, – предложила Элиза.
Покуда они говорили, солнце выглянуло и осветило комнату. Любой голландец обрадовался бы такой внезапной перемене, но Гюйгенс повёл себя странно, как будто ему внезапно напомнили о тягостной обязанности. Он обвёл глазами часы.
– У меня есть четверть часа на еду. Потом нам с Элизой предстоит работа на крыше. Вы, сержант Шафто, можете остаться…
– Не буду злоупотреблять вашим гостеприимством, – сказал Боб.
* * *
Работа Гюйгенса состояла в том, чтобы неподвижно стоять на крыше и щуриться в инструмент, покуда все колокола Гааги бьют полдень. Элизе было велено не вертеться под ногами, а записывать цифры в черновую тетрадь и время от времени подавать нужные принадлежности.
– Вы хотите знать, где солнце находится в полдень…
– Вы сформулировали с точностью до наоборот. Полдень – время, когда солнце достигает определённого места. Ничего другого полдень не означает.
– Так вы хотите знать, когда полдень…
– Сейчас! – объявил Гюйгенс и поглядел на часы.
– Тогда все часы в Гааге врут.
– Да, и мои в том числе. Даже хорошие часы спешат или отстают, поэтому их время от времени следует подводить. Я делаю это всякий раз, как выглядывает солнце. Через несколько минут Флемстид будет делать то же самое с вершины Гринвичского холма.
– Жаль, что людей нельзя так же просто отрегулировать, – заметила Элиза.
Гюйгенс взглянул на неё не менее пристально, чем за мгновение до того смотрел в инструмент.
– Очевидно, вы имеете в виду кого-то конкретного, – проговорил он. – Про людей могу сказать следующее: трудно определить, идут ли они верно, но всегда видно, когда они сбились.
– Очевидно, вы о ком-то конкретном, – сказала Элиза, – и боюсь, что обо мне.
– Вас рекомендовал Лейбниц, – отвечал Гюйгенс, – тонкий знаток человеческого ума. Увы, не столь тонкий знаток характеров, ибо предпочитает о каждом думать хорошо. Я навёл справки в Гааге, и весьма достойные люди заверили, что вы меня не скомпрометируете. Из этого я заключил, что вы умеете себя вести.
Элиза внезапно почувствовала себя очень высоко и у всех на виду. Она отступила на шаг и взялась за тяжёлую треногу телескопа.
– Простите, – сказала она. – Я поступила глупо. Я знаю это и знаю, как себя вести. Однако я не всегда жила при дворе. Я шла к своему нынешнему положению кружным путём, и жизнь не во всём сделала меня приглядной. Вероятно, мне следует стыдиться. Однако мне больше хочется держать себя вызывающе.
– Я понимаю вас лучше, чем вы думаете, – промолвил Гюйгенс. – Меня с детства готовили в дипломаты, но в тринадцать лет я соорудил себе токарный станок.
– Что, простите?
– Токарный станок. Там, внизу, в этом самом доме. Вообразите ужас родителей. Они учили меня латыни, греческому, французскому и другим языкам. Учили играть на лютне, виоле и клавесине. Из истории и литературы я выучил всё, что было в их силах. В математике и философии меня наставлял сам Декарт. А я сделал себе токарный станок, потом научился шлифовать линзы. Родители боялись, что произвели на свет ремесленника.
– Я очень рада, что для вас всё обернулось так хорошо, – сказала Элиза, – но по тупости не могу взять в толк, как ваша история относится ко мне.
– Не беда, что часы спешат или отстают, если время от времени проверять их по солнцу и подводить. Солнце может выглядывать раз в две недели. Больше и не надо. Достанет нескольких светлых полуденных минут, чтобы заметить ошибку и подправить часы, – при условии, что вы даёте себе труд делать наблюдения. Родители это понимали и потому смирились с моими странными увлечениями. Они верили, что научили меня видеть, когда я сбился, и выправлять моё поведение.
– Теперь я, кажется, поняла. Осталось лишь применить этот принцип ко мне.
– Если я вхожу утром в столовую и вижу, что вы совокупляетесь на столе с иноземным дезертиром, словно какая-нибудь голодранка, я возмущён. Признаю. Однако куда важнее ваше дальнейшее поведение. Если вы держитесь вызывающе, я понимаю, что вы не умеете распознать и поправить свою ошибку. В таком случае вы должны покинуть мой дом, ибо такие люди могут катиться лишь дальше к гибели. Однако если вы обдумываете своё поведение и делаете правильные выводы, то я понимаю, что в конечном счёте у вас всё будет как надо.
– Хороший совет, и я за него признательна, – сказала Элиза. – В принципе. Однако на практике я не знаю, как быть с Бобом.
– Мне кажется, вам кое-что с ним надо утрясти, – предположил Гюйгенс.
– Мне кое-что надо утрясти с миром, – отвечала Элиза.
– Что ж, утрясайте. Можете оставаться у меня. Только впредь, если захотите с кем-нибудь переспать, будьте так добры заниматься этим у себя в спальне.
Биржа
(Между улицами Треднидл и Корнхилл)
сентябрь 1686
Действующие лица:
ДАНИЕЛЬ УОТЕРХАУЗ, пуританин.
СЭР РИЧАРД АПТОРП, бывший золотых дел мастер, владелец Банка Апторпа.
ГОЛЛАНДЕЦ.
ЕВРЕЙ.
РОДЖЕР КОМСТОК, маркиз Равенскарский, придворный.
ДЖЕК КЕТЧ, главный палач Англии.
ГЕРОЛЬД.
БЕЙЛИФ.
ЭДМУНД ПОЛЛИНГ, старик.
ТОРГОВЦЫ.
ПРИСПЕШНИКИ АПТОРПА.
ПОДРУЧНЫЕ ПАЛАЧА.
СОЛДАТЫ.
МУЗЫКАНТЫ.
Обрамлённый колоннадою двор. ДАНИЕЛЬ УОТЕРХАУЗ сидит на стуле среди спешащих и кричащих торговцев. Входит СЭР РИЧАРД АПТОРП с приказчиками, подручными и прихлебателями.
АПТОРП: Ба, кого я вижу! Никак доктор Даниель Уотерхауз!
УОТЕРХАУЗ: Рад встрече, сэр Ричард!
АПТОРП: На стуле, скажите на милость!
УОТЕРХАУЗ: День долог, сэр Ричард, у меня устали ноги.
АПТОРП: В таком случае лучше двигаться – для того и создана Биржа! Это храм Меркурия, не Сатурна!
УОТЕРХАУЗ: Вам кажется, что я угрюм, как Сатурн? Сатурн – Хронос, бог времени. Воистину сатурнианскую личность вы обретёте в Гуке, величайшем часовщике мира…
Входит голландец.
ГОЛЛАНДЕЦ: Сударь! Ваш Гук всему научился у нашего Гюйгенса!
Уходит.
УОТЕРХАУЗ: Разные народы чтят одних богов под разными именами. У греков был Хронос, у римлян – Сатурн. У голландцев – Гюйгенс, у нас – Гук.
АПТОРП: Коли не Сатурн, то кто вы такой, чтобы сидеть на стуле в угрюмом раздумье посреди Биржи?
УОТЕРХАУЗ: Я тот, кто рождён представлять семью при конце света и назван по самой тёмной из книг Библии, кто покинул Лондон с Чумой и въехал в него с Пожаром. Я провожал Дрейка Уотерхауза и короля Карла в мир иной и вот этими двумя руками положил в могилу голову Кромвеля!
АПТОРП: Вот тебе на! Сударь!
УОТЕРХАУЗ: В последнее время я замечен в Уайтхолле, где брожу весь в чёрном, наводя страх на придворных.
АПТОРП: Что привело Плутона в храм Меркурия?
Входит еврей.
ЕВРЕЙ: Простите, сеньор, простите, где здесь tablero?
Уходит.
АПТОРП: Он видит, что у вас есть Стул, и любопытствует, где Стол.
УОТЕРХАУЗ: В таком случае он сказал бы mesa. Возможно, его интересует banca, конторка.
АПТОРП: Все, кроме вас, сидящие здесь на стульях, сидят за конторками. Он хочет знать, куда подевалась ваша.
УОТЕРХАУЗ: Я хотел сказать, возможно, он ищет банковскую контору.
АПТОРП: То есть меня?
УОТЕРХАУЗ: Банк – новый титул, который вы присвоили своей златокузнечной лавке, не так ли?
АПТОРП: Да, но почему в таком случае он не спросил обо мне?
УОТЕРХАУЗ: Сеньор! Будьте любезны, на минуточку.
Еврей возвращается с бумажкой.
ЕВРЕЙ: Вот такая, вот такая!
АПТОРП: Что там у него? Я без очков.
УОТЕРХАУЗ: Он начертил то, в чём натурфилософ узнал бы декартову координатную плоскость, а вы – ведомость, и накарябал в одном столбце слова, в другом – числа.
АПТОРП: Tablero! Он ищет доску, на которой записывают названия товаров.
ЕВРЕЙ: Товары! Да!
УОТЕРХАУЗ: Прах меня побери, она за углом! Он что, слеп?!
АПТОРП: Рабби, не обижайтесь на сварливость моего друга, ибо он властелин подземного царства и славится своим норовом. Здесь, в храме Меркурия, всё движется; знания и сведения циркулируют подобно текущей воде, о которой говорится в Притчах. Однако вы совершили ошибку, обратив вопрос к Плутону, божеству тайн. Зачем здесь Плутон? Это своего рода загадка; я сам изумился, увидев его здесь, и подумал, будто гляжу на призрак.
УОТЕРХАУЗ: Tablero вон там.
ЕВРЕЙ: И это всё?!
АПТОРП: Вы из Амстердама?
ЕВРЕЙ: Да.
АПТОРП: Сколько товаров записано на tablero в Амстердаме?
ЕВРЕЙ: Вот столько.
Пишет.
АПТОРП: Даниель, что он там написал?
УОТЕРХАУЗ: Пятьсот пятьдесят.
АПТОРП: Боже, храни Англию. У голландцев на tablero почти шестьсот наименований, а у нас тут дощечка с несколькими десятками.
УОТЕРХАУЗ: Немудрено, что он её не узнал.
Еврей уходит в направлении дощечки, сетуя и закатывая глаза.
АПТОРП (приспешнику): Ступай за этим когеном и выясни, что он задумал: ему что-то известно.
Приспешник уходит.
УОТЕРХАУЗ: Так кто из нас божество тайн?
АПТОРП: Вы, ибо до сих пор не объяснили мне, зачем здесь сидите.
УОТЕРХАУЗ: Как властелин Аида я обычно сижу на троне в колодце, где души умерших кружат, подобно сухим листьям. Сегодня утром, покинув Грешем-колледж, я направлялся по Бишопсгейт, когда взгляд мой случайно упал меж колонн Биржи. Она была пуста, но ветер носил средь конторок листки, брошенные торговцами, словно вихрь палой листвы. Я ошибочно счёл, что оказался в аду, и воссел на привычное место.
АПТОРП: Ваша манера выражаться утомительна.
Входит маркиз Равенскарский в роскошном одеянии.
РАВЕНСКАР: «Гипотеза вихрей подавляется многими трудностями»!
УОТЕРХАУЗ: Боже, храни короля, милорд!
АПТОРП: Боже, храни короля… и разрази плутов, говорящих загадками, милорд!
УОТЕРХАУЗ: Излишне клясть Плутона.
РАВЕНСКАР: Он клянёт меня, Даниель, за болтовню о вихрях.
АПТОРП: Загадка разрешилась. Ибо теперь я вижу, что вы условились здесь встретиться. А поскольку вы говорите о вихрях, милорд, я заключаю, что цель вашей встречи философическая.
РАВЕНСКАР: Со всем уважением, позволю себе не согласиться, сэр Ричард. Ибо место встречи назначил сей, сидящий на стуле. Обычно мы встречаемся в «Золотом кузнечике».
АПТОРП: Итак, загадка остаётся. Так почему вы сегодня на Бирже, Даниель?
УОТЕРХАУЗ: Скоро узнаете.
РАВЕНСКАР: Быть может, потому что он хочет кое-чем обменяться. Вуаля!
АПТОРП: Что это вы достали из кармана, милорд? Я без очков.
РАВЕНСКАР: Только что из Ганновера. Доктор Лейбниц шлёт вам, Даниель, подписанный экземпляр последних «Учёных записок». Много математических заклинаний с вытянутыми продолговатыми S – впервые вижу!
УОТЕРХАУЗ: Значит, доктор уронил-таки второй башмак, ибо это может быть только интегральное исчисление.
РАВЕНСКАР: А также письма, адресованные вам в собственные руки, а значит, их прочли пока не более десяти человек.
УОТЕРХАУЗ: Позвольте.
АПТОРП: Боже правый, милорд, мистер Уотерхауз не выхватил бы их быстрее, займись они огнём. Обитателям подземного мира следует быть осторожнее с горючими материалами.
УОТЕРХАУЗ: А вот, милорд, только что из Кембриджа, как обещано. Вручаю вам книги первую и вторую «Математических начал натуральной философии» Исаака Ньютона. Побережней, сэр, документы весьма ценные.
АПТОРП: Лопни мои глаза, это закладной кирпич здания или рукопись?
РАВЕНСКАР: Хм! Судя по весу, кирпич.
АПТОРП: В любом случае слишком длинно, слишком длинно.
УОТЕРХАУЗ: Здесь разъясняется Система Мира.
АПТОРП: Вашему приятелю нужен строгий редактор!
РАВЕНСКАР: Только гляньте на эти клятые иллюстрации! Вы представляете, во сколько встанут гравюры?
УОТЕРХАУЗ: Утешайтесь мыслью, что каждая из них экономит тысячу страниц скучных рассуждений, пересыпанных продолговатыми S.
РАВЕНСКАР: Так или иначе, типографские издержки обанкротят Королевское общество!
АПТОРП: Так вот почему мистер Уотерхауз сидит на стуле без banca. Он символически представляет финансовое положение Королевского общества. Опасаюсь, что сейчас у меня попросят денег. Эй! Кто-нибудь из вас слышит, что я говорю?
Молчание.
АПТОРП: Читайте на здоровье, я не в претензии. Так это что-то очень увлекательное?
Молчание.
АПТОРП: Ах, подобно лососю, что на пути к истокам огибает валуны и прыгает через брёвна, мой помощник пробирается обратно ко мне.
Входит приспешник.
ПРИСПЕШНИК: Вы были правы касательно еврея, сэр. Он намерен закупить большое количество определённого товара.
АПТОРП: Сейчас на доске в Амстердаме цена этого товара выше, нежели на нашей жалкой английской дощечке. Еврей хочет купить дёшево здесь и продать дорого там. Что же за товар пользуется таким спросом в Амстердаме?
ПРИСПЕШНИК: Он проявляет интерес к грубому и прочному полотну…
АПТОРП: Парусина! Кто-то строит флот.
ПРИСПЕШНИК: Он спрашивает не парусину, а более дешёвую ткань.
АПТОРП: Для палаток! Кто-то создаёт армию! Быстрее, скупим всё, потребное для войны.
Апторп и его спутники уходят.
РАВЕНСКАР: Так Ньютон трудился над этим?
УОТЕРХАУЗ: Как бы он написал столько, если бы не трудился?
РАВЕНСКАР: Когда я над чем-нибудь тружусь, оно выходит урывками, по кускам, сие же есть единое целое, подобно хитону нашего Спасителя, не сшитому, а тканому нацело… Что он свершит в книге третьей? Воскресит мёртвых и вознесётся на небеса?
УОТЕРХАУЗ: Объяснит орбиту Луны, если вырвет у Флемстида нужные данные.
РАВЕНСКАР: Если Флемстид не даст, я вырву у него ногти! Господи! Вот только послушайте, что за чудо: «Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе – взаимодействия двух тел друг на друга между собой равны и направлены в противоположные стороны. Если кто нажимает пальцем на камень, то и палец его также нажимается камнем»[17]17
Здесь и далее цитаты из трудов Ньютона даны в переводе академика А.Н. Крылова.
[Закрыть]. Совершенство этого труда очевидно даже мне, Даниель! А как на ваш взгляд?
УОТЕРХАУЗ: Если двигаться дальше в том же направлении, то резонней спросить, как на взгляд Лейбница, ибо он настолько же впереди меня, насколько я впереди вас. Если Ньютон палец, то Лейбниц – камень, и они давят друг на друга с силой равной и противоположно направленной, постепенно возрастающей год от года.
РАВЕНСКАР: Однако Лейбниц не читал этих страниц, а вы читали, так что какой прок в его мнении?
УОТЕРХАУЗ: Я взял на себя смелость изложить самое существенное Лейбницу, посему он и шлёт все эти клятые письма.
РАВЕНСКАР: Однако, полагаю, Лейбниц не посмеет оспаривать столь блистательное сочинение?
УОТЕРХАУЗ: Лейбниц, на свою беду, его не видел. А может быть, и на своё счастье, ибо всякий, увидевший сей труд, будет ослеплён блеском геометрических доказательств, а трудно критиковать сочинение, когда лежишь ниц, закрыв рукою глаза.
РАВЕНСКАР: По-вашему, Лейбниц нашёл ошибку в одном из этих доказательств?
УОТЕРХАУЗ: Нет, в доказательствах Ньютона ошибок быть не может.
РАВЕНСКАР: Не может?
УОТЕРХАУЗ: Как человек, видя яблоко на столе, скажет: «На столе лежит яблоко», так вы, взглянув на чертежи Ньютона, можете сказать: «Ньютон изрёк истину».
РАВЕНСКАР: Тогда я перешлю экземпляр доктору, и, может быть, он вместе с нами падёт ниц.
УОТЕРХАУЗ: Не трудитесь. Лейбниц возражает не против того, что Ньютон сделал, а против того, чего он не сделал.
РАВЕНСКАР: Так, быть может, мы уговорим Ньютона восполнить пробел в книге третьей! Вы имеете на него влияние.
УОТЕРХАУЗ: Не путайте способность раздражать Исаака с влиянием.
РАВЕНСКАР: Тогда мы передадим ему вопросы Лейбница напрямую.
УОТЕРХАУЗ: Вы не осознали суть лейбницевых возражений. Дело не в том, что Ньютон не обосновал какое-то следствие или недостаточно развил некую многообещающую мысль. Вернитесь в начало, ещё до законов движения, и прочтите, что Исаак говорит в «Определениях». Скажу по памяти: «Эти понятия должно рассматривать как математические, ибо я ещё не обсуждаю физических причин и места нахождения сил».
РАВЕНСКАР: Что тут дурного?
УОТЕРХАУЗ: Некоторые возразят, что натурфилософам должно обсуждать физические причины и места нахождения сил! Сегодня утром, Роджер, я сидел в пустом дворе посреди воздушного вихря. Вихрь был невидим; откуда я знал, что он здесь? По движению, которое он сообщал бесчисленным кружащим листкам. Сподобься я принести инструменты, сделать замеры, рассчитать скорость и построить траектории листков и будь я гениален, как Ньютон, я бы свёл все данные в стройную систему воздушного вихря. Однако, будь я Лейбницем, я бы не стал со всем этим возиться. Я бы спросил: «Отчего здесь вихрь?»
АНТРАКТ
Шум за сценой: мрачная процессия движется по Фиш-стрит-Хилл со стороны ЛОНДОНСКОГО ТАУЭРА.
Торговцы выражают изумление и отчаяние из-за того, что процессия вступает на Биржу, нарушая торги.
Выходят два взвода Собственных королевских блекторрентских гвардейцев с мушкетами; к дулам примкнуты недавно принятые на вооружение французской армией длинные багинеты, или штыки. Ими солдаты разгоняют торговцев с середины Биржи и выстраивают концентрическими кругами, как на ярмарочном кукольном представлении.
Входят трубачи и барабанщики, за ними ГЕРОЛЬД, возглашающий казённую галиматью.
Под медленную скорбную каденцию барабанов входит ДЖЕК КЕТЧ в чёрном балахоне. Торговцы стоят в гробовом молчании.
Въезжает телега, запряжённая вороной лошадью, нагруженная связками дров и горшками. По бокам вышагивают ПОДРУЧНЫЕ Джека Кетча. Они сваливают дрова на землю и поливают маслом из горшков.
Входит БЕЙЛИФ с КНИГОЙ, окованной цепью и обвешанной замками.
ДЖЕК КЕТЧ: Именем короля, стой и назови своё имя.
БЕЙЛИФ: Джон Булль, бейлиф.
ДЖЕК КЕТЧ: Изложи своё дело.
БЕЙЛИФ: По велению короля я должен вручить тебе арестанта.
ДЖЕК КЕТЧ: Как зовётся арестант?
БЕЙЛИФ: «История гонений, воздвигнутых на французских гугенотов, с кратким описанием многих кровавых злодеяний, совершённых противу безвинных реформатов в герцогстве Савойском по велению короля Людовика XIV Французского».
ДЖЕК КЕТЧ: Обвинён ли арестант в каком-либо преступлении?
БЕЙЛИФ: Не только обвинён, но и справедливо осуждён за распространение лживых измышлений, попытки возбудить общественное недовольство и гнусную клевету на христианнейшего короля Людовика XIV, доброго друга нашего монарха и верного союзника Англии!
ДЖЕК КЕТЧ: Воистину гнусные преступления! Оглашён ли приговор?
БЕЙЛИФ: Да. Верховный судья лорд Джеффрис повелевает предать арестанта немедленной казни.
ДЖЕК КЕТЧ: Коли так, я приветствую его, как приветствовал покойного герцога Монмутского.
Джек Кетч подходит к бейлифу и берётся за цепь.
Бейлиф выпускает книгу, и она падает в пыль.
Под приглушённую каденцию барабанов Джек Кетч тащит книгу по мостовой, водружает её на груду дров, отступает на шаг и берёт у подручного факел.
ДЖЕК КЕТЧ: Последнее слово, гнусная книга? Нет? Тогда ступай в ад!
Поджигает костёр.
Торговцы, солдаты, музыканты, подручные палача и проч. молча смотрят, как пламя пожирает книгу. Бейлиф, герольд, палач, его подручные, солдаты и музыканты удаляются, оставив за собой дымящуюся груду углей. Торговцы возвращаются к торгам, как будто ничего не случилось, за исключением ЭДМУНДА ПОЛЛИНГА, старика.
ПОЛЛИНГ: Мистер Уотерхауз! Так как вы один прихватили с собой стул, справедливо ли будет допустить, что вы знали о предстоящем постыдном балагане?
УОТЕРХАУЗ: Здесь предполагался невысказанный намёк.
ПОЛЛИНГ: Занятное словцо – «невысказанный»… а как же правда, высказанная покойной книгой о преследовании наших братьев во Франции и Савойе? Осталась ли она невысказанной оттого, что сгорели листы?
УОТЕРХАУЗ: Я слышал немало проповедей, мистер Поллинг, и вижу, куда вы клоните… вы собирались сказать, что подобно тому, как душа, разлучась с телом, воспаряет к небесному Отцу, так и сказанное в этой книге разлетелось вместе с дымом по всем четырём ветрам… Разве вы не собирались в Массачусетс?
ПОЛЛИНГ: Меня удерживал лишь недостаток средств на дорогу, который я бы уже восполнил, если бы Джек Кетч не нарушил естественное течение торгов.
Выходит.
Входит сэр Ричард Апторп.
АПТОРП: Сожжение книг… не это ли излюбленная практика испанской инквизиции?
УОТЕРХАУЗ: Мне не доводилось бывать в Испании, сэр Ричард; что там жгут книги, я знаю лишь по обилию книг, об этом рассказывающих.
АПТОРП: Хм-м… я вас понял.
УОТЕРХАУЗ: Ради всего святого, не говорите «я вас понял» с таким многозначительным видом… я не желаю быть следующим гостем Джека Кетча. Вы неоднократно любопытствовали, почему я сижу на стуле. Теперь вы знаете ответ. Я пришёл посмотреть, как свершится правосудие.
АПТОРП: Вы знали, что произойдёт… вероятно, вы как-то приложили к этому руку. Зачем вы определили местом сожжения Биржу? На Тайберне, в день казни, успех был бы куда больше. Да что там, вы могли бы сжечь целую библиотеку, и чернь бы топала ногами, требуя продолжения.
УОТЕРХАУЗ: Чернь не читает книг. Она бы не поняла сути.
АПТОРП: Если цель – устрашить грамотеев, почему бы не сжечь её в Оксфорде или в Кембридже?
УОТЕРХАУЗ: Джек Кетч ненавидит переезды. В повозке некуда вытянуть ноги, большой топор не помещается в багажное отделение…
АПТОРП: А может быть, дело в том, что учёные мужи не располагают средствами на вооружённый мятеж?
УОТЕРХАУЗ: Ваша правда. Что проку стращать слабых? Лучше грозить сильным.
АПТОРП: Зачем? Чтобы держать их в повиновении? Или подтолкнуть к мятежу?
УОТЕРХАУЗ: Задавая такой вопрос, вы практически спрашиваете, кто я: отступник, предавший дело отцов и развращённый тлетворной атмосферой Уайтхолла, или изменник, сеющий тайную крамолу.
АПТОРП: Да, наверное.
УОТЕРХАУЗ: Тогда извольте задавать вопросы полегче или ступайте своею дорогой. Ибо кто бы я ни был – ренегат или фанатик, – я уже не тот учёный, с которым можно было шутить шутки. Коли вам угодно задавать такие вопросы, задайте их себе; коли желаете получить ответ, раскройте свои тайны, прежде чем выпытывать мои. Если они у меня есть.
АПТОРП: Полагаю, что есть, сэр.
Кланяется.
УОТЕРХАУЗ: Почему вы сняли передо мной шляпу?
АПТОРП: Дабы выразить уважение к вам, сэр, и восхищение тем, кто вас создал.
УОТЕРХАУЗ: Как, Дрейком?
АПТОРП: О нет, я говорю о вашем менторе, Джоне Уилкинсе, епископе Честерском, живом воплощении Януса. Ибо сей достойный муж написал одной рукой «Криптономикон», другой – «Всеобщий алфавит»; будучи добрым другом многих влиятельных кавалеров, женился на сестре самого Кромвеля и был подобен двуликому Янусу во многом другом, чего не стану перечислять. Ибо вы истинно его ученик и творение: то разносите вести, словно Меркурий, то храните тайны, словно Плутон.
УОТЕРХАУЗ: Обличье Ментора принимала Афина, чьим выучеником был сам великий Улисс. Прибегнув к столь строгой классической экзегезе, я стараюсь не расценивать ваши слова как оскорбление.
АПТОРП: Уж сделайте милость, любезный, ибо я ни в коей мере не желал вас оскорбить. Что ж, желаю здравствовать.
Уходит.
Входит Равенскар с «Математическими началами».
РАВЕНСКАР: Я несу их прямиком к печатнику, но по пути задумался про ньютоновы-лейбницевы дела…
УОТЕРХАУЗ: Как?! Представление Джека Кетча вас не впечатлило?
РАВЕНСКАР: А, это? Полагаю, что вы подстроили его, дабы укрепить свою репутацию пуританского лизоблюда при короле и в то же время возбудить недовольство мужей богатых и влиятельных. Простите, что не сказал комплимента. Лет двадцать назад я бы восхитился, но по теперешним моим меркам оцениваю лишь как умеренно закрученную интригу. Про Ньютона и Лейбница куда интереснее.
УОТЕРХАУЗ: Коли так, продолжайте.
РАВЕНСКАР: Декарт давным-давно объяснил, что планеты движутся вокруг Солнца, подобно кружащим в вихре листкам. Посему возражения Лейбница беспочвенны. Загадки нет, и Ньютон ничего не упустил.
УОТЕРХАУЗ: Лейбниц долгие годы пытался осмыслить декартову динамику и наконец сдался. Декарт не прав. Его теория динамики прекрасна чисто математически. Однако стоит сравнить теорию с реальным миром, как она рассыпается в прах. Гипотеза вихрей попросту не работает. Нет сомнений, что всеобщий закон обратных квадратов существует и управляет движением всех небесных тел по коническим сечениям. Однако вихри, небесный эфир и прочая подобная чепуха тут ни при чём.
РАВЕНСКАР: Так что же его определяет?
УОТЕРХАУЗ: Исаак говорит, что Бог или Божье присутствие в материальном мире. Лейбниц – что взаимодействие незримых взгляду частиц.
РАВЕНСКАР: Атомов?
УОТЕРХАУЗ: Атомы – если совсем в двух словах – не могут двигаться и меняться с достаточной скоростью. Вместо них Лейбниц говорит о монадах, которые ещё фундаментальнее атомов. Он не на шутку увлёкся, так что о них мы ещё услышим.
РАВЕНСКАР: Очень странно, ибо в личном письме он мне сообщил, что, опубликовав интегральное исчисление, намерен посвятить себя генеалогии.








