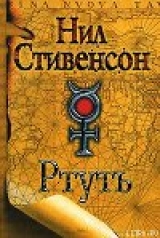
Текст книги "Одалиска"
Автор книги: Нил Стивенсон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Даниель задумался.
– Король хотел, чтобы Кембридж присвоил степень бенедиктинскому монаху, отцу Фрэнсису, которого весь университет считает засланцем Папы Римского, – сказал он. – Есть какие-нибудь новости о нём?
– Король пытался натолкать иезуитов и им подобных повсюду, – сказал сержант, – а за последние две недели почти всех отозвал. Уверен, что Кембридж выстоит, ибо власть стремительно ускользает от короля.
Даниель молчал. Некоторое время спустя сержант заговорил снова, более тихим, дружеским голосом.
– Я человек неучёный, но видел много пьес, из которых и нахватался словечек вроде «темница». Часто – особенно если пьеса идёт недавно – случается, что актёр забывает реплику, и слышно, как лютнист или оруженосец ему подсказывает. Я тоже подскажу вам следующую реплику, что-нибудь вроде: «Клянусь честью, это горькая весть; мой король, истинный друг нонконформистов, в опасности, что будет со всеми нами и чем я могу помочь его величеству?»
Даниель вновь промолчал. Сержант пришёл в некоторое возбуждение и принялся расхаживать по комнате, как будто Даниель – такое существо, которое лучше изучить с разных углов.
– С другой стороны, может быть, вы не такой уж рядовой нонконформист, коли вы в Тауэре.
– Как и вы, сержант.
– У меня есть ключ.
– Ха! А разрешение выйти?
Сержант на время приутих.
– Наш командир – Джон Черчилль, – сказал он наконец, пробуя зайти с другой стороны. – Король уже не вполне ему доверяет.
– Я всё гадал, когда же король усомнится в верности Джона Черчилля.
– Он хочет держать нас поблизости, потому что мы – лучшие его солдаты, но не так близко, как Королевскую конную гвардию, в самом Уайтхолле, на выстрел от его покоев.
– И потому вас поместили на хранение в Тауэр.
– Вам письмо.
Сержант выложил на стол конверт. На нём значилось: ЛОНДОН, ГРУБЕНДОЛЮ.
Письмо было от Лейбница.
– Это ведь вам? Не отпирайтесь, вижу по вашему лицу, – продолжал сержант. – Мы всю голову сломали, кому его отдать.
– Оно адресовано тому в Королевском обществе, кто сейчас занимается иностранной корреспонденцией, – возмущённо проговорил Даниель, – и в данный момент эта обязанность возложена на меня.
– Так это вы? Тот человек, который доставил некие письма Вильгельму Оранскому?
– Не имею никакого резона отвечать на ваш вопрос, – сказал Даниель после того, как слегка оправился от потрясения.
– Тогда ответьте вот на какой: есть ли среди ваших друзей некие Боб Кастет и Дик Шибб?
– Впервые слышу.
– Странно, потому что мы наткнулись на письменные указания тюремщику не впускать к вам никого, кроме Боба Кастета и Дика Шибба, которые могут явиться в любой час дня и ночи.
– Я их не знаю, – повторил Даниель, – и прошу ни при каких обстоятельствах не впускать в мою комнату.
– Вы многого просите, профессор, ибо указания написаны собственноручно милордом Джеффрисом, и под ними стоит его подпись.
– В таком случае вы не хуже меня должны знать, что Боб Кастет и Дик Шибб – просто убийцы.
– Я знаю, что милорд Джеффрис – лорд-канцлер, и ослушаться его – бунт.
– Тогда я прошу вас взбунтоваться.
– После вас, – отвечал сержант.
* * *
Ганновер,
август 1688
Даниель!
Не знаю, где Вы сейчас, поэтому шлю это письмо доброму старому Грубендолю и надеюсь, что оно застанет Вас в добром здравии.
Вскоре я отбываю в длительное путешествие по Италии, где надеюсь собрать доказательства, что смахнут последнюю паутину сомнений с родословного древа Софии. Возможно, Вы полагаете, что глупо отдавать столько сил генеалогии, но наберитесь терпения и в своё время увидите, что для того есть основания. Я проеду через Вену; там, коли Бог даст, попаду на аудиенцию к императору и расскажу ему о замысле Универсальной библиотеки. (Планы по добыче серебра в Гарце провалились – не потому, что мои изобретения были плохи, а потому что рудокопы, из страха остаться без работы, всячески мне противодействовали; следовательно, если библиотека будет основана, то не на прибыль от серебряных рудников, а на средства из казны какого-нибудь могущественного князя.)
Путь предстоит опасный, поэтому хочу до отъезда из Ганновера кое-что записать и отправить Вам. Это свежие идеи – незрелые яблоки, способные вызвать резь в животе. По дороге у меня будет много времени, чтобы облечь их в слова более благочестивые (дабы умиротворить иезуитов), витиеватые (дабы произвести впечатление на схоластов) либо простые (дабы потрафить салонам), но Вы, надеюсь, простите их грубость и прямоту. Если по дороге со мною приключится какое-нибудь несчастье, надеюсь. Вы или другой член Королевского общества сумеете подобрать оброненную мной нить.
Оглядываясь вокруг, мы легко можем увидеть множество Истин, например, что небо – синее, луна – круглая, люди ходят на двух ногах, собаки – на четырёх и так далее. Некоторые из истин просты и геометричны по природе, и не существует мыслимого способа их обойти, например, что прямая – кратчайшее расстояние между двумя точками. До Декарта считалось, что истины такого рода малочисленны и что все они найдены Евклидом и другими мужами древности. Однако после Декарта у нас вошло в привычку рассматривать предметы в пространстве, которое можно описать числами. Теперь мы проводим две перпендикулярные прямые, которые называем декартовыми числовыми осями, и привычка эта столь заразительна, что в редкой аудитории не увидишь, как преподаватель рисует на доске большой +. Так или иначе, когда мы завели обыкновение описывать размеры, положение и скорость всего на свете посредством чисел, кривых, прямых и прочих построений, знакомых учёным мужам со времён Евклида, стало своего рода модным поветрием объяснять всё во Вселенной при помощи геометрии. Я помню, как сам увлёкся этой системой взглядов. Мне было четырнадцать, я гулял по Розенталю под Лейпцигом, якобы вдыхая ароматы цветов, а на самом деле ведя внутренний спор между схоластикой и механистической философией Декарта. Как Вы знаете, я выбрал последнюю. И с тех самых пор не перестаю изучать математику.
Сам Декарт исследовал движение и соударение шаров, как они набирают скорость, скатываясь по наклонной плоскости и проч., и пытался объяснить наблюдения в терминах теории, по природе своей чисто геометрической. Результат его труда – сугубо французский, то есть никак не соотносится с реальностью, зато красив и логически связен. С тех пор Ваши друзья Гюйгенс и Рен приложили немало усилий в том же направлении. Однако едва ли есть надобность говорить Вам, что Ньютон превыше всех расширил область истин, геометрических по своей природе. Воистину, когда бы Евклид и Эратосфен восстали из мёртвых, они бы простёрлись ниц и, будучи язычниками, поклонялись ему, как богу. Ибо их геометрия описывала лишь самые простые абстрактные фигуры, ньютонова же полагает законы, управляющие самими планетами.
Я прочёл экземпляр «Математических начал», который Вы мне столь любезно прислали, и не льщусь отыскать ошибки в доказательствах либо развить этот труд в области, автором не покорённые. Труд сей подобен куполу, который не устоял бы, не будучи целостным, а будучи целостным, стоит, и нет надобности чего-нибудь к нему прибавлять.
Однако самая его полнота наводит на мысль о необходимости дальнейшей работы. Я верю, что величественное здание «Математических начал» включает почти все геометрические истины о мире, какие только можно записать. Однако всякий купол, сколь бы ни был он велик, имеет нечто внутри и нечто вовне; ньютонов заключает в себе все геометрические истины, зато исключает прочие, имеющие основание в целесообразности и конечных причинах. Когда Ньютон встречает такую истину – например, что сила тяготения обратно пропорциональна квадрату расстояния, – он не тщится её понять, но объявляет, что мир таков, ибо таким его сотворил Бог. Для Ньютона все истины подобного рода вне сферы натурфилософии и лежат в области, к которой он почитает за лучшее приближаться с помощью алхимии.
Позвольте мне объяснить, почему Ньютон не прав.
Я пытался извлечь хоть что-нибудь ценное из геометрической теории соударений Декарта и не нашёл в ней ни капли истины.
Декарт утверждает, что два соударяющихся тела имеют до удара и после одно и то же количество движения. Откуда он это взял? Из эмпирических наблюдений? Нет, очевидно, он их не делал, а если и делал, то видел лишь то, что хотел. Он заранее решил, что его теория должна быть геометрической, а геометрия – строгая дисциплина; геометру позволено измерять и вносить в уравнения лишь некоторые определённые величины. Первейшая из них «протяжённость» – витиеватое слово, означающее «то, что можно измерить линейкой». Декарт и большинство других включают сюда и время, ибо его можно измерить с помощью маятника, а маятник – с помощью линейки. Пройденный телом путь (который можно измерить линейкой), делённый на время прохождения (которое можно измерить маятником, который, в свою очередь, можно измерить линейкой), даёт скорость. Скорость входит в декартовы вычисления количества движения: чем больше скорость, тем больше движения.
Пока всё прекрасно, а вот далее он допускает ошибку, рассматривая количество движения как скаляр, лишённое направления число, в то время как на самом деле оно – вектор. Но это ещё наименьший промах. В системе двух ортогональных осей достанет места для векторов, мы просто изображаем их стрелками на том, что я называю декартовой координатной плоскостью, и – хлоп! – получаем геометрические элементы, послушные геометрическим правилам. Мы можем складывать их геометрически, вычислять их модуль по теореме Пифагора и так далее.
Однако такой подход чреват двумя затруднениями. Первое – относительность. Нет неподвижной системы отсчёта для измерения протяженностей. Геометр в лодке, влекомой речным течением, измерив скорость летящей птицы, получит иное число, нежели его собрат, стоящий на берегу; а геометр, оседлавший сказанную птицу, не намеряет никакой скорости!
Второе: декартово количество движения, масса, помноженная на скорость (mv), не сохраняется при падении тел. Тем не менее, проделав или хотя бы вообразив простейший эксперимент, легко показать, что масса, помноженная на квадрат скорости (mv2), сохраняется.
Величина mv2обладает некоторыми интересными свойствами. Например, она определяет работу, которую движущееся тело способно произвести. Работа есть нечто, имеющее абсолютное значение, оно свободно от вышеупомянутой проблемы относительности, с которой неизбежно сталкивается всякая теория, основанная на использовании линейки. В формуле mv2скорость возведена в квадрат и, следовательно, утрачивает направление – она уже не имеет геометрического смысла. В то время как mv можно нанести на декартову плоскость и подвергнуть любым евклидовым ухищрениям, mv2нельзя, ибо при возведении в квадрат скорость v утратила направленность и, если позволите, приобрела метафизичность, вышла из геометрической плоскости в новую область, в область Алгебры. Величина mv2тщательно сохраняется Природой, и самое её сохранение может считаться одним из законов Вселенной; однако он вне Геометрии, следовательно, вне купола, выстроенного Ньютоном. Это иной случай, негеометрическая истина, одна из множества, что открыла либо откроет натурфилософия. Должны ли мы, подобно Ньютону, сказать, что все такие истины созданы Богом по произволу? Должны ли мы искать их в оккультном? Ибо если Господь установил законы произвольно, то они оккультны по природе.
Для меня такой взгляд оскорбителен; он отводит Богу роль капризного деспота, желающего сокрыть от нас истину. В одних вещах, вроде теоремы Пифагора, Бог, создавая мир, возможно, не имел иного выбора. В других, как в случае обратно квадратичного закона гравитации, Он, возможно, имел выбор; но я склонен верить, что в таких случаях Он действовал мудро и в согласии с неким планом, который наш ум – будучи образом и подобием Его – способен постичь.
В отличие от алхимиков, которые всюду зрят ангелов, демонов, чудеса и божественные сущности, я не различаю в мире ничего, кроме тел и разумов. А в телах не различаю ничего, кроме неких наблюдаемых качеств, как то: протяжённость, форма, положение и перемена названных. Всё остальное просто говорится, но не понимается; пустой звук. Ничто в мире нельзя ясно постичь, не сведя к перечисленным понятиям. Если физическое невозможно объяснить механически, то Господь, даже пожелав, бессилен явить и растолковать нам природу.
Сдаётся, я проведу остаток жизни, объясняя эти идеи тем, кто пожелает слушать, и защищаясь от тех, кто не пожелает, и потому всё, исходящее от меня, будет рассматриваться в этом свете. Если Королевское общество вознамерится сжечь моё чучело, объясните им, Даниель, что я желаю расширить ньютонов труд, не ниспровергнуть.
Лейбниц.
P. S. Я знаю эту Элизу (ныне де ля Зёр), которую Вы упомянули в последнем письме. Она чрезвычайно увлечена натурфилософией. Необычная черта в женщине, но нам ли сетовать?
* * *
– Доктор Уотерхауз.
– Сержант Шафто.
– К вам посетители: мистер Дик Шибб и мистер Боб Кастет.
Даниель сел на постели; никогда он не просыпался так быстро.
– Умоляю вас, сержант Шафто… – начал он и осёкся, подумав, что, наверное, сержант Шафто уже принял решение, дело, почитай, сделано, и он только зря унижается. Он встал и зашаркал к лицу сержанта Шафто и свече, висящим в тёмной камере, словно нерезкая двойная звезда: лицо – размытое красноватое пятно, свеча – горящая белая точка. Кровь отхлынула от головы, и Даниель ступал как пьяный, однако не колебался. Он будет блеющим голосом из темноты, покуда не вступит в шар света от дрожащей свечи, и если Боб Шафто думает, впускать ли сюда убийц, пусть прежде посмотрит ему в глаза. Яркость света, как и сила тяготения, подчиняется закону обратных квадратов.
Лицо Шафто наконец сфокусировалось. Казалось, его слегка мутит.
– Я не такой бессердечный скот, чтобы позволить наёмным убийцам зарезать беззащитного профессора. Лишь одному человеку в мире я желаю подобной участи.
– Спасибо, – отвечал Уотерхауз, приближаясь так, что теперь ощущал на лице тепло пламени.
Шафто что-то заметил, повернулся боком к Даниелю и прочистил горло. То было не деликатное «гм» придворного, а честное отхаркивание вставшей в горле флегмы.
– Вы заметили, что я обмочился, да? – сказал Даниель. – Вы вините себя – думаете, будто напугали меня, и я со страху пустил струю. Да, я и впрямь немного струхнул, но моча течёт по моим ногам не из-за этого. У меня камень, сержант. Я не могу мочиться, когда пожелаю, а теку, как плохо проконопаченный бочонок.
Боб Шафто кивнул, явно радуясь, что он тут не виноват.
– И сколько вам осталось?
Вопрос был задан так небрежно, что Даниель не сразу его понял.
– Вы спрашиваете, сколько мне осталось жить?
Сержант кивнул.
– Простите, сержант Шафто, я забыл, что по роду деятельности вы близко сталкиваетесь со смертью и говорите о ней, как шкипер о ветре. Сколько мне осталось? С год, наверное.
– Его можно удалить.
– Спасибо, я наблюдал, как удаляют камень, сержант, и предпочту смерть. Бьюсь об заклад, это хуже, чем то, что вам случалось видеть на поле боя. Нет, я последую примеру своего наставника Джона Уилкинса.
– Люди живут после такой операции, разве нет?
– Мистеру Пепису камень удалили тридцать лет назад, и он до сих пор жив.
– Он ходит? Говорит? Мочится?
– Разумеется, сержант Шафто.
– В таком случае, доктор Уотерхауз, эта операция не хуже того, что я видел на поле боя.
– Знаете, как её делают, сержант? В промежности, между мошонкой и задним проходом…
– Мы можем обмениваться кровавыми байками, покуда свеча не догорит, и всё без толку; а если вы и впрямь намерены умереть от камня, вам не следует терять время.
– Здесь мне ничего другого не остаётся.
– Вот тут вы ошибаетесь, доктор Уотерхауз, ибо у меня интересное предложение. Мы с вами друг другу поможем.
– Вы хотите денег за то, чтобы не пускать сюда подосланных Джеффрисом убийц?
– Если бы хотел, то был бы жалким трусливым гадом, – сказал Боб Шафто. – И если вам угодно так обо мне думать, что ж, возможно, я впущу сюда Дика и Боба.
– Приношу извинения, сержант. Вы вправе обидеться. Мои слова продиктованы лишь тем, что я не знаю, какого рода дело…
– Видели малого, которого секли перед самым закатом? За сухим рвом, вы могли наблюдать сквозь вон ту бойницу.
Даниель отлично помнил экзекуцию. Вышли трое солдат с пиками, связали их концами и установили наподобие треноги. Вывели человека, голого по пояс, со связанными впереди руками, перебросили верёвку через треногу и натянули, так что руки его вздёрнулись над головой. Ноги развели и привязали к двум пикам, так что он не мог двинуться. Наконец вышел детина с плетью и пустил её в ход. Такая практика широко применялась среди военных и многое объясняла, почему состоятельные люди предпочитают селиться подальше от казарм.
– Я особо не вглядывался, – сказал Даниель, – но в целом с процедурой знаком.
– Возможно, вы смотрели бы внимательнее, если бы знали, что наказуемый зовётся мистер Дик Шибб.
Даниель на время утратил дар речи.
– Они пришли к вам вчера ночью, – продолжал Боб Шафто. – Для начала я рассадил их по разным камерам. Поговорил с каждым в отдельности, и оба отвечали мне с гонором. Некоторые люди имеют право так говорить – они заслужили его тем, что сделали в жизни. Мне не показалось, что Дик Шибб и Боб Кастет – люди такого рода. Другим разрешают так говорить, потому что они всех веселят. У меня когда-то был такой брат. Боб и Дик – не из этих. Увы, я не судья, поэтому не могу бросить их в тюрьму, заставить отвечать на вопросы и всё такое. С другой стороны, как сержант я вправе вербовать солдат на королевскую службу. Поскольку Боб и Дик – явные бездельники, я рекрутировал их в Собственный королевский блекторрентский гвардейский полк. В следующий миг я понял, что допустил оплошность, поскольку они не умеют подчиняться дисциплине и нуждаются в строгом наказании. Есть старый, как мир, приёмчик: я велел высечь Дика (который показался мне покрепче) под окнами у Боба Кастета. Дик – кремень, он выстоял, и, возможно, я оставлю его в полку. Однако Боб отнёсся к своей экзекуции – которая должна пройти на рассвете – как вы к удалению мочевого камня. Поэтому час назад он разбудил охранников, те разбудили меня, и я побеседовал с мистером Кастетом.
– Сержант, вы столь предприимчивы, что я едва поспеваю за вами мыслью.
– Он сказал, что Джеффрис лично велел ему и мистеру Шиббу перерезать вам горло, причём медленно, и, покуда вы будете умирать, объяснить, по чьему приказу они действуют.
– Чего я и ждал, – сказал Даниель, – и всё же от этих слов, произнесённых вслух, у меня кружится голова.
– Тогда я подожду, пока вы придёте в чувство. А главное – подожду, пока вы разозлитесь. Не пристало мне подсказывать мужу столь образованному, но в таких случаях положено злиться.
– Удивительное свойство Джеффриса: он поступает с людьми чудовищно, не вызывая злости. Его влияние на ум жертвы подобно действию стеклянного стержня, отклоняющего струйку воды; мы чувствуем, что наказаны по заслугам.
– Вы давно его знаете?
– Да.
– Давайте его убьём.
– Простите?
– Прикончим, порешим. Лишим жизни, чтобы он вам больше не досаждал.
Даниель был потрясён.
– Какая причудливая идея!
– Ничуть. И что-то в вашем голосе говорит мне, что вам она по душе.
– Почему вы сказали «мы»? Вам нет дела до моих забот.
– Вы занимаете высокое положение в Королевском обществе.
– Да.
– Вы знаете многих алхимиков.
– Хотел бы я, чтобы это было не так.
– Вы знакомы с милордом Апнором.
– Да, столько же, сколько с Джеффрисом.
– Апнор владеет моей милой.
– Простите… вы сказали, «владеет»?
– Да. Джеффрис продал ему её во время Кровавых ассизов.
– Таунтон… Ваша милая – из таунтонских школьниц!
– Да.
Даниель был зачарован.
– Так вы предлагаете своего рода пакт.
– Мы с вами избавим мир от Джеффриса и Апнора. Я получу свою Абигайль, а вы проживёте год, или сколько уж там даст Господь, в мире.
– Мне не положено мычать и телиться, сержант…
– Валяйте, профессор! Мои люди всё время так делают.
– …однако позвольте напомнить вам, что Джеффрис – лорд-канцлер королевства.
– Ненадолго, – отвечал Шафто.
– Откуда вы знаете?
– Он практически объявил это своими действиями! Вас бросили в Тауэр за что?
– За сношения с Вильгельмом Оранским.
– Так это измена! Вас должны повесить, выпотрошить, четвертовать! Но вам сохранили жизнь – почему?
– Потому что я – свидетель рождения принца и как таковой могу подтвердить законность следующего короля.
– И если Джеффрис теперь решил вас убить, что это означает?
– Что он предал короля… Боже мой, всю династию! – и готов бежать из страны. Да, теперь я понимаю ваши резоны. Благодарю за терпение.
– Учтите, я не предлагаю вам взяться за оружие или сделать что-то иное супротив вашей природы.
– Некоторые оскорбились бы, сержант, но…
– Хотя главный источник моих несчастий – Апнор, Джеффрис – первопричина, и я, не колеблясь, взмахнул бы саблей, если бы он случайно подставил мне шею.
– Приберегите саблю для Апнора, – отвечал Даниель после некоторого раздумья. На самом деле он давно принял решение, однако сделал вид, будто размышляет, не желая оставить впечатление, что для него это пустяки.
– Так вы со мной.
– Не столько я с вами, сколько мы с большей частью Англии, и Англия – с нами. Вы говорили о том, чтобы своими руками убить Джеффриса. Я скажу, что, будь мы вынуждены полагаться на мощь ваших рук, в коей я нимало не сомневаюсь, нас ждало бы поражение. Но коль скоро, как я полагаю, Англия с нами, нам довольно будет разыскать его и сказать громко: «Это милорд Джеффрис», и смерть его воспоследует закономерно, как шар, положенный на наклонную плоскость, неотвратимо скатится вниз. Вот что я имею в виду, когда говорю о революции.
– Так французы называют мятеж?
– Нет, мятеж – то, что затеял герцог Монмутский: мелкое возмущение, аберрация, обречённая на провал. Революция подобна кружению звёзд вокруг полярной оси. Ею движут неведомые силы, она неумолима, и люди мыслящие способны понять её, предсказать и употребить к своей выгоде.
– Тогда мне лучше отыскать мыслящего человека, – задумчиво пробормотал Шафто, – а не тратить ночь на жалкого неудачника.
– Я просто до сего момента не понимал, как могу употребить революцию к своей выгоде. Я делал всё для Англии, не для себя, и мне не хватало организующего принципа, чтобы придать форму моим планам. Никогда я не отваживался думать, что уничтожу Джеффриса.
– Как вор и солдат удачи всегда рад подсказать вам низкие, преступные мысли, – ответил Боб Шафто.
Даниель ушёл в полумрак к столу и вытащил из бутылки свечу. Потом быстро вернулся и зажёг её от свечи Боба.
Тот заметил:
– Я видел, как знатные люди умирали на поле боя, – реже, чем мне хотелось бы, но всё же достаточно, чтобы знать: это ничуть не похоже на картины.
– Картины?
– Ну, знаете, когда Победа спускается в солнечном луче, тряся голыми грудями, дабы возложить лавровый венок на чело умирающего, а Дева Мария соскальзывает по другому…
– Ах да. Такие картины. Да, я вам верю. – Даниель шёл вдоль круглой стены, держа свечу близко к камню, чтобы надписи, оставленные узниками на протяжении веков, отчётливее выступали в её свете. Он остановился перед незаконченной системой дуг и лучей, процарапанной поверх старой наскальной живописи.
– Не думаю, что закончу чертёж, – объявил он несколько мгновений спустя.
– Сегодня мы не уйдём. У вас скорее всего будет ещё неделя, может, больше. Нет надобности бросать работу.
– Это древние воззрения, ранее имевшие смысл, но теперь они перевернулись вверх тормашками и представляются мешаниной нелепых умствований. Пусть остаются здесь с прочим старьём, – сказал Даниель.







![Книга Даниель Деронда [старая орфография] автора Джордж Элиот](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-daniel-deronda-staraya-orfografiya-74984.jpg)
