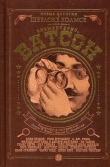Текст книги "Сборщик душ"
Автор книги: Нил Гейман
Соавторы: Рик Янси,Холли Блэк,Мелисса Марр,Тим Пратт,Чарльз Весс,Ник Гарт
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Он вышел на балкон и сел ждать.
Когда позади скрипнула дверь, он смежил веки. Запах теплых пышек. Ее нежный аромат. Как он там сказал Куртуазе: цветы увянут, дождь пройдет, солнце погаснет… Ее прохладные ладони закрыли ему глаза, нежный голос прошептал на ухо:
– С добрым утром, моя любовь.
Он схватил ее за руки и вскочил. Тень, проскользнувшую по его лицу, она заметила сразу. Один из даров любви – умение читать в глубинах сердца любимого.
– В чем дело, Бенефиций? – пролепетала она.
– Все прекрасно! – отвечал он, глядя в лицо Джорджианиного резерва. Он понял, что видит это лицо в последний раз, и сердце вдруг сжалось в приливе горя. Ты разбиваешь пустую вазу, твердо сказал он себе, но цветок, живший в ней, останется! Крепко держа за запястья, он толкнул ее к перилам. Она нервно хихикнула, не зная, что и думать.
– Ерунда, – успокоил он, – не обращай внимания!
И поцеловал еще один последний раз, перед тем как сбросить с балкона.
Через два дня они отбыли на Луну праздновать годовщину брака с теперь уже покойной женой. Для Джорджианы мероприятие, понятное дело, оказалось не из легких. Ей не только пришлось спешно привыкать к новому телу, что само по себе тяжело, но и параллельно притворяться своей бывшей госпожой, оплакивающей безвременное и трагичное самоубийство персиста, которым, по странному совпадению, тоже была она! Бенефиций небезосновательно опасался за ее душевное здоровье. Впрочем, лучшего времени для путешествия не приходилось и желать. Только они вдвоем, ни семьи, ни привычного окружения – идеальная возможность прийти в себя и привыкнуть к новому телу. И к ошеломляющей реальности вечной жизни заодно.
Потолок у них в комнате был стеклянный, и, занимаясь любовью, они смотрели, как в усыпанном звездами небе голубым алмазом плывет Земля. Свободные от навязчивой земной гравитации тела казались странно бесплотными, словно бы кости их стали пустыми и звонкими. Потом она, конечно, плакала, но даже слезы здесь казались легче и катились по идеальным щекам, будто в замедленной съемке.
– Ты меня обманул, – обвиняла она, – ты обещал забрать меня себе, а не запирать в тюрьму!
– Запирать в тюрьму? – Он оторопел. – Да я же освободил тебя, Джорджиана!
– Ты убийца, а я соучастница в твоем преступлении.
– Скорее его мотив, рискну заметить.
Она ударила его по щеке. Пощечина оказалась не тяжелее ее слез.
– Я сделал то, что сделал, – просто сказал он. – У нас не было выбора.
Он поцелуями осушил слезы. На вкус они были совсем не похожи на прежние. Эту мысль он поскорее выкинул прочь. Не ваза, а цветок, напомнил он себе. Он заглянул глубоко в ее светоносные зеленые глаза цвета мокрой травы в садах Омнинома и – вопреки себе – увидал в них незнакомку.
– Если оно тебе не нравится, ты всегда можешь выбрать другое, – примирительно сказал он.
– Другое что?
– Тело, конечно. Я не возражаю. Я не тело люблю, а тебя, Джорджиана. Если хочешь, можешь даже обратно перенестись.
– Обратно? Куда обратно?
– Им понадобится всего лишь биологический образец твоего прошлого тела. Волоска с расчески вполне хватит. Они вырастят тебе такое же новое!
Настроение его росло на глазах, и голос возносился вместе с ним. Конечно! И как он раньше об этом не подумал!
– Замену, которую можно будет провести в определенном возрасте, так что ты всегда будешь Джорджианой.
– Но как мы это объясним? – вскричала она. – Женщина из Семейств, которая переносится в копию своей мертвой служанки?
– Это будет выражение твоей любви к ней, – ответил Бенефиций, хотя и довольно слабо. – Дань ее пожизненному служению тебе. Способ вернуть ее из могилы…
– Они решат, что я сошла с ума… что Куртуаза сошла с ума, если уж на то пошло. Не уверена, что ты сознаешь масштабы своих преступлений, Бенефиций. Ты не только умертвил ее, но и запер меня в ее теле, в ее жизни, и теперь мне целую вечность предстоит жить, притворяясь ею… Боже мой, что ты наделал, Бенефиций! Что я тебе сделала?
Да, решил он, это была ужасная ошибка – переносить Джорджиану в тело, которое уже носила Куртуаза, тем более носила в день свадьбы. Пожалуй, это немного слишком – для них обоих. Его мертвая жена воскресла во плоти и встала между ними, оскверняя совершенство их любви. По возвращении в Новый Нью-Йорк он подкатил к Омниному и деликатно попросил новое разрешение, объяснив, что его любимой дочурке не понравился подарок на годовщину, – во всяком случае, не так, как они оба надеялись. Затем он повез Джорджиану в бутик – выбирать новый облик, такой, чтобы никому из них не напоминал о Куртуазе. Увы, в теории все выглядело проще, чем на практике. Каждый образец чем-то напоминал Джорджиане ее мертвую госпожу: то носом, то формой ушей, то изгибом губ. Это так его рассердило, что в какой-то момент он не выдержал:
– Боже всемогущий, естественно, какое-то сходство всегда будет! Мы же люди, в конце-то концов. Хочешь не хочешь, а в собаку перенестись не удастся!
Они уехали, так ничего и не выбрав.
Этой ночью силы в постели ему изменили. Бенефиций ретировался на балкон, где погрузился в пучину беспробудного отчаяния. Она бросилась за ним, не потрудившись даже накинуть халат на свое совершенное тело. Увидав ее голой, он рявкнул, чтобы она прикрылась. Нагота напомнила ему о Куртуазе, счастливо лишенной всякой скромности.
– Что мне прикажешь надеть? – огрызнулась в ответ она. – Мою старую униформу? Ты этого хочешь? Не вопрос, Бенефиций, я готова. Правда, она мне будет теперь маловата, но я все равно пойду на кухню и напеку тебе свежих пышек – если так тебе будет приятнее.
Вот оно! Точно!
Он отнес несколько ее изначальных волосков в Инкубационную лабораторию. Пока новое тело росло, он пообщался с ее семьей и друзьями… то есть, с Куртуазиной семьей и друзьями, конечно, и объяснил, что она не хочет брать нового персиста, потому что все никак не оправится от утраты старого. Понимаете, она любила Джорджиану как сестру. Если совсем честно, даже немного больше, чем своих настоящих сестер, в том числе сводных. Психологический профиль показал, что процесс горевания можно облегчить, если Куртуаза на несколько лет перенесется в копию бедняжки. К его невероятному удивлению, все поголовно решили, что это превосходная идея, ужасно трогательная и при этом целительная. Новости каким-то образом просочились за пределы узкого круга и замелькали в ментбоксах и даже на телеверсе. Вскоре история стала сенсацией государственного масштаба. Никогда еще миры Семейств и финитиссиум не сливались в подобном экстазе. Бенефиций сумел уберечь Джорджиану от глаз публики, объявив, что она слишком горюет, чтобы давать интервью.
Пришло время. Увидав свое новое – то есть свое старое – тело, безжизненно лежащее на столе в комнате Переноса, Джорджиана разрыдалась. Это было не возвращение, нет – чистый водоем, сладостный плод на ветке, вот что это было. И когда она пробудилась и взглянула на него теми же глазами, что так жадно впивали каждую черточку любимого облика в хижине на окраине сада, – он был совсем другим, словно тоже перенесся в новое тело. Незнакомое лицо глядело на нее, торжествующе улыбаясь. Ночью, когда он попробовал заняться с нею любовью, она заплакала. Для нее это была не любовь.
Это было насилие.
Бенефиций заверил ее, что все пройдет. У них впереди целая вечность, чтобы снова привыкнуть друг к другу. Впрочем, у него самого оптимизма тоже поубавилось. На самом деле он глубоко и искренне страдал. Где, где же та милая робкая девушка, в которую он влюбился двадцать лет назад? Ее больше нет, как бы он ни старался убедить себя, что это не так, – всеми силами своей древней души. Бенефиций как-то даже отчаялся и однажды в постели активировал в ментбоксе старую программку, которую дал ему Кандид давным-давно. В зрительной коре тут же услужливо возник голографический образ ее прежнего лица – до последней черточки совпадающего с нынешним – перекрыв настоящее прошлым, и прошлое дергалось и плыло, и отказывалось лежать спокойно и не двигаться. А после ему приснился сон, что он стоит по грудь в озере чистой прозрачной воды и умирает от жажды, но не может сделать ни глотка.
Ее тело состарилось. Она перенеслась в новое (то есть, старое), но проблема, за недостатком лучшего слова, держалась с завидным постоянством. Она согласилась, ради них обоих, носить свою старую униформу – когда они одни у себя в покоях, конечно. Она даже пекла ему пышки и приносила их на балкон на рассвете. В одно такое утро она сидела напротив, созерцая, как дымы от костров лениво вьются в бренной синеве, – Бенефиций поглядел на ее профиль в свете зари и передернулся от отвращения. Он положил на тарелку недоеденную пышку – на вкус она была как картон.
Прошло несколько тысяч «долго и счастливо». Как-то раз он вернулся с работы домой – ее не было. Ни записки, ни сообщения в ментбоксе. Он послал сообщение ей: вечером забронирован столик на Крыше, куда она подевалась? Ответа не пришло. Он раскидал еще несколько сообщений по ящикам родственников: «Вы сегодня не видели Куртуазу? У нас заказ на половину восьмого на Крыше!» Никто ее не видал, целый день. На мгновение он похолодел от ужаса: все выплыло! Ее уже допрашивают Капитаны! В любой момент в дверь постучат. Арест. Обвинение. Приговор. Забвение. Он перерыл всю квартиру в поисках хоть какого-то намека. Он даже вывернул на ковер мусорную корзину… Именно там она и была – ее психея, изломанная на мелкие кусочки. Пока он в немом ужасе таращился на обломки голубого пластика, в ментбоксе – словно нарочно ждало этой самой минуты – звякнуло сообщение.
«Моя любовь, к тому времени, когда ты это получишь…»
Он выключил голос, швырнул бесполезные останки ее воспоминаний на пол и опрометью кинулся из комнаты, к лифту, на посадочную платформу, в корабль на воздушной подушке, над стремительно темнеющим пейзажем, над жалкими земными заботами… Одна-единственная мысль билась у него в мозгу: «Подожди, только подожди, не шевелись!»
Он не знал, где она, но знал, куда надо ему.
Он выпрыгнул из корабля прямо в мокрую траву Омниномова сада и двинулся меж кивающими головками тысяч цветов к старой хижине, где уже собралась толпа, включая журналистов и Капитанов. Мать Куртуазы и Верифика, ее любимая сестра, тоже были там. Увидав Бенефиция, они растолкали людей, освобождая ему дорогу к двери, опасно болтавшейся на одной петле. Он вошел, уже зная, что увидит внутри.
Нет ни смысла, ни красоты, ни любви…
Он упал на колени рядом с телом и, позабыв обо всем, закричал:
– Джорджиана! Джорджиана, не покидай меня!
Кругом воцарилась тишина. Свидетели само-убийства, которых она сама собрала, чтобы подтвердить статус сивиллы, чтобы ее мастер-файл был навек уничтожен, – все разом смолкли.
– Он назвал ее Джорджианой! – прошептал голос.
– Он помешался от горя, бедняга, – ответил ему другой.
– Совсем как она, – прошептал третий. – Вы слыхали? Куртуаза оставила записку: она больше не могла жить без своей дорогой Джорджианы.
– Я же спас тебя, – стонал Бенефиций, – я подарил тебе вечную жизнь! Не уходи, Джорджиана, не уходи!
Но было уже поздно. Она ушла. На самом деле – уже много лет назад. В тот самый миг, когда Бенефиций украл ее смертную жизнь, истинная любовь покинула его.
Куртуаза как-то сказала ему, что у времени больше нет ни смысла, ни власти. Он молился, чтобы она ошиблась. Чтобы с течением времени боль утихла. Чтобы воспоминания о Джорджиане подернулись благородной паутиной, сладкие, горькие, превратились в бесконечно малую точку на прямой его бесконечной жизни – жизни, простирающейся от восхода до заката Вселенной, теряющейся за горизонтом эпох, слишком далеко, чтобы разглядеть. Прошло несколько тысяч лет. Он снова женился – несколько раз, породил сотню или больше детей, стал членом Комитета по надзору за поведением, где воссел одесную отца Куртуазы. Смерть Джорджианы привязала его к Семье, как не сумел бы никакой ребенок.
Потом минул миллион лет. И еще. И еще. Затем миллиард и еще один сверх того. Солнце распухло в небесах и налилось яростно-алым. Стало жарко. Океаны начали испаряться. Зонды тем временем нашли другую планету в дальней галактике, почти такую же, как Земля, но гораздо моложе, – новый дом, который благополучно протянет еще шесть-семь миллиардов лет. Перевалочный пункт на одной из Сатурновых лун уже был готов – последний приют перед прыжком в беспредельный космос.
Усевшись в свое кресло на пароме, следующем на Титан, рядом с новой женой – они всего шестьсот лет как поженились – Бенефиций бросил в окно последний взгляд на Землю. Адский пейзаж – безжизненный, тонущий в багровом сиянии: ни листка, ни цветка, ни упрямой травинки (трава умерла последней). Он сжал идеальную руку жены, закрыл идеальные глаза и пролистал ментбокс, пока не нашел сообщение, которое хранил, кажется, с самой зари времен. Времен, когда мир был зелен и юн, и цветы распускались в озаренных летом садах, и вечная жизнь еще не запятнала лик его смертной возлюбленной.
«Моя любовь, к тому времени, когда ты это получишь…»
За эти тысячелетия он уже и не помнил, сколько раз собирался его удалить. Бенефиций не так боялся слов – он примерно их представлял, – как звука ее голоса. Он не знал, сумеет ли вынести его еще раз. Сообщение, однако, хранил – потому что больше ничего от нее не осталось. Семь миллиардов миллиардов миллиардов ее атомов давно рассеялись по просторам умирающей планеты.
Было как-то… уместно услышать этот голос сейчас, когда от прошлого вот-вот ничего не останется. Бенефиций включил звук. Кресло под ним содрогнулось, и он стал возноситься над останками Земли. Голос заполнил тьму у него в голове, бессветную бездну меж его совершенных ушей.
Моя любовь, к тому времени, когда ты это получишь, меня уже не будет. Я заберу себе обратно то сокровище, которое давно отняли у меня. Не горюй по мне, любимый. И не мучай себя стыдом и виной. Смерть – бремя, которое меня освободит. От скуки, сожалений и зависти; больше всего от зависти. Я полна ею до краев. Я завидую всему живому. Я завидую деревьям, траве, всему, что растет, или бегает, или ползает по лику Земли. Ты хотел сделать меня совершенной, подарив вечную жизнь, но, друг мой, неужели ты так и не понял, что это твоя любовь подарила мне бессмертие? Что это она превратила меня в совершенство? И только то, что я в один прекрасный день умру, делало меня такой драгоценной для тебя? Теперь я умерла, и твоя любовь вернется к тебе. Она сохранит тебя до конца времен, когда кончится бесконечность и умрет последняя звезда.
И Бенефиций уронил в бездну свой ответ. В бездну, где ему предстоит лежать неуслышанным еще одну вечность:
«Скажи мне, что все небессмысленно. Скажи, что все хорошо…»
Примечание автора
Блестящий и эксцентричный (читай «чокнутый») ученый, у которого непременно есть физически-альтернативный ассистент, мечтает поиграть в бога. Последствия, как водится, ужасны. «Франкенштейн»? Нет, «Родимое пятно» Натаниэля Готорна, опубликованное через двадцать лет после готического шедевра Мэри Шелли.
«Родимое пятно» – не самый известный его рассказ и, пожалуй, даже не из лучших. Но мне он всегда нравился, несмотря на вопиюще старомодный мелодраматический сюжет и наивный (по меркам нашего XXI века) страх перед прогрессом (читай «перед наукой»). Но как произведение в жанре художественной фантастики, как иллюстрация характерной для XIX века очарованности научными достижениями и ужаса перед ними, как трагическая любовная линия – он очарователен. Главный персонаж, хрестоматийный сумасшедший ученый, ослеплен, в отличие от многих других трагических фигур европейской литературы, не амбициями или гордыней, а любовью. И дамокловым мечом для него оказывается не наука и не прогресс.
В наши дни мы совсем по-другому смотрим на ученых, но страх перед вырвавшимися на свободу технологиями никуда не делся. Возможно, сейчас он стал даже более вездесущим, чем во времена Готорна. Вот я и решил, что было бы забавно взять основополагающую тему «Родимого пятна», замешать ее на этом страхе и поместить в вероятное будущее – такое, где страх сможет реализоваться полностью. Потому что каждый из нас подозревает (да чего там, в глубине души каждый из нас совершенно уверен!), что это не ученые спятили, а сама наука.
Сирокко
Маргарет Штоль
I. L’Incidente (Инцидент)
«Если бы они только нашли тело, – думал Тео, – всей этой пакости можно было бы избежать».
При всей своей непривлекательности труп представляет собой неоспоримый факт. А факты, особенно на съемочной площадке сугубо малобюджетного фильма ужасов вроде «Замка Отранто», встретишь нечасто – во всяком случае не чаще нагой истины. И найти их бывает труднее, чем собственный трейлер. Любопытно, что темой дня стало и то, и другое – особенно после того, как все завертелось.
Теперь, оглядываясь назад, Тео мог со всей ответственностью заявить, что утро инцидента начиналось совершенно обычно. Ничто, так сказать, не предвещало. По крайней мере, так он сказал polizia[5]5
Полиция (ит.).
[Закрыть], когда его допрашивали в числе прочих участников съемочной бригады. Тео ничего не видел и даже поблизости не был, когда случилась трагедия. Между прочим, предыдущим вечером его вообще с позором отправили домой за то, что он не сумел вынуть и положить двадцать четыре литра бутафорской крови для сцены с отрубленной рукой, из-за чего всей команде пришлось рано свернуть съемку.
Вот позор-то!
Но это было прошлым вечером. А этим утром Тео невинно трудился над due cappuccino[6]6
Двумя капуччино (ит.).
[Закрыть], заказанными одновременно и щедро присыпанными какао, и над крошащимся корнетто, начинка в котором могла встретиться только случайно. Заказ был подан наружу, на террасу с маленькими столиками перед «Джардиньери» (единственным в округе кафе с интернет-доступом), и там же съеден, в обжигающей утренней тишине. Кроме Тео на террасе сидела только одна старуха с руками старше нее самой и слоновьими лодыжками, толстенными, сухими, растрескавшимися, мощно попирающими пол под бесформенной черной юбкой. Она еще, помнится, кивнула Тео, но глазами встречаться не стала.
Долбаный сирокко. Вот что Тео тогда сказал, хотя, насколько он помнил, обращаться, кроме Женщины-Слона, было решительно не к кому. Он вообще ни разу ни с кем не завтракал (даже с отцом), с тех пор как приехал на натуру в этот маленький городишко на юго-востоке Италии. Из Северной Африки дул сирокко – горячий зубодробительный ветер, полный песка; он оборачивался вокруг Тео, как кулак, и уносил слова, стоило им слететь с губ. В пятидесяти ярдах плескалась Адриатика, но ни малейшей пользы от нее не было. Даже мелкие медузы, которые обычно лодырничали в сияющей синей воде, попрятались под скалы. Интерес ветра к Теодору Грею был унылый и неослабный, под стать многим другим вещам в его жизни.
Что еще?
Тео вспоминал все флэшбэками, ретроспективой. Его отец, Джером Грей, il regista Americano[7]7
Американский режиссер (ит.).
[Закрыть], обожал так показывать сны главного героя.
Титр: место действия.
Мальчишка вбегает через арку Порта Терра, спотыкаясь на брусчатке проулка, ведущего в Старый город Отранто.
Титр: звуковой ряд.
Кричит на двух языках: итальянском – для посетителей лавчонок и английском – для americano.
Титр: крупный план.
Неистовая жестикуляция, руки плещут в воздухе, будто крылья. Тео наконец понимает то, что до него так неразборчиво пытаются донести: случилось что-то по-настоящему, непоправимо, неподдельно ужасное. Что-то наконец-то случилось!
Официантка предприняла героическую попытку объяснить ему самостоятельно: «Gli americani ottusi! Gli idioti di Hollywood! Hanno gettato una casa in mare!»[8]8
«Эти тупые американцы! Голливудские идиоты! Бросили в море дом!» (ит.).
[Закрыть]
«Тупых американцев» Тео понял – он достаточно часто это слышал – и что-то там про Голливуд, наверняка не менее и заслуженно тупой.
Но последняя часть, про брошенный в море дом… или про какое-то мороженое в доме у моря[9]9
Игра слов: «gettato» (бросили) и «gelato» (мороженое).
[Закрыть]? Итальянским он владел на уровне Розеттского камня[10]10
Розеттская стела, содержавшая параллельный текст на греческом и египетском языках, позволила ученым расшифровать иероглифическую письменность.
[Закрыть], и камень этот явно пытался ему изменить.
Женщина-Слон покачала головой и ткнула наконец пальцем вверх, на холм, в сторону Старого города. Когда она заговорила, ее старые зубы – закованные в золото, под которым виднелась черная гниль, – сверкнули каким-то древним опасным огнем.
– Иди, мальчик. Кастелло Арагонезе. Там беда. Беда для americano.
Картинно, словно на съемочной площадке, ветер опрокинул столик и погнал его, крутя, по булыжной мостовой в проулок. Над головой нарезала круги и кричала большая черная птица. Все и вправду сильно напоминало сцену из фильма – и даже из того самого, который они приехали снимать в замок Отранто.
Черное перо приплыло с неба, и Женщина-Слон перекрестилась.
– Il falco, un cattivo presagio.
– Иль фалько? Сокол? – Тео даже чашку поставил.
– Cattivo presagio, – повторила она. – Вы, Inglese[11]11
По-английски (ит.).
[Закрыть], говорите: дурной, дурной знак.
Она что-то еще продолжала вещать, но Тео уже не слышал: вверху принялись бить колокола cattedrale[12]12
Собор (ит.).
[Закрыть].
Титр: девять часов ровно.
Колокола смолкают, и только эхо женского крика как будто продолжает висеть в воздухе.
Титр: женщина.
Тео вздрагивает.
Это вам не какая-нибудь там женщина.
Женщина, которая так впечатляюще завопила, что сумела выжать из одного-единственного крика карьеру длиной в сорок лет. Пиппа Лордс-Стюарт, звезда экрана и сцены. Затмить ее способен только Собственный Ее Величества сэр Манфред Лордс, бывший супруг Пиппы, а ныне ее коллега по проекту. На одном экране они оказались впервые за десять лет, с тех пор как их бесславный брак еще более бесславно завершился. Значит, вокруг будет шнырять больше папарацци, чем Тео в жизни видел у отца на площадке, – а следовательно, будет больше рекламы, больше бюджет… Или вообще бюджет, хоть какой-то в принципе. Честно говоря, Пиппа, сэр Мэнни и их изящно прогнившие отношения (количество бокалов, которое каждый из них мог опрокинуть за ужином, измерялось двузначными цифрами) – вот единственное, благодаря чему Джером Грей сумел выбить для фильма хоть какое-то невнятное болгарское финансирование… когда немецкое отвалилось с концами.
Вряд ли кто-то был способен ненавидеть друг друга так богато и сочно, как эти двое.
Но, так или иначе, прекрасная половина пары действительно умела совершенно уникально орать, что есть, то есть, – и над городом звучал именно Пиппин крик, в этом Тео не сомневался. После вчерашней сцены, которую снимали на крыше Кастелло Арагонезе (где Пиппа в роли хозяйки замка обнаруживает безжизненное тело своего сына, убитого невесть откуда свалившимся рыцарским доспехом), – а конкретнее, после семнадцати дублей подряд – даже такой скромный помощник продюсера, как Тео, узнает это вибрато где угодно. На один-единственный крупный план отрубленной руки, все еще заключенной в окровавленные латы, ушел целый час.
– Долбаный замок с привидениями! Еще крови сюда! – ревел отец между дублями.
Титр: двадцать четыре литра.
Когда речь идет о Джероме Грее и крови, этой последней никогда не бывает достаточно.
Но вот в чем проблема: сейчас вроде бы никто не снимал, а Пиппа тем не менее вопила.
Этот простой логический ход сдернул Тео со стула и погнал через Порта Терра, как мальчишку-газетчика, как ветер – пластмассовый столик. Тео петлял по улочкам Старого города, мимо лавочек, мимо целых витрин с покоробленными кожаными сандалиями, пучками сушеных трав, бутылками пулийского вина, керамическими мисками, расписанных оливами и парусниками; мимо глиняных тарантулов, возвещавших, что тарантеллу до сих пор пляшут в Саленто; мимо самого cattedrale с его гробницами, криптами, фресками и мозаичным полом, наводившим на подозрения, что выкладывал его какой-то в сопли пьяный монах, – пока вдали не замаячил Кастелло.
Кастелло Арагонезе, больше известный команде как Замок Отранто, и в качестве такового – натура для съемок одноименного папиного фильма, стал причиной самого жаркого из всех семнадцати летних сезонов в жизни Тео. Отец решил, что павильон в Бербанке категорически не годится, а Пиппа вытребовала эту локацию, как только прослышала, что Хелен Миррен будто бы приобрела в Пулии некую masseria. Бедняжка думала, что это ужасно гламурно, – пока до нее не дошло, что слово означает всего лишь крестьянский дом со всеми его комарами, камнями вместо земли и прочими радостями захолустной сельской жизни.
Да и сам замок – горячий, пыльный, приземистый, каменный, цвета сморщенной от времени картошки и примерно настолько же гламурный, он был не столько готическим, сколько просто средневековым… и не столько заповедным, сколько заброшенным. Согласно местным представлениям об охране исторических ценностей, от замка имелся один-единственный ключ, и владеть им дозволялось одному-единственному мрачному итальянскому парню (в одной-единственной неизменной и изрядно вылинявшей черной рокерской футболке с золотой надписью «Пинк Флойд»). Парня, конечно, звали Данте. Он являлся почти каждое (но не каждое) утро, предварительно пропустив не менее двух-трех эспрессо, сматывал цепь с парадных ворот и разводил скрипящие древние железные створки. Отбывая на ленч и sieste[13]13
Послеобеденный отдых (ит.).
[Закрыть] (а sieste могла преспокойно длиться до самого ужина), он снова запирал замок. Джером Грей давно уже рассудил, что если кто-то тут хочет работать, у них нет иного выбора, кроме как спокойно дать запереть себя внутри. Честь подвоза продовольствия осажденным досталась, разумеется, Тео. Во второй половине дня он покорно просовывал через решетку панини из бара на противоположной стороне пьяццы. Вот такую гламурную жизнь вели обитатели замка.
Разумеется, пришлось заняться «косметическим ремонтом». Команда часами приклеивала резную пенопластовую готику к пыльным стенам и украшала без того заросшие плющом и паутиной уголки искусственным плющом и искусственной паутиной. До сих пор раскиданные повсюду настоящие пушечные ядра красили из пульверизатора в глянцевый черный цвет, потому что их естественный каменный выглядел недостаточно живописно, – и все только затем, чтобы после «стоп, снято» начать оттирать до изначального цвета. Камень цвета камня. Пыль цвета пыли. Плесень цвета плесени – ничего такого в кино не увидишь. Но это был Кастелло. Тео честно пытался представить, как кому-то взбрело в голову написать новеллу об этом месте, – и не мог.
Трейлеры стояли рядком в бывшем замковом рву, ныне приютившем одичавшую популяцию фруктовых деревьев и травы по пояс ростом. Ветер гулял вдоль них, и трава трещала, как маракас, а передвижные дома тряслись на своих высоких колесах. Еще больше трейлеров сгрудилось позади замка, вдоль окаймлявшей обрыв стенки, где городские укрепления сдавали позиции морю и скалам. Там среди прочих стояли костюмный и реквизитный фургоны, а еще – штаб-квартира отца, где он по вечерам отсматривал снятый за день материал и орал что-то в микрофон головной гарнитуры (ну, или в свою бутылку для воды, в которой воды отродясь не водилось, а водились зато всякие другие интересные жидкости). Был еще трейлер Пиппы, который она делила с Мрачной Матильдой, своей исключительно угрюмой ассистенткой, которая из всей команды улыбалась только Тео – и нельзя сказать, что Тео находил этот факт хоть сколько-нибудь приятным. Дальше шел трейлер сэра Мэнни и рядом обиталище его не менее угрюмого экранного сына, Конрада Джеймса – того самого Конрада Джеймса, крошки-вервольфа из телевизора, известного, главным образом, щедро намасленным торсом. (И не только намасленным, но и выбритым, как и положено двадцатишестилетнему обалдую, играющему подростка-оборотня на каникулах между полнолуниями.)
Вот только…
Тео завис между прыжками, судорожно глотая воздух…
Только трейлера Конни больше не было – по крайней мере там, где ему быть полагалось.
То есть там вообще ничего не было – только дырка в ряду машин и клочок сине-зеленого моря. Ну, и толпа таких же одноразовых, как и сам Тео, ассистентов продюсера – сплошь татуировки, хипстерские челочки, шорты из обрезанных джинсов и сигаретки – разбились на стайки и щебечут.
Ветер дует, отсюда ничего не слыхать…
Сэр Манфред с лысиной, ровно наполовину заклеенной волосами, кричит что-то в рацию, курит. «…это мог бы быть я».
Джером Грей, папаша Тео, обеими руками разговаривает с polizia, курит. «…страховка от ветра? Да кому в здравом уме понадобится страховка от ветра…».
Мрачная Матильда, строчит эсэмэски и курит. «…фофмфгф».
Пиппа умудряется одновременно кричать и курить. «Конни… Конни…».
Этот крик…
Конрад Джеймс…
Да где же этот чертов Конни?
Когда Тео добрался до парапета, в ста футах внизу виднелись только останки белого трейлера, в лепешку разбитого о скалы. Прибой играл с листом белой жести. Белая дверь с красной звездой.
Конрадова дверь.
Тео пригляделся: обломки пачкали воду и скалы красным, совсем как в сцене с отрубленной рукой в Кастелло накануне вечером.
Судя по виду, меньше литра.
Долбаное кино.
Тела, однако, не наблюдалось. Ни тела, ни Конни. Только красная вода, камни и какие-то странные черные перья в белой пене.
И это была только первая их проблема.
С нее все только началось.
II. La Maladizione (Проклятие)
Не прошло и часа, как информация уже просочилась наружу, а звонки из Штатов хлынули внутрь.
Съемки прервали. Съемочная группа забилась в тесную жаркую тьму бара «Иль Кастелло» через улицу: зайти к себе в трейлер сейчас не отважился бы никто.
К обеду размытые фото обломков в прибое уже появились в Сети («TopPop Italia»).
К сиесте полиция уже роилась в Кастелло. Обычно запертые ворота стояли, открытые настежь, с полосатыми красно-белыми пластиковыми конусами по бокам. Никого не впускали и не выпускали. Толпы любознательных итальянских туристов скапливались на пьяцце, глядели, задрав головы, на картофельную громаду замка, гадали, из-за чего весь шум. За ними еще одна толпа – на сей раз папарацци – ощетинилась длинными объективами: не то зубы, не то антенны, но одинаково хищно.
Еще через час Guardia Costiera[14]14
Береговая охрана (ит.).
[Закрыть] принялась прочесывать бухту. На памяти Отранто это был самый крутой спектакль с тех самых пор, когда в город провели водопровод.
Впрочем, куда масштабнее.
В баре «Кастелло» съемочная группа устроила альтернативное шоу, хотя насладиться им было практически некому: из чужих присутствовали только Тео да бармен.
– Я думаю позвонить британскому послу. Там мои личные вещи. Это вопрос безопасности!
Сэр Мэнни волновался: его телефон заперли в Кастелло, в кожаной кобуре, которую он имел обыкновение панибратски вешать на спинку режиссерского кресла.
– Безопасности? Заходи кто хочешь, бери что хочешь! – Пиппа выкатила глаза и так вцепилась в свою кока-колу лайт, что Тео задумался, уж не собирается ли она запустить в бывшего мужа бутылкой.
– Охота тебе беспокоиться о ерунде, когда твоя истерика уже в Сети, милая? – сэр Мэнни изящно сузил глаза.