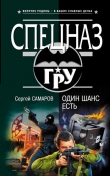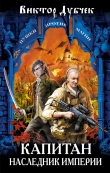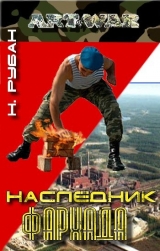
Текст книги "Наследник Фархада"
Автор книги: Николай Рубан
Жанры:
Юмористическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
А тут и сочинять ничего не надо: Родину защищаешь, может ли быть дело более святое?
Потому и встречались, и будут встречаться ветераны – думаете, им негде больше водки выпить и некому на болячки пожаловаться? Понятно, живых друзей повидать, ушедших помянуть – это святое. Да, то святое, что у каждого человека должно быть, а без этого он и не человек. И все же – каждый – хоть, может быть, он и не осознает это – хочет вновь испытать то давнее чувство значимости, силы, правоты своей. Человеком себя почувствовать.
***
Как оно чаще всего и бывает, наиболее значительные события случаются тогда, когда их меньше всего ожидаешь. Так было и в этот раз. В одну из суббот начальник музея полковник запаса Киваев отпустил всех штатных сотрудников пораньше. Заявок на экскурсии не поступало – чего людей зря мариновать. Сам же начальник музея остался, чтобы спокойно поработать над статьей для «Военно-исторического журнала».
Рустам же, пользуясь случаем, попросил у Киваева разрешения почистить крупнокалиберный пулемет ДШК, стоявший в зале «ВДВ в предвоенные годы». Ему уже давно не терпелось изучить устройство этой серьезной машины, а в курсе огневой подготовки она не значилась, ибо давным-давно была снята с вооружения ВДВ. Для чего ему это понадобилось, спросите? А почему вообще мужчины так оружие любят? Да самый-рассамый пацифист, и то – ну не может не получить удовольствие от надежной тяжести пистолета, удобно впечатавшегося в ладонь рубчатой рукояткой. И пусть не врет, что это не так – природу не обманешь, и никуда генная память мужчины-воина, мужчины-охотника не денешь. А что же тогда говорить о нормальном курсанте, для которого стремление овладеть любым оружием – естественно, как дыхание?
Киваев, как любой нормальный начальник и командир, на пути трудового энтузиазма никогда не становился, дал добро и даже снабдил Рустама ветхозаветной инструкцией по эксплуатации этого легендарного монстра. Сбегав в казарму за ветошью и ружейной смазкой, Рустам со вкусом приступил к работе. Произвел неполную разборку, любовно почистил и смазал все детали этого солидного зверя, собрал… И даже немного огорчился, что управился так быстро – времени ушло всего ничего. А в казарму возвращаться не хотелось. И на спортгородок не тянуло – завтра воскресный марш-бросок бежать, успею вспотеть. От нечего делать Рустам принялся азартно тренироваться в перезаряжании пулемета, благо коробка с патронной лентой находилась тут же. Клац-клац, щелк-щелк – к бою готов! Рустам лихо развернул пулемет на треноге и прицелился в модель бомбардировщика ТБ-3, висевшую под потолком.
– Ды-ды-ды-ды!! У-а-а-уу!!! – воспроизвел он фонограмму зенитного огня и падения подбитого бомбера.
И в этот драматический момент задребезжал звонок у входной двери. Кого там еще нелегкая принесла? Ну не могут, чтоб человеку кайф не обломать… Чертыхнувшись, Рустам направился к двери и предстал на пороге музея, как был – с закатанными рукавами, оттирая руки ветошью от ружейной смазки и с сильно недовольным выражением «морды лица». И недовольное это выражение пришлось срочно менять на сдержанно-приветливое, ибо перед входом топталась группа солидных мужиков и теток десятка в полтора. К тому же были они явные иностранцы: пара негров – таких тощих и умученных, словно они только что сбежали с Алабамской плантации; пяток индусов – хоть и в тюрбанах, но явно не йоги и не факиры, судя по круглым щекам; и даже (ого!) самые настоящие китайцы – в синих френчах-«сталинках», со значками с портретами Председателя Мао, исполненные скромного достоинства.
Перед группой суетливо хлопотала нервным личиком очкастенькая барышня в узких джинсиках. Завидев Рустама, она обрадовалась ему, как сто лет не виденному родному братцу:
– Ой, здравствуйте! А наши уже у вас?
– Здравствуйте. А ваши – это кто?
– Из министерства культуры, референт с переводчиками – не подходили?
– Да нет, сегодня никого не было. А что, должны были?
– Ой, ну я не знаю прямо! – в отчаянии всплеснула барышня хрупкими ручками, – Еще вчера должны были!..
– Подождите, пожалуйста, я сейчас доложу о вас начальнику музея, он решит вопрос. – Рустам принял единственное верное решение: спихнуть проблему на начальство.
– Добрый день, товарищи, слушаю вас, – возник за спиной Рустама сам Киваев.
Передав позицию подошедшему подкреплению, Рустам ретировался к пулемету – приводить экспозицию в порядок. Закончив, он вернулся в вестибюль, где стал невольным свидетелем зарождавшейся драмы.
– Ну, товарищи дорогие, нельзя же так! – разводил руками Киваев, похожий на Дон Кихота в штатском. К барышне он, как принято в подобных случаях, обращался во множественном числе. – Такие вещи ведь заранее согласовываются, как вы не понимаете?
– Ой, да я все понимаю! – канючила барышня, – Но этим вообще не я должна заниматься, понимаете? Я только группу сопровождаю…
– Так где ж эти ваши референты с переводчиками?
– Ой, ну не зна-а-ю я!! – глазки барышни за модной тонкой оправой очков набухли слезами, – Такое вот… Только-только начали связи культурные восстанавливать… Ну вы понимаете, в каком я положении оказалась?!
Ну что тут было делать? Вот не мог Рустам видеть, как девчонки ревут – не мог, и все. Это у него еще с детства в душе засело, после того, как обидел как-то младшую сестренку. Ну, вредничала она, капризничала – какие девчонки без этого? А он взял, да отвесил ей подзатыльник как-то в сердцах – за то, что залезла к нему на стол и тетрадь чернилами залила. И ведь главное, сама перепугалась того, что наделала – сидела и беспомощно глазами хлопала, глядя на черное дело своих ручонок шаловливых. Получив от психанувшего братца оплеуху, Раношка не разревелась так, как она умела и любила это делать – взахлеб, от души – а заплакала тихонько, как мышка. Но так горько! Так безутешно и обиженно, что Рустам аж замычал от стыда и резанувшей по сердцу жалости к этой крохе. Подхватив Раношку на руки, он долго таскал ее по комнате, прижимая к себе и шепча в ушко ласковые слова, пока, наконец, она не засопела сонно, обхватив его за шею и слюнявя брату плечо. И с того раза не то, что пальцем не тронул – даже и не ругал никогда сестренку (чем та, надо сказать, беззастенчиво пользовалась). Кого любишь, тому многое прощаешь, это давно известно.
– Товарищ полковник! – оттолкнулся он от стены, – А давайте, я их проведу!
– Да как ты их проведешь-то? – обернулся к нему Киваев, – Они ж по-русски не бум-бум…
– Ну. Попробую. Английский со школы еще не совсем забыл. С китайским – нет вопросов. Кто там у вас еще в группе, девушка?
– Турки еще…
– Ну и нормально – узбекский должны понять. Разрешите, товарищ полковник?
– Гм. Думаешь, справишься?
– Постараюсь, товарищ полковник. Не такие дела заваливали! – легко улыбнулся Рустам, доставая указку из «пирамиды», – Вы мне только фонограмму включите, ладно? А то некому…
Обычно фонограмму с записью боя включал свободный экскурсовод, когда очередная группа подходила к диораме. Но сейчас сделать это и в самом деле было некому.
– Добро, Садыков, – принял решение Киваев, – заводи группу.
Рустам энергично утер нос кулаком и решительно ухватил быка за рога.
– Заходите, пожалуйста, товарищи! – простер он руку в гостеприимном жесте, – Кам ин, комрадз, пли-из!
Гости с почтительным интересом оглядывали сводчатый зал, восторженно разинули рты при виде огромной модели транспортника Ли-2, висевшей под потолком.
– Так, товарищи! – с ходу взял их в оборот Рустам, – Кто понимает по-русски – поднимите руки, пожалуйста!
Тщедушные негры с готовностью вскинули розовые ладошки.
– Очень хорошо! – кивнул им Рустам и продолжил с веселым напором: – Ху из андестэнд инглиш – хэндз ап, пли-из!
Еще пять-семь ладоней воздвиглись над группой.
– Вэри вэлл! Шуэй хуй джунг вэн – цин, шоу шан! – и радостно обалдевшие китайцы по-школьному вскинули правые руки, подперев их горизонтально левыми.
– Хао дилэ! Орангизда узбек тилида гапирадиганлар мархамат булса, кулингизни кутаришингизни сурайман!
Гордо поглядывая по сторонам, затрясли поднятыми руками последние трое и – вся группа вдруг разразилась смехом и восторженными аплодисментами.
Ободренный такой поддержкой, Рустам продолжил, уже без предательской дрожи в коленях:
– Я – общественный экскурсовод музея истории воздушно-десантных войск, курсант Садыков. Наш музей – единственный музей ВДВ в мире… Ай эм из зе волантари гайд оф зе мьюзиам оф эабон труппс. Май нейм из Рустам Садыков. Во ши кундянбин лиши боугуаньдэ даою. Водэ минцзы дяо Рустам Садыков. Мен – хаво-десанти кушинлари тарихи музейнинг экскурсаводи, курсант Рустам Содиков буламан…
И дело пошло! Уже во втором зале Рустаму даже не требовалось дублировать все, сказанное по-русски, на трех языках: гости схватывали сказанное с полуслова, вполголоса обменивались пояснениями, поощрительно кивали.
– Цин, кань чжэгэ дигуаньцян. Зис из зэ ладж-калиба мэшинган Дэ-Шэ-Ка, констракшн оф Дегтярев энд Шпагин. В десантных войсках того времени этот пулемет применялся также как зенитное средство. Энти-эакрафт уэппон, андестэнд? Очень хорошо, джуда яхши, уртоклар!
– Ай-йя! – радостно воодушевился вдруг плотный пожилой китаец и, захлебываясь от восторга, что-то торопливо затарахтел.
– Дуйбуци… [7]7
Извините
[Закрыть]– опешил от такого темпа Рустам. Он ровным счетом ничего не понял! И сразу вспомнил, как один предприимчивый владелец ресторана в Париже поместил над входом в свое заведение специальную табличку для туристов: «Здесь понимают тот французский, которому вас учили в школе!».
– Цин, тунджи, шо цзай ибень… Ман-манда шо… [8]8
Пожалуйста, товарищ, повторите еще раз помедленнее
[Закрыть]– враз севшим голосом проговорил он.
Китаец с готовностью сбавил темп и Рустам с облегчением разобрал, что оказывается, этот дядька в молодости служил в армии и был командиром расчета этого пулемета.
– Во хэн хао хуй джэгэ цян! [9]9
Я очень хорошо владею этим оружием
[Закрыть]– с нескрываемой гордостью поведал китаец. Радостно обернувшись к группе, он принялся воодушевленно жестикулировать, тыча то в пулемет, то себя в грудь и изображая трясущимися кулаками пулеметную стрельбу. Затем, завидев патронную коробку, обрадованно ухватился за нее.
– Кэи?! [10]10
Можно?
[Закрыть]– с энтузиазмом кивнув на пулемет, спросил он Рустама.
– Кэи, – кивнул Рустам, воровато оглянувшись в сторону коридора – не видит ли директор.
Китаец с явным наслаждением, подчеркнуто аккуратно подсоединил коробку к пулемету, продернул патронную ленту и, вцепившись в рукоятки, захлебнулся в счастливом татакании. Группа зааплодировала.
Порозовевший от удовольствия китаец разрядил пулемет и подмигнул Рустаму, кивнув на коробку:
– Ни кэи чжеян ма? [11]11
Ты так умеешь?
[Закрыть]
Блин, во как вовремя потренировался-то! А то бы пришлось выкручиваться: дескать, нельзя, да это музейный экспонат, да это только вам, как гостю…
Усмехнувшись, Рустам снял парадный китель и попросил его подержать стоявшего рядом индуса. И, закусив губу, выполнил заряжание пулемета по-боевому: с треском и блеском, «со скоростью поросячьего визга» – когда настроение хорошее, все получается как надо. И вновь аплодисменты разорвали прохладную музейную тишину! Привлеченный шумом, в зал заглянул директор и, оценив обстановку, показал Рустаму большой палец.
В течение всей экскурсии Рустам настороженно ждал от этого пулеметчика какого-нибудь подвоха. И совершенно напрасно – вполне нормальный дядька оказался. Слушал Рустама во все уши, уважительно покачивал коротко стриженой крепкой башкой, понятливо кивал. А однажды так вообще обрадовался – ну как ребенок, право слово.
– Бу пичок билан биринчи космонавт Юрий Гагарин порашют билан сакраган… А вот с этим ножом совершал парашютные прыжки первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, – остановился Рустам у очередного стенда, – Э-э-э… Уэн зэ фёст козмонот Юрий Гагарин джампд уиз парашют, хи юзд зис найф…
– Дядялин?! – вдруг шумно восхитился китаец.
Группа дружелюбно засмеялась, для Рустама же ничего смешного в этом не было. Не знакомы люди с азами китайского языка, вот и смеются. Дело в том, что в китайском языке нет таких слогов, как «га» или «рин». Ну, как в японском языке, например, нет буквы «л» – и японцы заменяют ее буквой «р». Так и китайцы – за неимением подходящих слогов в родном языке заменяют их похожими, когда надо воспроизвести иностранные слова или фамилии. Например, фамилия «Брежнев» по-китайски звучит так: «Билешинефу». А «Рейган» – «Лиган».
– Дуй, Дядялин, [12]12
Да, Гагарин
[Закрыть] – серьезно кивнул ему Рустам.
– Дядялин – е ши саньбин ма?! [13]13
Гагарин тоже был десантником?
[Закрыть]
Ох, до чего же Рустаму хотелось гордо подтвердить эту версию! Блин, вот люберецкий дембель Леха небось, ни секунды бы не сомневался! Но что поделать? Престиж престижем, но совесть иметь надо…
– Нет, он был летчиком, – со вздохом покачал он головой, – Та ши фэйсинъюань. Но весь отряд космонавтов учил прыгать с парашютом десантник – полковник Никитин. Вот, на этой фотографии они рядом… И, кстати, первая фотография Гагарина, по которой его узнал весь мир, была сделана во время прохождения им парашютной подготовки. Вот она, посмотрите. Гагарин – в прыжковом шлеме, с парашютом. И после окончания полета в космос он приземлился с парашютом, катапультировавшись из капсулы космического корабля.
– Бат уай? – удивился индус, – Ит воз эксидент?
– Ноу, ытызнт, – неохотно проговорил Рустам, – Ит воз южал мэна оф ретёнинг фром спейс ин зэт тайм. – Блин, сейчас скажут: у-у, деревня! Колхоз «Пиёз»…
И вот ничего подобного не произошло. Напротив, гости воззрились на портрет Гагарина с искренним восхищением, а «пулеметчик» даже тихонько зааплодировал.
К концу экскурсии Рустаму ужасно хотелось вывалить язык, как собаке. А еще лучше – закинуть его на плечо: ну одеревенел уже просто! Собравшись с силами он глубоко вздохнул и, стараясь не торопиться, выдал уже просто на автомате:
– Экскурсия окончена, товарищи. Благодарю вас за внимание, будем рады видеть вас вновь в нашем музее, всего вам самого доброго! Экскёшн из оува, диа комрадз. Сэнк ю фо ё аттеншн, глэд ту си ю ин ауа мьюзиам эгейн, гуд лак! Экскурсия нихоясига етди, эътиборингиз учун рахмат. Сизлар билан музейда яна кайта учрашишдан мамнун буламиз. Хайр, саломат булинг. Лийю ваньляо, тунджимэн. Сесе нимэнда чжуи, хэнь гаосин цзай и цы цзайдао нимэн, ицэ шунь ли! – Ф-фу! – не удержавшись, перевел он дух и полез в карман за платком – промокнуть, наконец, взмокший лоб.
Ну, а дальше все было хорошо. Гости пожимали Рустаму руку, от души благодарили за экскурсию, надарили кучу значков. (Маленький алый значок с профилем Мао Цзедуна Рустам потом целый месяц носил вместо комсомольского значка на кителе, пока не потерял во время марш-броска. И никто из командиров не заметил!). Выражали восхищение языковой подготовкой курсантов училища, интересовались, все ли курсанты знают несколько языков. Рустам пояснил, что всем языкам, кроме английского, он обучился еще в детстве, в родной Наманганской махалле.
– У нас в Узбекистане много разных людей живет, – рассказывал он, – Немцы, греки, корейцы, китайцы, уйгуры, дунгане, казахи, татары, евреи… Я, к примеру, учился в русской школе, а более-менее русских ребят в моем классе было всего пять человек. А остальные – всякие.
– И как вы общались? – поинтересовалась сопровождающая группу барышня (Марина, как она потом представилась).
– Да как – нормально общались. Чаще всего по-русски, а вообще, по-всякому. Когда вместе живешь, языки легко запоминаются.
– А вообще, как живете-то? Ну, если все разные такие…
– Да отлично живем! Приезжайте, посмотрите. И – какие мы разные? Ну, имена разве что отличаются: тот – Махмуд, тот – Христофор, та – Марта… А так – вместе росли, вместе учились… Многие женятся. Чего различать-то?
Беседуя с гостями, Рустам краем глаза засек, что у крыльца музея Киваев что-то выговаривает четырем мужикам номенклатурного вида. Одеты мужики были весьма прилично, все – при галстуках, но вся эта великолепная четверка была явно с хорошего бодуна. И выглядели они – как нашкодившие школьники перед беспощадным завучем.
Окатив сию четверку ушатом ледяной учтивости, начальник музея сухо кивнул, давая понять, что разговор закончен. Рустам догадался, что эти подгулявшие мужички и есть те самые пропавшие референты с переводчиками.
Наконец, сердечно распрощавшись, группа проследовала в автобус. Последними загрузились блудные детки, имевшие после беседы с Киваевым вид весьма и весьма сконфуженный.
– Р-разгильдяи… – сощурившись, процедил им вслед Киваев, – Р-р-работнички…
Дело, как выяснилось, приключилось самое банальное: референт из Минкульта вместе с переводчиками должен был прибыть накануне, дабы согласовать время экскурсии. Переводчики же должны были ознакомиться с экспозицией и подготовиться к специфическому переводу. Но, приехав в Рязань, референт первым делом решил навестить своего друга-однокашника, с которым вместе учился в высшей комсомольской школе. И вот этот самый друг, функционер Рязанского обкома комсомола, оказался мужиком радушным и хлебосольным. Первым делом он разместил гостей на обкомовской даче (чего вам по гостиницам клопов кормить). А дальше – как положено: ну, за встречу, по маленькой! Эх, славно-то как, с дорожки-то! Так, между первой и второй… да ничо, не переживай, все устроим, делов-то! А помнишь?… Ну, еще бы! Эх, времечко было! Ну, давай за нас! Да л-ладно, не парься, завтра с утреца все решим! Нормально сидим, ну! А давай – нашу: кам-самоль-цы! Даб-ра-воль-цы!!..
Короче, гости очухались только к полудню следующего дня. Пока соображали, где они находятся, да что делать, да пока добрались до места назначения – все само собой и устроилось.
Понятно, почему Киваев с ними таким морозным тоном беседовал: у кого как, а в офицерской среде весьма презирают тех, кто не умеет совмещать выпивку со службой. Можешь гулять накануне, насколько тебе финансы и фантазия позволяют, но чтоб утром – как штык! – был на построении, готовый к работе, тогда ты – офицер. А не можешь – лучше не берись, дабы не позориться. А вот Рустама Киваев похвалил, хоть и весьма сдержанно: собственно, что такого произошло? Что, впервые у нас армия за головотяпство гражданских отдувается, что ли? У кого как, а у нас это скорее правило, чем исключение из правила.
– Нормально сработал, Садыков, – дозированно отмерил похвалу начальник, – Не подвел. Волновался?
– Вначале – да, – признался Рустам, – А потом ничего, легче пошло…
– А вообще, ты молодец! – улыбнулся Киваев, – Прямо как Фидель Кастро. Довелось мне на его выступлении как-то побывать – давно, еще когда в Москве фестиваль молодежи и студентов проходил. Представляешь: три часа он без передыху говорил – и все сам, без бумажки. И что самое интересное: говорит по-испански, а все понятно! А этим организаторам я, будь моя воля, хвоста бы накрутил… Совсем совести нет, что ли?
Как оказалось впоследствии, совесть у организаторов все-таки была. Помимо благодарственного письма руководству музея, привезли они через неделю почетную грамоту лично для Рустама, каковую Киваев и вручил ему торжественно, под аплодисменты всех сотрудников музея.
– Вот и первая награда! – резюмировал Киваев, пожимая руку Рустаму, – Теперь, когда станешь большим ученым, можешь смело подписывать свои научные статьи таким образом: «Р. Садыков, доктор исторических наук, кавалер почетной грамоты Рязанского обкома комсомола»!
Террорист
– С-садыков! Долго ты еще свой триппер в каптерке хранить собираешься?! Или забирай, или выкину на хрен – мне порядок наводить надо!
– Ко-оль, да ладно, че ты?
– Какой, я тебе, на фиг, Коля?! Ну ваще уже оборзели!
– Ну, товарищ старшина! Пусть еще полежит немного, я заберу скоро.
– Ты мне что говорил, когда эту коробку свою приволок? «На денек всего» – не так? А сам уже второй месяц никак это барахло не заберешь, только еще новое тащишь, как хомяк в норку. У меня тут что – склад для всякого вашего триппера, что ли?!
– Ну я же не просто так это все собираю! Мне для курсовой надо. А где это все хранить? Под койкой – нельзя, в чемодане – не поместится…
– Кар-роче! До конца недели чтоб убрал. А то выкину к черту, и пошли все на фиг. Устроили мне тут антикварную лавочку… Ты чего пришел-то? – остывая, поинтересовался у Рустама старшина Рудаков.
– Да вот… Еще одну штучку принес… Я положу пока в коробку, ага? – и, пока старшина не успел опомниться от столь вопиющей наглости, Рустам быстренько-быстренько вскарабкался на верхний стеллаж, к своей коробке с накопленными сокровищами.
– Видал наглецов, – покачал головой старшина, – Сам наглец, но таких… Что хоть за курсовая? По какой кафедре?
– По МПД… Самодельные мины и мины-сюрпризы, Тимофеев тему дал.
– Мороки хватает?
– Хватает…, – вздохнул Рустам, копошась в коробке, – И писанины – на всю тетрадь, и макетов штук десять сделать надо, и живых мин пару штук надо состряпать…
– Покажи хоть – чего ты там нагреб-то?
– А, до фига всякого, – Рустам кое-как, придерживая коробку, спустился вниз и принялся раскладывать на полу каптерки свои сокровища: мышеловку-хлопушку, жестяной карманный фонарик, детскую игрушечную гармошку, толстый «Сборник задач по физике для поступающих в ВУЗы», красивую фигурную бутылку зеленого стекла из-под Карлсбадского ликера…
– Ну-ка, ну-ка… – заинтересовался старшина, – Так, с гармошкой вроде ясно: на одну сторону крепим гранату, ко второй цепляем растяжку, начинаем играть и взрываемся на фиг, правильно? Только это… Ты что, для детей собрался мины делать?
– Зачем для детей? – досадливо возмутился Рустам, – Для взрослых. Так настоящая гармошка пол-стенда займет, а куда я остальные мины пихать буду? Да и где мне настоящую гармошку взять? Вот, купил эту в «Детском мире» – главное, чтобы принцип поняли…
– Ага. Ну, а студенты чем тебе не угодили? – начал забавляться старшина, раскрывая задачник по физике, – Э, да ты ее еще и порезал всю…
– А, да просто взял, какая по толщине подходила. Во, смотри: сюда помещаем тротиловую шашку с электродетонатором, сюда – батарейку. На эти вот страницы клеим фольгу и подсоединяем провода, получается замыкатель. Между кусками фольги помещаем диэлектрик. Ну, можно кусок картона или пластика к книжной полке приклеить хотя бы. Пока книга стоит на полке – все ништяк. Станешь снимать – картон остается на месте, а куски фольги замыкаются. И все – выходи строиться. Такую штуку можно на конспиративных квартирах оставлять, на явках – ну, если уже явка провалена и надо срочно линять – будут обыск проводить, пускай полетают…
– А если не станут ее с полки снимать?
– Тогда можно вместо картона червонец засунуть. И положить книгу на видном месте, чтоб этот червонец торчал, как закладка. Кто-нибудь да стырит. Эффект тот же.
– Так, ясно. А мышеловку ты тоже минировать собрался? Чтоб уж мышке точно кирдык настал?
– Ну блин, Иваныч! Хорош придуриваться! Вы что, эту тему не проходили, что ли?!
– Да проходили, проходили. Только вот эту хреновину – убей, не помню.
– А, ну это просто. Это у меня мина-сюрприз разгрузочного действия. Под мышеловкой крепим шашку с электродетонатором и батарейку. Сюда, куда рамка шлепает, вбиваем гвоздик и загибаем его – это контакт. Отгибаем рамку, временно контрим ее стропой и подсоединяем провода к рамке и гвоздику. Теперь делаем что? Копаем такую ямку маленькую, кладем туда мину, чтоб была заподлицо с поверхностью и сверху на нее – чего-нибудь тяжелое. Ну, хоть полевую сумку. Чтоб рамку удерживала. Теперь аккуратно стропу перерезаем и маскируем это дело. Ну и все. Кто-нибудь сумку поднимет, рамка по гвоздю хлопает, цепь замыкается – хренак! Ну, к шашке еще можно гвоздей каких-нибудь изолентой примотать, чтоб радиус поражения увеличить, хотя и так нормально.
– Садист ты, Садыков, – ухмыльнулся старшина, – Сразу видно, что из Азии – басмаческие замашки у тебя какие-то!
– Сам ты басмач! – возмутился Рустам, – При чем тут Азия? Эти мины везде делают. Вон, хоть Францию твою взять, там партизаны смотри что во время войны делали: брали бутылку из-под вина, наливали туда бензин с эфиром и добавляли какой-нибудь загуститель – да хоть то же мыло. И получался напалм. А пробку покрывали терочным составом. Немец бутылку взял, штопор закрутил, пробку – чпок! И все, шашлык получился.
– Да ладно, не обижайся. Я ж так просто – прикалываюсь..
– А немцы? – не успокаивался Рустам, – Те вообще: и игрушки минировали, и шоколадки… Тоже Европа!
– Не, ну ты сравнил! Фашисты – они фашисты и есть, чо ты хочешь…
– Да? Ладно, а вот англичан возьми – цивилизованный народ, джентльмены, да? Так и они это уверенно делали. Вот, хотя бы такое, – Рустам быстро нацарапал на крышке коробки чертеж, изображавший курительную трубку, – Смотри, устройство какое: здесь запрессовывается патрон. Как трубку в зубы взял, так тебе пуля прямо в рот и направлена. Здесь – пороховой столбик. Как трубку докурил, так он и воспламенился. И получаешь пулю в пасть, очень просто.
– Ну-у, конечно, джентльмены. Хоть дают спокойно докурить перед смертью… Ладно, собирай свои прибамбасы. Когда защищаешься?
– Ох, через две недели уже. А у меня еще ишак не валялся – только материал собрал.
– Ты давай, до последнего не оттягивай, в последний день по закону подлости вечно чего-нибудь случается – хоть наряд внеплановый. Может, помочь чего надо?
– Спасибо, Коль, справлюсь…
– А вообще, ну и темку же себе ты выбрал! Пахать – не перепахать. Трудоголик ты, что ли?
Вот тут старшина немного ошибался. Выбирая тему курсовой работы, хитрый Рустам руководствовался прежде всего банальной ленью. Ну много ли по такой теме можно материала накопать? Раз, два – и обчелся. Что и требуется: вроде и работа проведена добросовестно, а что материала мало – так то не моя вина, чем богаты, тем и рады, что нашел, тои предоставил.
Однако, после первого же визита в библиотеку «для служебного пользования», Рустам в панике понял, как же серьезно он вляпался. Ибо изобретательное человечество за время своего существования умудрилось создать столько разнообразнейших самодельных мин и мин-сюрпризов, что просто оторопь брала. И ведь что характерно: с развитием прогресса мины-сюрпризы становились все коварнее и подлее (хотя, конечно же, сами мины тут ни при чем, речь идет об их создателях). И еще одна закономерность: наиболее «подлые» мины изготавливались, как правило, в более «цивилизованных» странах.
Великими мастерами мин-сюрпризов были вьетнамцы и китайцы, но их мины отличались простотой, дешевизной и простодушием (если можно употребить такие слова по отношению к минам). Например: берется обыкновенный стакан, в него вкладывается обыкновенная граната. Затем из гранаты выдергивается предохранительная чека. Стенки стакана удерживают предохранительный рычаг гранаты в прижатом положении и не дают сработать взрывателю. Как правило, такие мины устанавливаются над дверью. Дверь открывается, стакан падает и разбивается. Рычаг, соответственно, отскакивает, граната взрывается. Дешево и сердито.
Или, к примеру, как устроена китайская противодесантная мина: выкапывается ямка, в нее закладывается тротиловая шашка с электродетонатором. Заряд засыпается землей и аккуратно утрамбовывается (это называется забивка), провода детонатора выводятся наружу и отходят на пульт подрывника. Сверху на засыпанный заряд кладут несколько осколочных ручных гранат, чеки которых привязывают к колышкам, вбитым в землю. Такие мины устанавливаются на различных охраняемых объектах. Работают такие мины просто и надежно: противник выбросил на объект парашютный десант. Подрывник спокойно ждет, пока парашютисты опустятся пониже и в расчетный момент подрывает мину. Шашка взрывается и зашвыривает гранаты вверх, к спускающемуся десанту. Чеки гранат, как вы поняли, остаются на земле. Гранаты достигают нужной высоты и взрываются, образуя сплошное облако осколков и поражая всех находящихся в воздухе парашютистов. Дешево, эффективно и остроумно. И – направлено против конкретного противника, строго адресно, посторонние не страдают.
Противотанковые же мины весьма наглядно характеризуют менталитет сынов Поднебесной империи: вместе с горячей отвагой и ледяным презрением к смерти – основательная крестьянская рачительность и экономность. Это только в анекдотах китайский противотанковый взвод включает в себя три отделения по сто человек, вооруженных отвертками и гаечными ключами. На деле же боец китайского народного ополчения был вооружен брикетом аммиачно-селитренной взрывчатки, привязанным к длинному бамбуковому шесту. Замаскировавшись в окопчике, боец пропускал танк над собой, после чего, воспламенив зажигательную трубку, выскакивал и укладывал заряд на моторное отделение танка. А затем бежал вслед за танком, удерживая заряд на месте и отсчитывая секунды горения шнура. Отпустить заряд и ложиться можно было не раньше, чем за одну-две секунды до взрыва, ибо безрезультатная трата взрывчатки – вещь для китайского бойца совершенно недопустимая, однозначно грозящая полевым трибуналом и презрением товарищей. А вы как думали?
Да китайский боец после каждого боя должен был на собрании за каждый патрон отчитываться – сколько раз выстрелил и сколько врагов уничтожил. А тут – целый заряд! И можете над таким отношением к боеприпасам смеяться, можете плечами пожимать недоуменно, но если доведется с ними воевать, то должны отчетливо представлять себе, что это за противник.
А вот чего Рустам не мог понять – почему европейцы, мнящие себя очень цивилизованными, создавали мины-сюрпризы из шоколадок, книг и даже детских игрушек? Это что же получается: да, мы цивилизованные и гуманные, но – только по отношению к своим – так, что ли? Уже значительно позже Рустаму попалась книга с описанием дня Эйзенхауэра. Того дня, в который он отдал приказ об атомной бомбардировке Хиросимы. Что больше всего поразило Рустама – обыденность. Отдав приказ, мистер Айк позавтракал с семьей и отправился играть в гольф. Он что, не понимал, сколько людей погибнет в результате этого приказа? Причем не солдат – мирных жителей: детей, стариков… Все он понимал.
Никто не осудил его за этот приказ. По большому счету он кто? Солдат. Какое солдату дали оружие, таким он и воюет:
«…Как просто быть ни в чем не виноватым
Совсем простым солдатом, солдатом…».
И все же, все же… Если бы он пошел в церковь, или напился бы в одиночку – это было бы понятно. Да черт с этим, хотя бы просто у себя в штабе весь день провел – так нет же. Он ИГРАЛ…
***
Рустам отчаянно, с подвыванием зевнул и, перехватив поудобнее обломок ножовочного полотна, продолжил свой нелегкий труд. Пристроившись на подоконнике умывальника, он выпиливал кусок стенки гильзы крупнокалиберного пулеметного патрона. Работа продвигалась медленно: сталь гильзы была прочной, а полотно – старое, с выкрошенными зубьями. Не такое уж это простое дело – изготовление макета мины-сюрприза. Уж во всяком случае, изготовить боевую мину-сюрприз было куда проще: извлек пулю, заменил порох гексогеновым или тетриловым зарядом, вставил пулю на место – и все дела. Ну, лаком еще сверху следы работы замаскировать – на пять минут всей работы, готова мина. Теперь ее можно переправлять по особому каналу в стан противника. Ничего не подозревающий пулеметчик воткнет ее в пулеметную ленту среди других патронов и… И дальше ничего хорошего ему не светит. Дождавшись своей очереди, мина скакнет в патронник и добросовестно разворотит ствольную коробку пулемета, а заодно и голову пулеметчика.