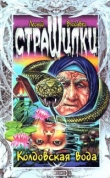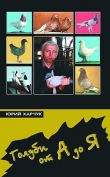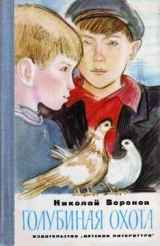
Текст книги "Голубиная охота"
Автор книги: Николай Воронов
Соавторы: Николай Воронов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
– Так то американцы.
– Нелюдей везде хватает. У нас, должно, поменьше. А, да кто их считал… Ведется нечисть, и ничем ты ее не изничтожишь.
– До поры до времени, дедушка.
– Может, опосле детей твоих правнуков. Не, не верю, не. Никак не изничтожишь.
– Дедушка…
– Спасибо на добром слове. Жить тебе долго и в счастливой надее.
Гурьба цыганят натягивала и отпускала трос, которым пристань была приторочена к берегу. Свекольномордый вербовщик от того же ресторанного столика и из того же окна объявлял, что теплоход, плывущий с севера за вербованными из Грузии, задерживается. Внизу, вдоль служб и на помосте, галдел, томительно ждал перевалочный люд.
От моря, от моря. Вверх. В город. Ветер, полируя наклонный булыжник мостовой, шибал Машу и Наталью Федоровну по ногам. Обе уносили в себе дебаркадерное существование, которое только что обминули. Наталье Федоровне было неловко за уют и оседлость собственной жизни, а в Маше продолжилась вчерашняя растерянность перед человеческим миром. Осколочек этого мира ворвался в ее душу, а она даже не может его понять. И ей нечего надеяться и в старости сложить вместе все происходящее среди людей, чтобы постичь, что с ними происходит и куда они придут. Понять бы хотя немногие судьбы. Тех же цыганят и вербованных, дожидающихся теплохода. Еще что… Старик этот и вербовщик… Не должны они, старик и вербовщик, вязаться в один узел, а, выходит, увязываются. Они и в разноречии и в целом. Как так? Да как же это так? Да почему же старик думает, что нелюди всегда в конце концов берут верх?
На изгибе улицы выставил желтобалконную стену дом Торопчиных. Маша тотчас сосредоточилась на том, что увидит Владьку.
В квартире Торопчиных, стоя у винно-красного углом диванчика, Маша все ждала, что вот-вот появится Владька, куда-то спрятавшийся. Появится неожиданно, будто собирался напугать, а на самом деле для того, чтобы дотронуться до нее. Но она слукавит, словно напугалась, и сразу не вывернется из-под его ладоней, если он положит их ей на плечи. Вместо Владьки появилась магниево-седая Галина Евгеньевна.
Пунцовея, Маша спросила, где Владька.
– Уехал на велосипеде. С дружками.
Галина Евгеньевна усадила Машу на диванчик и ушла. Наискосок от Маши, посреди комнаты – трубчатый стеллаж, привинченный к потолку и полу. Перед книгами темнели вороненый шлем с паутинками орнаментальной позолоты, выветренной временем, черная лаковая дощечка, на ней красивый поп в серебряной ризе. На середине стеллажа лежали кожано-сухая голова меч-рыбы и бивень мамонта, из него были вырезаны круглоголовые мужички с косицами, едущие на осликах меж фанз, деревьев и зевак.
Наталья Федоровна уже в халатике проскочила за стеллаж. Клацнула, вспыхивая, зажигалка. Табачный дым протек меж книг, загибался к потолку. Она сказала, что курнет два разка и тоже сядет на диванчик. И Маше, которой Наталья Федоровна при всей своей приятности неотступно казалась иностранкой, послышалась в простодушном ее тоне и в словечке «курнет» такая Россия, что захотелось подбежать к женщине и обнять ее.
В срединном просвете стеллажа, затканном табачной голубизной, блеснули глаза Натальи Федоровны.
– Кое в чем, Маруся, мы старомодные. Увы, сохраняем семейные реликвии. Рыбу-меч поймал мой папа в Бискайском заливе. Папа был тогда слесарем по газовым аппаратам на химзаводе в Жэфе. В отпуск выбрался. Рыбу-меч поймал. То было перед захватом Франции бошами.
– Рабочий и сбежал за границу?
– В России он был дворянин, полковник генштаба царской армии. Еще он был полиглот. Я знаю, кроме русского, четыре языка. Он знал больше.
– А в слесаря устроился?
– До слесаря был такелажником, смологоном, люковым. Знания, звания и достоинства человека претерпевают девальвацию, лишь только он становится эмигрантом.
– Как при денежной реформе?
– Относительно.
– За десять рублей дают один?
– За тысячу.
– Понравилось ему рабочим?
– Труд у него был пагубный. Отравления были. Но среду свою он полюбил. Самих рабочих.
Маша радовалась, что ловко завязала разговор. Но она беспокоилась, как бы Наталья Федоровна не восприняла ее вопросы как Владька. Может, пренебрежение к вопросничеству– их фамильная особенность? С проказливым видом Маша подняла руку.
– Спрашивай.
– Раз вашему отцу понравилась рабочая среда, почему он вас отдал за миллионера?
– Я вышла замуж против его воли. Но не потому, что метила за миллионера. Мы учились с женихом в коллеже. Он был сыном итальянского виноградаря. Жил у тети в Жэфе. Мы нравились друг другу. По выходе из коллежа поженились. Кстати, тогда муж и не предполагал, что он станет сыном новоявленного миллионера. До сорок пятого, когда Советский Союз разбил Гитлера, он тоже работал на химзаводе. Родители мужа сколотили миллионы за войну. Поставляли вино в армию. Прикупали виноградники.
– Наталья Федоровна, зачем вы курите? Вы ведь дробненькая.
Улыбаясь, Наталья Федоровна появилась из-за книжных полок.
– Тише, мама против, чтобы я курила. Я правильно, как ты славно молвила, дробненькая. У меня противоречивая натура, потому что противоречивая судьба. Для многих я дочь эмигранта, для себя – дочь рабочего. Ко мне многие – подавай историю замужества за миллионером. В действительности я была женой сына миллионера.
– У вас еще одно противоречие.
– Да?!
– Вы родились во Франции, а про нашу страну все родина да родина.
Наталья Федоровна, сторожившая выражение лица Маши, вдруг будто перестала видеть ее: то ли потому, что обиделась, то ли чутко вслушивалась в себя.
– Ты не искала, не вслушивалась. В самом слове «родина» есть ядро смысла. Род, род – цепь поколений. От древнего предка до нынешнего потомка. Наш род возник в России. Один из далеких прадедов моего отца был боярином. Наш род значился в геральдических книгах. Родина – это земля твоего рода, и сам род, и все другие роды этой земли, и все то, что они создали на этой земле, и все то, чем они пожертвовали, и чего не сумели, и что еще совершат и выстрадают… Боль, кровоточащая рана… Много лет. Особенному папа́ и у моего деда по матери. Ты видела на стеллаже его портрет. Да и у всей семьи вплоть до моих детей. Когда я с детьми прилетела из Чехословакии в Москву, я поняла: гляжу глазами рода, люблю его любовью. С той поры я верю: то, что входило веками в глаза, в сердце рода, – передается. Лицо передается, физическая конституция и память… Нет, не память. Результат отложений в памяти и чувствах. И еще язык, Маруся. Тогда, в день прилета, хожу по Москве. Кругом русская речь. Пью и никак не напьюсь. Ехали сюда из Москвы. Иду по вагону. Слышу: «Дождя с весны не было. Как намедни лен закраснел, так и сейчас лежит. Лен-от обычно синеват, а этот красноват». Я остановилась. Слушаю. Плачу. Знаешь, как мама и отец сохраняли нам родной язык? Дома – ни слова по-французски.
Наталья Федоровна опять скрылась за стеллаж покурить. Оттуда сама заговорила о том, почему ей не ложилось с мужем. Не следовало бы шевелить эту эпопею. Но ничего… Расскажет ради Маши, чтобы ее, Натальи Федоровны, юность чем-то послужила Машиной юности.
В религиозных картинах над головами некоторых людей сияют нимбы – значит, они отмечены святостью. Когда в нас любовь – мы думаем, что отмечены чем-то сверхъестественным, и боимся утратить его. Но возникают другие обстоятельства, и для нас приобретают высшую ценность иные чувства. Не для всех, к сожалению.
Он был ласков, справедлив, заботлив, ее муж Джу, Джузеппе. Она уговаривала его не переезжать на жительство в Италию. Погостим, вернемся. Не получилось. Старший брат, приверженец Муссолини, считавшийся пропавшим без вести, оказался убитым в Триполитании, и теперь он, Джузеппе, единственный сын у родителей. Они уже старые, надо быть возле них. Разве отвертишься. Поехали. На руках у нее – грудная Анн, Аня. Чем-то зловещим отозвался вид родительского дома Джу в ее сердце. Крыша грифельная. Фасад голый. Ни плюща. Ни балкона. Серый клин на ровном подножье. Отец и мать Джу копили, должно быть, для первой встречи улыбки, но все их израсходовали до порога дома. И уже с каменными застольными масками только и разговоры о наследстве, которое ждет Джу, если он и невестка освоят все работы на виноградниках и в винных подвалах. Дали понежиться одно утро. Потом поднимали на рассвете, гоняли по хозяйству до вечерней зари.
Кормишь грудью Анн – торопят. Роды были не совсем удачными. Ей бы окрепнуть… В других семьях свекор жестокий, свекровь добрая или наоборот. Здесь – нет. Еще слаба была, свекор стал знакомить с трактором. Хотел, чтобы за день научилась ездить. Путала… Вместо скорости включила тормоз. Свекор как ударит наотмашь. Она с трактора, на камни. Увидел Джу, прибежал. До этого отмалчивался, наедине успокаивал: надо терпеть. Накричал Джу на отца, пригрозил уехать. Отец не испугался: «Уедешь – оставлю без наследства». Никогда Джу не был жаден, не мечтал о богатстве. Здесь же всем его умом, всей честью завладела мысль о наследстве.
За два года изнурительной работы она совсем ослабла. Часами лежала, не в силах шелохнуться. Муж повез к врачу. Истощение нервной системы. Необходим полный покой. Устроить в горах, поближе к вершинам. Фрукты, альпийское молоко, дышать. Вот и все лекарства. Нужны деньги. У Джу нет. Попросил у родителей. Отказали. Какое там лечение?! Глупости. От труда увиливает. Послала письмо отцу. Он выкроил из заработка. Поселилась с Анн у пожилых украинцев. Они перебрались в Италию в начале века. Горное селеньице. На отшибе от мира. Здесь никому не довелось видеть людей из России. Крестьяне были рады. Заботились. Прожила в украинской семье полгода. Тут, у вершин, родился Морис. Свекор нашел в Морисе сходство с собой. Был щедр на гонорар педиатру, которого приглашал к внуку. Но к ней отношения не изменил: хватит, дескать, притворяться больной. Посылал в винный подвал. Он выбит в горе. С километр. Посылал удалять из шампанского осадок: дегоржировать. Воздух спертый. Без солнца. Сам процесс не из простых. Берешь бутылку. Раньше ее наполнили вином. Открываешь, чтобы выхлестнулся осадок. Опять закупориваешь. Уже окончательно. Винные брызги. Ноги мокрые от шампанского. Молоко выжимаешь из груди, потому что, откупоривая и закрывая бутылки, то и дело придавливаешь к ней руки.
Свекровь паралич разбил. Веди дом. Джу часто в разъездах. Теперь физически он не работал. Отец называл его управляющим, а он себя – погонялой, который служит у родителей за кормежку, вино и одежду. Мне и того не доставалось. Я поизносила свои девичьи платья, даже неловко надевать. Сказала свекру: «Батракам лучше живется…» Орал, что Россия – страна лентяев и скотов и жаль, что Гитлеру не удалось ее растоптать. В тот же день она заявила Джу, что уедет, если его отец не извинится перед ней и если не кончится их бесправие… Джу клялся, что заставит отца извиниться, но не сделал этого. И все осталось по-прежнему. Она целый день всходила в селеньице, где жили украинцы. Одолжила у них на дорогу. Через месяц, когда свекор и муж были в отъезде, спустилась с детьми в долину, оттуда улетела во Францию. Мать плакала над ней, как над умирающей, так высохла и подурнела она за три года. Следом явился Джу. Торопчины не приняли его. Она видела из окна, как он слоняется по улице. Сама не показалась. Анн не пустила.
Бога нет. В этом она не сомневается. Но она верит, что сама жизнь творит возмездие. Ровно через столько, сколько ей пришлось страдать, не стало на свете ни свекрови – умерла от нового кровоизлияния в мозг, ни свекра – погребло снежной лавиной в Швейцарии на курорте. Джузеппе прилетел в Жэф. Он был уверен: коль пришли миллионы, то вновь придет и любовь жены. Но где ей было взять любовь, коль от нее и пепла не осталось?
Он был взбешен. Хотел отсудить детей. Процесс затянулся. Все Торопчины бедствовали, потому что нанимали адвоката. В конце концов, суд постановил детей оставить у нее, с правом для Джузеппе заполучать их к себе в каникулярные месяцы, а также с правом разрешать или не разрешать им выезд из Франции. Чтобы этот пункт записали, он потратил много времени и денег: узнал, что Торопчины ездят в Париж и там, в советском посольстве, хлопочут о возвращении в Россию. Семья, разумеется, была в отчаянии. Невозможно ехать без Анн и Мориса. Оставаться ради них во Франции – тоже трагедия. Сильней всех хотелось в Россию отцу. И всякое дополнительное препятствие для кого-то из семьи вызывало у него паническую тревогу. Он и так горевал, что во Франции останется старшая дочь Елена и младший сын Бернар. Елена была замужем за ненавистным всем Торопчиным украинским националистом Пудляковским, выступавшим с антисоветскими статьями и речами. Бернар принял наше подданство, однако остался в Жэфе: женился на очаровательной француженке. И вдруг такое постановление суда, что вынуждена оставаться во Франции и младшая дочь с детьми. Отец умер… Перед смертью он взял клятву с Галины Евгеньевны и Сергея, что они уедут в Россию. Заставил поклясться и ее, Наталью Федоровну, что и она выполнит его последнюю волю: уедет, как бы ни было сложно, и непременно с детьми.
Уехали мать и брат. Она делала вид, что никуда не собирается. Подозревала, что муж нанял шпионов. По совету адвоката рискнула вписать в паспорт Мориса и Анн. Поехала. Дрожала, что муж узнает и что ее схватят в ФРГ и вернут во Францию. Ночью, в самую глушь, таможенный полицейский, этакий громадина, проверил у нее паспорт. Когда пересекли границу Чехословакии, все трое торжествовали, пели, дурачились. После они узнали: Джу прилетел из Италии в Париж. Но он опоздал на сутки. Шпионы не очень тщательно шпионили.
Пока Наталья Федоровна и Галина Евгеньевна поили Машу чаем, вернулись Кира и Сергей Федорович.
Сергей Федорович подсел к приемнику. На чуточной громкости плутал в суматошном эфире, натыкаясь на певцов, что-то машинно балабонивших под джаз, на проливни скрипичной музыки, на разноязычных дикторов, сокрушавших противников своих правительств.
Его рука замерла: издалека, сквозь цикадный шелест прорвался мужской голос. Хриплый, гундосоватый, картавящий. Он почему-то не отталкивал. За мелодией, которую он гнул, разглаживал, золотил, можно было идти в безлунном лесу, как за лучом фонарика.
Сначала за спиной Сергея Федоровича встала сестра, затем – мать. Едва голос затих, словно его утянуло туда, откуда он пробился, выпутываясь из цикадного шелеста, Галина Евгеньевна, ее дочь и сын восторженно загалдели, дробя «р» и говоря в нос.
Кира провела ладонями от щек к вискам. В этом жесте почудилась Маше неловкость.
Через мгновение, ощутив за собой безмолвие, разом умолкли и муж Киры, и свекровь, и золовка.
– Шансонье, – промолвила Наталья Федоровна. – Скорей всего рабочий. Транслируют из какого-нибудь парижского кафе.
Кира вздохнула.
В прихожей Наталья Федоровна, стоя рядом с Машей, приглашала ее заходить и сюда на квартиру, и в техническую библиотеку. Маша помнила, что дети Натальи Федоровны студенты, но воспринимала ее как подружку: так просто, сердечно и ровно держалась с ней женщина.
Маша чиркнула ладонью о ладонь, щипками одернула платьице, а потом, чувствуя губами свое отраженное дыхание, шепнула Наталье Федоровне на ухо:
– Вы счастливы?
Наталья Федоровна погладила Машу по голове.
– Еще бы! Но, конечно, не во всем. Ох, до того очаровательные волосы! Неземные какие-то!
– Марсианские, – подсказала Маша.
– Я сразу догадался, что ты с Марса, – пошутил Сергей Федорович.
Мимо подъезда, вихляя с ноги на ногу, ехал сивый, который определился в ее уме после встречи в березовой роще как начальник велосипедной ватаги.
Едва вошла в ворота, навстречу ринулась повернувшая с шоссе гончая стая велосипедистов. Сверканье, перемеженье цветных пятен – футболки, жокейки, шелест – и уже никого. А она-то подумала, что сшибут.
Сивый, конечно, сивый организовал. И Владька, наверно, был среди них! Рассказал или нет? О чем, собственно, рассказывать? Теплоход. Клещ. Поликлиника. Мальчишки любят хвастать чем-нибудь таким или лгать о чем-нибудь таком. Но не Владька. Наверняка он врать не станет.
Трель велосипедного звонка. Владька. Вопросительный. Выдернул носки парусиновых тапок из стремян, что ли, прилаженных к педалям. Чего он строго так воззрился?
– Ну как?
– Что – как?
– Никаких симптомов?
«Вон он про что! Дура! Совсем недавно бесилась, почти умирала. И уже забыла и думать…»
– Я психопатка, Владик.
– Не убежден.
– Ты уезжаешь?
– Завтра.
– Зачем?
– Меня, к примеру, привлекает деревянное зодчество, в частности, резьба.
– А как же я?
Маша шла по тротуару, Владька катился на велосипеде, отталкиваясь ногой от гранитной бровки.
Ее вопрос настолько обескуражил Владьку, что он приостановил велосипед.
– То есть?
Еще ни один человек, кроме сестры и брата, не посягал на его волю, чтобы он не был волен в каникулярные дни и недели.
– Не с кем будет кататься на теплоходах.
– Людей на них с избытком.
– А ты черствый.
– Математик.
– И все равно славный.
– Я не падок на похвалы. И я свободолюбив, потому что мне ясен смысл несвободы.
Он отъехал.
Маша всегда была чем-то загружена: личное, семейное, школьное. В те месяцы, когда она сама себе напоминала трамвай – с утра до ночи круженье, мельканье, короткие остановки, ее мозг, будто запрограммированный, неутомимо творил мечты, загадки, замыслы, исполнение которых откладывалось на после.
В немногие необъятные дни, в которые время полностью принадлежало ей, у Маши и не возникало мысли осуществить что-нибудь, будоражившее ее воображение: лишь бы вдоволь поспать, набродиться по улицам и растерять ощущение, что ты гонима беспощадной, мстящей за медлительность силой. Здесь же, у отца, где Маша часто оставалась одна и где Лиза все сама делала по дому, а ей ничего не поручала и не разрешала делать, она неожиданно поняла, что если не будет теребить свое воображение, то проведет свое гощение довольно кисло. С Владькой было бы занятно дружить, но с ним покончено.
Надумала пробраться в грузовой порт – и пробралась: сплавала на буксире, который отволок туда баржу с подъемным краном. Целый день толкалась на аэродроме. Наблюдала взлеты и посадки самолетов. Выпросила у бортпроводницы значок с изображением лайнера Ил-18. Побывала в диспетчерской и в комнате синоптиков. И все это под видом внучки, приехавшей встречать ленинградского деда, позабывшего указать в телеграмме («Ничего не поделаешь – склеротик») час прибытия.
Прознавши, что Леночку, дочь Сергея и Киры, необходимо привезти с детсадовской дачи на вступительный экзамен в музыкальную школу, она вызвалась съездить за ней и проводить ее на экзамены, чтобы не обременять этой заботой перемогающуюся от повышенного давления Галину Евгеньевну.
Ее осенило на даче, что она могла бы быть хорошей воспитательницей, а в музыкальной школе, когда Леночку проверяли на ритм и на слух, догадалась, что в семь лет сумела бы воспроизвести сложный стук пальцем по корпусу пианино и повторить извилистую мелодию: почему-то тогда она крепко запоминала фортепьянные вещи.
Леночка хорошо, но неточно выстукала то, что простучал председатель приемной комиссии. В коридоре Маша показала, как стучал председатель и как стучала Леночка. Девчурка повторила этот стук, и Маша пообещала Леночке, что ее примут в музыкальную школу.
Когда они выходили из классного коридора, с лестницы к ним бросилась Кира: не утерпела и на часок отпросилась из лаборатории.
Маша успокоила Киру, и они отвели девочку, пожелавшую переночевать в городе, к бабушке.
Кире нужно было возвращаться в цех, и Маша поехала с ней, когда узнала, что в заводской проходной дежурит жена Коли Колича. Давно было стыдно Маше: выросла в металлургическом городе, а на мартене, у доменных печей, на коксохиме ни разу не бывала. Этот завод хоть и меньше тамошнего, зато почти новый и в чем-то, должно быть, гораздо интересней. И, главное, здесь работает ее отец и сейчас его смена.
До проходных ворот металлургического комбината ехали на трамвае. Охранница рассияла, увидев Машу, и гребанула рукой в сторону завода, прерывая объяснения Киры.
– Доченьку Константина Васильевича завсегда пущу.
У себя в родном Железнодольске, хоть и со стороны, Маша все равно неплохо знала, где что находится на комбинате. Даже зимней ночью сквозь туман могла угадать расположение цехов: три скобы алых небесных огней – копровый цех, там газовыми огненными струями полосуют сталь; скаканье высотных сполохов – мартеновский; оранжеватое зарево – доменный.
Тут она сразу определила, где прокат, а где мартен, отличив их по трубам: над прокатом трубы пониже, пореже и не дымят.
Однажды Маша видела в киножурнале опущенный на дно океана батискаф. Вблизи домны напоминали батискафы, а воздухонагреватели – тупомакушечные ракеты, приготовленные для запуска. Сходство дополнялось тем, что атмосфера, окружавшая их, была сумрачно-зеленоватая, и в ней мерцали пластинки графита, будто косячки каких-нибудь блескучих глубоководных мальков.
У Киры в химической лаборатории, наверно, строгий начальник. Так быстро она шла по заводу, что Маша еле-еле поспевала за ней. Через залик проскочила, лишь на мгновение задержавшись возле длинношеей женщины. И в памяти Маши только и скользнул стальной цилиндр нейтрализатора да толстенные коленья – вытяжная вентиляция.
– Тетя Кира, что за специальность у дежурной по установке?
– Аппаратчица.
– А дети у нее есть?
– Сын.
– Искусственник?
– Искусственник.
– Значит, предупредили, когда она устраивалась аппаратчицей?
– Предупредили.
– Отчим говорит – не предупреждают. Он сам на пиридиновой установке работает.
– Думается, обязательно предупреждают и в отделе кадров и в отделе по технике безопасности.
– Хмырь… отчим доказывает: предупреждать – без аппаратчиц останешься. Позже им сообщают, когда они привыкнут к месту.
– Не должно быть.
– Неужели ничего нельзя сделать?
– Установки герметизируют, чтобы не выделялись пары пиридина.
– Тогда почему ее сын искусственник?
– Предосторожность. Кормила бы грудью… а вдруг бы ребенок умер?
– Почему пиридин именно в груди скапливается?
– Такая у него особенность.
– Раз вредная установка – женщин не принимать.
– Пиридин вреден и для мужчин.
– Закрыть установку.
– Следуя твоей логике, нужно прикрыть весь коксохим… Необходимость, Машенька! Без пиридина не обойтись ни фармацевтам, ни медикам, ни химикам.
– А нельзя ли и здоровье и коксохим?
– Задача прекрасная. Учись. Решай.
– Почему я «решай»? А вы?
– Мы, в смысле наше поколение, решаем. Вы присоединитесь. Новое поколение хорошо тем, что ему кажется: до него туго понималось и медленно нейтрализуется зло сопутствующее промышленным энергиям, сырью, без которого не выплавишь первостепенных металлов, не запустишь двигателей, не совершишь открытий. В школе почему-то не принято затрагивать эту тему. В понятие прогресс вкладывается лишь положительный смысл. Дескать, издержек прогресса нет, и люди зачастую трудятся на вредных и опасных производствах только по сознательности, а не по необходимости и потому, что другого выбора не было.
– Вы не совсем правильно… Историк нам много всего объяснял. У него девиз: в правде – движение. Татьяна Петровна, по-английскому… У нее обо всем спрашивай, и она откровенно ответит. Мы и сами с усами: между собой чего-чего не обсуждаем.
– Рада.
– Тетя Кира, почему маленькими все умные?
– Достоинства проверяются в сгорании, если рассматривать человека, как уголь. В сгорании обнаруживаются его прежние свойства и создаются новые. Грубое уподобление: дети – уголь, общество – печь, взрослые – коксовики. В определенных условиях, по определенным нормам, схемам, разработкам взрослые и общество «спекают» из детей граждан. Потом, способствуя производству духовного и материального продукта, эти граждане выявляют свои первичные и вторичные свойства. Пластичность. Калорийность. Нет, заменим калорийность на пользу, пользотворную способность. Почность. Зольность…
«Здорово я ее завела!» – восторженно подумала Маша.
– Вы интересно… Но я не совсем про то. Я заметила: маленькие все умные. Нормальные маленькие. Станут первашами – некоторые, смотришь, тупы. Дальше, дальше. Смотришь, приглупленные выявились. В одних яслях со мной были Миша Моховой и Нинка Нагайцева. И в детсадик вместе попали, и в школу. Старухи говорят: «Что не боле, то дурней». Так и Миша с Нинкой. В этом году меня как стукнуло в голову: «А Моховой-то дундук»; «А Нагайцева-то глупындра». Вы не рассердитесь, тетя Кира. Но больше дураков, чем среди взрослых, нигде нет. Мы иногда придумаем шкодный вопрос и задаем учителям. Раз с Митькой Калгановым придумали. Физичка Екатерина Тимуровна пришла в класс. Митька встает и спрашивает: «Екатерина Тимуровна, ни Михайло Иванович Ломоносов, ни Майкл Фарадей не учили этому, однако я спрошу: все рождаются равными, а откуда берутся валютчики и бюрократы?» А еще Митька при встрече со своими родителями выдает коронную фразочку: «Взрослые? Взрослые любят критику. И самокритику тоже».
– Вы не без яду!
– Какой там яд, тетя Кира? Мы покорные существа. Слегка поострим, на том наши обличения и закончились.
Кира шла в тени, Маша – на солнцепеке. Их разделяли стволы тополей. Едва мимо них проехал кургузый автопогрузчик, Кира перевела Машу через шоссе.
Вступив в прохладу турмы – угольной башни, Маша покачнулась: так резок был переход из упругости зноя в невесомость тени.
Турма громоздилась под облаком, окутываемая дымом. От нижней части турмы вправо и влево простирались батареи коксовых печей. Все сооружение: угольная башня и коксовые печи – напоминало перевернутую букву «Т»; оно ничем не отличалось от того, которое Маша видела издали в Железнодольске.
Она знала от Хмыря, что вдоль одной стороны катаются коксовыталкиватели, а вдоль другой – двересъемные машины.
Какой-то неуклюжий громадный красный агрегат стоял на рельсах. На его высокий мостик выскочил человек в толстой суконной робе и войлочной шляпе, задержался у круглых железных перил, взглянув на огненный квадрат, и нырнул обратно в кабину.
Маша заинтересовалась этим огненным квадратом и чуть не ахнула, подойдя к агрегату поближе: то был не квадрат, а полая, вертикальная кирпичная камера, ее бока, раскаленные, гладкие, источали золотисто-розовое марево, и сквозь это марево чернела неподалеку «глава» домны и виднелись барашки – распадался в небе след реактивного самолета. Кира подошла к ней и объяснила, что обыкновенный коксовыталкиватель выдавил из камеры коксовый пирог. Камеру сейчас наглухо закроют стальными огнеупорными дверями и наполнят шихтой, и за неполную смену из шихты получится кокс.
В стеклянной будочке Кира подошла к тучному мужчине. Она назвала мужчину товарищ Трайно. Он наливал в стакан газировку. Пока вода пузырилась из крана, Кира успела объяснить, кто Маша такая и к кому ее надо отвести. А пока он, разжимая на резиновой пипетке зажим, капал в воду соляной раствор, Кира ушла. Поднимаясь за Трайно по лестнице, Маша сановно полузапрокинула голову, приспустила веки и тяжело ступала, свесив руки. Если бы он оглянулся, то обозлился бы: так похоже она копировала его.
Он вывел ее на ветер и солнце. Это был верх коксовых печей – кирпичное поле, на котором, пожалуй, можно играть в лапту, а может, и в футбол.
Они остановились возле вентилятора. Воздушные вихри, посылаемые качающимся пропеллером, докручивались до спины рабочего. Рабочий стоял на раздвижной лестнице, что-то скалывая железной лопаточкой в горловине трубы; волосы на затылке поблескивали, как влажное стекло; сукно куртки мерцало солью в ложбине спины.
Из угловой будочки, находившейся в конце поля, вышел приземистый человек и весь засверкал в полдневном светопаде. И лишь только взмахнул руками, над ним вспыхнули радуги.
– Кто это?
– Старший люковой Семерля.
– Мокрый.
– Окунулся.
– Как?
– Под холодный душ лазил. Ф-фу.
– Прямо в спецовке?
– Прямо в спецовке. Ох, жара!
– А где папа?
– Вон загрузочный вагон. – В той стороне, откуда шел Семерля и куда протянулись рельсовые полосы, темнел диковинный для Маши вагон, состоящий из колес и каких-то конусов, в просветы между которыми мог пройти крупный дядька, вроде Трайно. – Там должен быть твой батька. Между прочим, я врио начальника…
Маша засмеялась.
– Как вы себя назвали? Врун начальника?
– Ох, невежество. Временно исполняющий обязанности начальника.
– Спасибо за разъяснение.
– Я к чему о своей роли сказал? По обязанности и по личному интересу я вникаю, как работники блока ведут себя в семьях. Есть еще у нас… Жинку кулаком угостит. Запьянцовские встречаются.
– Страдают пережитками прошлого?
– Оно. Детей не контролируют, не беседуют.
– А кто будет в козла стучать? Я про мужчин. Придут со смены, отдохнут, во двор. И дубасят костяшками, кто громче. Железом столы пооббили. Заспорят – до драки…
– Оно. Точно балакаешь. Не все отцы ответственно воспитывают детей.
– А по-моему, нашим воспитанием в основном занимаются матери.
– Ошибочный вывод. Статистика проблемы лично мною изучена. Я поправил, ты запомни. Насчет матерей… Тебя бросил отец. И у тебя вывод создается насчет отцов. Хороших отцов надо иметь.
– Их выбирают матери.
– Не принципиально выбирают. Не советуются. В старинку дивчина собирается замуж – к пастырю.
– Мы-то ведь в бога не верим.
– Зато верим в идею. И пастыри теперь не хуже.
– А я читала фельетон про попа…
– Я имею руководство в виду, ибо мы пасем подчиненных, направляя их в духовном плане. И с нами надо советоваться. Раньше никуда без совета…
– И жили? Никаких разводов? Никаких домино? Дети боялись родителей? Контролировали детей родители и, если что, – крепко воспитывали?
– А ты дивчина с юмором! Мне докладывали в порядке информации. Корабельников мурцевал жинку с дочкой. Мурцевал, кинул, кажуть, и неаккуратно платил алименты.
– Кинул – верно. В остальном – неправда.
– Мне говорил проверенный товарищ.
– Мама от меня ничего не скрывает.
– Семейную политику соблюдала. Не все, чего можно знать старшим, нужно знать детям.
– Спасибо. Я девять классов закончила и так не просветилась. Я хотела спросить: «Все рождаются равными, а откуда берутся валютчики и бюрократы?»
– Валютчики? Пишут о них в газетах… Насчет бюрократив?.. Тоже есть. Но тут, в нас, в городи, я не бачив бюрократив. Мне докладывали, что твой батька делився… Вин водил тебя в ресторан.
– Почему-то вам все докладывают про папу. Для какой цели вы интересуетесь его жизнью?
– Для воспитания треба. Зря ты пошла в ресторан. Какой положительный пример дает ресторан девушке? В театр поведи, в кино, побеседуй… Что и указывает…
– Из ресторана замечательный вид. И вкусно кормят. Я ведь погостить приехала.
– Приучивать к роскоши… Буржуазия пусть приучивает. Я смекаю так: рестораны тоже пережитки прошлого. Их давно бы позакрыли, кабы не раскидывали на них план. Недавно на активе спрашивали председателя горисполкома: «Почему не закроют автомат-закусочную на центральной площади?» Развел руками: «План». Будем, каже, стараться перекинуть план на кино або на дворцы культуры. Добре побалакали с тобой. Сдается мне – ты толковая дивчина.