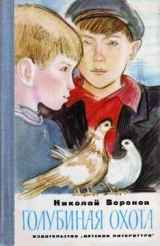
Текст книги "Голубиная охота"
Автор книги: Николай Воронов
Соавторы: Николай Воронов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
Все места на утренний самолет Ил-18 были проданы, и все пассажиры вовремя зарегистрировались.
Носильщик отсоветовал Маше идти к начальнику аэропорта, зато обнадежил подсказкой.
– Попросись у командира корабля. Авось и возьмет. Вон он. Ну, грек, коричневый. Да портфель держит, как у баяна меха. Шуруй. Упустишь.
Лепетала о больной матери. Он слушал вполуха. Маша прервала его, и он, вероятно, старался в точности удержать в памяти приготовленные слова, которые девчонка помешала ему произнести. По-прежнему глядя на своего собеседника, отказал: есть строгий закон, карающий летчиков за перегрузку самолетов. Когда она отступила, командир скосил в ее сторону буйволиные очи и спохватился, что на его корабле не хватает одной бортпроводницы. Велел покупать билет и в пути не жаловаться. Она похвастала: у нее идеальный вестибулярный аппарат! Физиономии летчиков подобрели.
На подъеме Маша быстро поняла нерасшифрованное предупреждение командира корабля: самолет ворвался в облачность и вскоре, теряя гул моторов, начал падать. В туловищах пассажиров как бы произошла усадка. Хоть Маша в прошлый рейс и приучилась не пугаться воздушных ям, боязнь, что самолет разобьется, заставила ее поджаться.
Моторный гул вернулся на надрывной ноте, отвердел, падение прекратилось. Сильно поваживало хвост. Под брюхом – молоко. Таращишься, таращишься – оно невпрогляд. А ведь внизу совсем близкая на развороте Москва.
Эшелон был задан самолету на высоте семи тысяч метров, но и когда достигли этой высоты, болтанка не кончилась: ломились сквозь горы облаков.
Командир попросил Машу раздавать пакеты и подбадривать пассажиров. Он восхищался тем, что она как стеклышко, тогда как травят даже мужчины. Признался, что, посудачивши, они с приятелем вспомнили про вестибулярный аппарат одной юной девушки и от души посмеялись.
Беленькая стюардесса сообщила Маше, что закрылся Железнодольск. Пришлось садиться в Челябинске.
Проголодавшаяся Маша наконец-то позавтракала. Узнав, что Железнодольск навряд ли скоро будет принимать самолеты, и вновь встревоженная тем, как там мама, она позвонила Татьяне Петровне.
Повезло: застала ее дома. Обычно в июле Татьяна Петровна отдыхает с мужем и детьми в горах Башкирии.
Оказалось, что Татьяна Петровна бывает у ее матери в больнице. Хоть Татьяна Петровна очень добра, да и дружит с ее матерью, в мыслях не особенно-то верилось, что она, такая грамотная, гордая, будет ходить в больницу к магазинной поломойке и грузчице.
Маша разрыдалась, еще ни о чем не спросив.
Татьяна Петровна утешила ее. Операцию Клавдии Ананьевне отменили. Она лежит, как в люльке, из-за трещинки в позвоночнике, болей нет, срастание проходит нормально. После излечения годик отдохнет, снова сможет работать. Хмырь поплатился за свою драчливость, дружинники забрали его. Но прощен – в последний раз. Клавдия Ананьевна умолила. Мать ждет тебя. На днях она сказала, что все-таки счастлива: «Дочка у меня – ни у кого лучше!»
Железнодольск, не принимавший самолетов из-за низового ветра, открылся незадолго до заката.
Летели над облаками. Эта белая безбрежность, кое-где сбрызнутая солнцем, навеивала бесконечные думы. И мнилось, нет выхода ее надежде, как, что ли, нет сейчас просвета в облаках.
Этой угнетенности предшествовало отчаяние. Оно ворвалось в душу со словами Татьяны Петровны, которые пролизывал треск громовых разрядов. Мама, мама обманула ее, свою Машу! Сроду не обманывала, и вдруг… Зачем? Ящик с маслом, огуречная шкурка… Щадила ее. Ведь знает: лучше правды ничего на свете нет. Пусть горе, зато ясность. Да как посмел Хмырь избить ее маму?! Он смеет, давно смеет. Но больше этого не будет. Обманула! А может, обманывала и раньше? Не надо, не надо… Заберу ее. Работать пойду. Школа? Университет? Ну их. Устроюсь на завод. Дадут комнату. Сразу отличусь – и дадут. А пойдет ли мама ко мне? Да она не захочет, чтобы я бросила учиться. И не просто ей уйти от Хмыря. Неужели нет выхода?
Молчание неба. Беззвучна и глуха невидимая планета. А где-то позади за тысячеверстными заторами облаков – солнце. Крикни – и не дрогнет пространство. Выпрыгни – и словно тебя и не было.
Ничего ты не можешь и не значишь в небе. И ничего ты не можешь и не значишь в Железнодольске. Тогда зачем ты? Наверно, зачем-то нужна. Все, наверно, для чего-то нужны. Работать, думать, летать… Нет, что-то произошло, происходило… А Владька, Наталья Федоровна, отец… Там, с ними, для себя и для них, она что-то начала значить. Там она была как не сама, будто на время по чьему-то доброму волшебству в ней подменили душу и ум. И скоро она станет прежней, даже становится прежней. Даже вроде начинает бояться того, что она не сможет забрать маму и не сумеет ее защитить от Хмыря. Нет, только необходимо действовать, рваться к бесстрашию. И будет счастлива мама. И конечно, и она будет счастлива. А если не будет?.. В счастье ли единственный смысл жизни? А может, высший смысл в том, чтобы не бояться несчастья и решаться на такие перемены, к которым путь на грани катастрофы, а то и в катастрофу? Погоди, погоди! Как я подумала? И можно ли так думать и следовать этому?
Пустыня облаков. Где сизо, где оранжево, где теневая синь. Барханы. Белый саксаульник. И мираж озера. Прозрачного. Да нет же: это проран в облаках. Лесная курчавина, лоскут поля, гора. И новый проран. Квадратный. И черная почва. И в воздухе черные гейзеры пыли. С чем-то сходство. А! Она и Сергей Федорович на краю лаза. Смотрят в угольную башню, на дне – отец. Он орудует длинночеренковой лопатой, а снизу, в спрессовавшуюся шихту, подают воздух, он просаживает шихту, вздувая угольные смерчи. Сон или явь? Прошлое или настоящее? К чему она летит? А может, падает? Или, может, прошло несколько лет, и мама на пенсии, и живет в комнате, полученной ею, Машей, а сама она учится в университете вместе с Владькой?
Мальчик, полюбивший слона

1
Ни во дворе, ни дома никто не принимал всерьез Геку Иговлева. Когда мальчишки гоняли оранжевый синтетический мяч, то даже не разрешали Геке стоять на воротах, хотя он был длиннорукий и длинноногий. Падал он дрябло; не скакал в ожидании удара, если игроки чужой команды бросали мяч напрорыв и, пасуясь, приближались к воротам; пропустит гол – товарищи ругают всем скопом, кто отпустит подзатыльник, кто даст пинок. Гека не защищается, не плачет, будто и не больно, не обидно. Едва игра возобновится, он уже помнить не помнит, что его бранили, обзывали, ударили, и глазеет на радиоантенны, на голубей, снежно мерцающих крыльями, на подъехавшую к гастроному машину-холодильник, аппетитно разрисованную по белой жести: из огромного рога вылетают колбасы, окорока, жареные, но почему-то веселые поросята.
Иногда для потехи сверстники заставляли Геку быть штангой и били по нему мячом с близкого расстояния, а вратарь как бы невзначай сшибал с ног.
Гека был из большой семьи. Его мать Александра Александровна рожала девочек, а отцу Александру Александровичу хотелось, чтобы она принесла сына.
Гека появился на свет через четыре года после Милки; она была самой младшей из сестер и восьмой по счету. Милка охотно и много возилась с братом. Он называл ее няней. За ним и вся семья стала называть Милку няней.
Имя ему дали Гера. Он долго не выговаривал букву «р» и собственное имя произносил так: «Гека». И привилось: Гека да Гека.
Александра Александровна испытывала к сыну неприязнь: вон сколько из-за него девок в семье. И все, кроме няни, невестами ходят, красивую одежду требуют. Ночь – дрожи: как бы с какой-нибудь чего не случилось.
Сестры родились в землянке, что особняком и выше других землянок была врыта в крутой склон Третьей Сосновой горы, где не было деревьев, но зато росли фиалки, сон-трава, заячья капуста и дикий чеснок, цветущий стрельчатыми светло-фиолетовыми цветами.
Александр Александрович был сварщиком нагревательных колодцев на огромном блюминге. Из разговоров отца с матерью Гека знал, что работа у отца жаркая-жаркая, что он следит за температурой раскаленных слитков; они чуть поменьше трамвайных вагонов и находятся в огненных колодцах, посаженные туда двурукими подъемными кранами.
Сварщики, приходившие в гости к Иговлевым, хвалили самого:
– Лучше сварщика не найдешь ни в Кузнецке, ни в Мариуполе. Слитка не оплавил, слитка не застудил.
Покамест не поднялись старшие дочери да хватало денег, Александра Александровна была домашней хозяйкой. Потом муж устроил ее через главного прокатчика маркировать слитки.
Она терпеливо переносила жгучий заводской зной и угар маркировочных красок. Потом ее перевели в подкрановые рабочие. С тех пор как она поступила на завод, голос у нее огрубел, растрескался, потому что, как однажды объяснил Геке отец, она много пила ледяной газировки и громко кричала на машиниста крана, если он неправильно выполнял ее команды.
С аванса и получки отец покупал водку. Мать варила куриный суп в ведерной эмалированной кастрюле. На закуску приносила из подвала вилок соленой капусты и маринованных маслят.
Выпивали они вдвоем. Самая старшая среди сестер учительница Алевтина Александровна не выдерживала сивушного духа.
Аннушка шла по возрасту за Алевтиной Александровной, она продавала спиртное, набаловалась, и поэтому дома ей не подавали даже в праздники.
Третья сестра, Аринка, копировщица проектного отдела металлургического комбината, гуляла с инженерами и не признавала никаких вин, кроме шампанского; остальным сестрам было рано пить.
Выпив, мать быстро хмелела, и если Гека попадался ей на глаза, то непременно сетовала, что он вареный какой-то, ни к чему не имеет способностей. Другие вон выжигают выжигателем портреты, выпиливают лобзиком рамки для фотокарточек, бегают в кружок, где собирают телевизоры, поют или танцуют…
– Погоди, Шура, выйдет еще толк из нашего сынка.
– Толк выйдет, бестолочь останется.
– Себя вспомни.
– Я такая уж корову доила. И никто из детишек надо мной не надсмехался. Заденет кулаком ли, языком ли, спуску не дам. Недотепа он, некудыка.
– Наступит перевалка. Неправда. Думаешь, спроста видит интересные сны? Неспроста. Есть в нем тайный механизм. Но реле не срабатывает. Время не наступило.
Гека испытывал безразличие к тому, что о нем говорили. Он ждал, когда отец перестанет пререкаться, посадит на колени, попросит рассказывать сны.
Никому Гека не рассказывает снов, сколько ни просят, лишь отцу да сестре Алевтине, которая считает, что он ребенок как ребенок, правда, она грозилась отдать его в школу дебилов, когда ему совсем не хотелось учиться и он получал «колы». Трезвым Александр Александрович редко разговаривал с сыном. Но когда выпьет, посадит поперек колен, пощекочет подбородком, выдохнет:
– Рассказывай.
И Гека рассказывает о том, как увидел себя среди синих гусей. Была желтая пустыня, а в пустыне синие гуси. Он полез с песчаной кучи по солнечному лучу. А гуси пели снизу ласковыми голосами, как тетеньки, которые поют по радио. Гуси попеременке взлетали к нему на луч и сыпали в карман ириски «Тузик». Он сосал ириски и лез по лучу. Лез долго-долго, сорвался и стал падать. Синие гуси превратились в пух, и он не убился.
Сон про то, как Гека стал пчелой и жил в улье, отец заставлял повторять очень часто: уважал пчел, потому что они трудолюбивые, как люди, но люди должны перенять у них характер – не враждовать в своих семьях, да и вообще между собой.
Случалось, что отец перепивал. По его лицу, как по скалам Третьей Сосновой горы, бежали вилючие ручейки. Он огненно дышал сыну в ухо.
– Столько лет ты не шел и не шел. И вот пришел. Ты должен приносить пользу, как блюминг. Один как весь наш блюминг! Ладно?
Гека плохо представлял, что такое польза и блюминг. Становилось скучно.
– Не хочу.
– Нужно.
– Зачем?
– Будут везде синие гуси.
– Синие гуси только во сне.
– Эх ты… Но я прощаю. Ветер у тебя в голове и никакого жизненного понятия.
2
Кудрявый белокурый художник свистел, сидя на раздвижной лестнице. В одной руке он держал круглое стекло, на котором блестели похожие на птичий помет кучки разноцветной масляной краски, в другой – кисть с тонким длинным черенком.
Художник рисовал пятна на спине леопарда. Художник был вертиголовым. Мазнет кистью по жести – ею обит забор – и поглядит на тропинку, протоптанную через пустырь. Заметит на тропинке девушку, еще громче засвищет.

Гека остановился около лужи, над которой возвышалась раздвижная лестница.
Он возвращался из гастронома, куда ходил за хлебом. Там в винно-водочно-соковом отделе торговала Аннушка. В кожимитовой хозяйственной сумке, надетой на Гекины плечи, лежало три буханки хлеба и два батона.
Леопард на жести получался не очень гладкий и не очень гибкий.
Веселый художник спросил у Геки:
– Сойдет?
Гека не стал врать и сказал, что леопард не очень гладкий и не очень гибкий.
– Что бы ты понимал, малыш. Впрочем, я всего-навсего старший служитель зверинца. Да… огорчил ты меня.
Гека не поверил, что он может чем-нибудь огорчить такого взрослого человека.
За забором раздался страшный рев. Гека не мог разобрать, кто ревет.
– Дядь, кто?
– Аллигатор.
– Кто?
– Крокодил.
– Обманываешь.
– Иди проверь. Впрочем, подожди. Сам отведу.
Как только Гека очутился в кольце забора, он увидел вольер с птицами. Голошеий сип трепыхал огромными крыльями. Уцепившись крючьями когтей за сетку, таращил филин желтые глаза. Железисто-рыжий страус важно ступал по опилкам. Розовый фламинго стоял на одной ноге. Веки-шторы опущены. Но, наверно, не спит. Вспоминает острова на морях-океанах.
Шли в коридоре из обезьяньих клеток. Месили глинистую грязь. Вчера был ливень.
Аллигатор лежал в стеклянном домике. От его рева домик знобило. Вода в крохотном бассейне, где мок хвост крокодила, морщилась.
Старший служитель похлопал в ладоши, но аллигатор не затворил пасть. Тогда он оттянул на себя сетку, ограждавшую стеклянный домик, и отпустил. Сетка запрыгала, засвиристела.
– Ну, чего орешь? Жратвы хватает. Ну? Тебя спрашивают? Триста лет прожил и все не доволен. Радоваться надо, балбес ты зубастый.
– Дядь, может, ему жить надоело?
– Тварям жить не надоедает. Ты слыхал, малыш, что крокодил моргает раз в столетие?
– Обманываешь?
– Опять?
– Можно, я проверю?
– На век тебя не хватит. Пойдем. Послезавтра откроем зверинец. Доставай тридцать копеек на билет и смотри с утра до ночи.
– Я немно-ожечко.
– Уговор – к клеткам не подходить.
3
Крокодил замолкал и снова горланил, но моргнуть так и не моргнул. Геке надоело за ним наблюдать. Он передразнивал желто-сине-красного попугая, а когда обогнул его клетку, то увидел слона, топтавшегося на деревянном настиле.
Слон взмахнул ушами. Задняя левая нога была схвачена петлей. Петля примкнута к цепи. Цепь продета в ушко сваи, вбитой в землю.
Он подергивал каторжной ногой, и цепь тревожно звякала. Жалко слона: спит стоя, походить нельзя и больно на плахах подошвам. Не могли поставить чуть подальше, на поляну, где мягкая мурава, наподобие коврика из пенопласта.
Навстречу Геке слон выбросил хобот; шумно потянул воздух; или хлеб учуял, или узнает по запаху, какой он, Гека, человек.
Слон начал гнуть хобот волнами. Забавляет. А может, радуется? Скучно было: привык к людям. Нет, все-таки, наверно, свежий хлеб унюхал и выступает, чтобы получить угощение.
Гека скинул с плеч сумку, отломил кусок от черной буханки, кинул на плахи.
Слон завернул хлеб в конец хобота, отправил в глубокий, как пещера в скалах Третьей Сосновой горы, рот и опять принялся приплясывать передними ногами. Видать, понимает вкус в черном хлебе. Гека тоже понимает. Черняшку приятно уплетать с жирной малосольной селедкой, полузатопленной в уксусе. А еще лакомей черняшка со сладким казахстанским луком. Взять прямо целую головку, снять шелуху, стянуть пленку, присаливать бока, фиолетовые, глянцевитые, и кусать.
В хоботе две ноздри-трубы, влажные на выходе. Через эти ноздри-трубы слон и подул на Геку, да не просто подул: провел горячей струей воздуха вокруг головы, отчего волосы поднимались и опадали так, как металлическая пыль, над которой описали магнитом круг.
Дома Геке часто хотелось, чтобы его гладили по волосам. Он подходил к Александре Александровне, готовно наклонял голову.
Она сердилась.
– Котенок выискался. Играй иди. Некогда нежничать.
Если Александр Александрович отдыхал, Гека направлялся к нему. Но и отец не гладил его по волосам, хоть они и были мягкие, как нейлоновая Аннушкина шапка. Оправдывался отец тем, будто ладони шершавы, как кокс, – волосы повыдирают.
Няня Милка подзывала Геку к себе, навивая русые пряди на пальцы, жалела:
– Зачем только они тебя выродили…
Мать ворчала на няню:
– У, потатчица. Ремня ему – не ласки, размазне.
Изредка по ночам прилаживалась бочком на Гекину раскладушку Аннушка. Крутила подбородком его волосы. То плакала: обратно кто-то обманул, то смеялась: опять кто-нибудь пообещал жениться. У Геки затворялось дыхание: он ненавидел запах белого вина, но не прогонял сестру.
Воздушные струи, которыми слон ерошил вихры мальчика, были знойны, но приятны. Мальчик замер. Гека не просил гладить волосы – он сам догадался. И ни грубостей, ни жалости, от которой ревмя ревешь. И ласковый не от горя или счастья. От доброты.
Гека зажал в кулаке выступ обломанной буханки. На корточках подобрался к настилу. Пританцовывая, слон взял хлеб. Если бы Гека не понравился слону, тот мог бы подальше распустить хобот и поймал бы за руку. Умный. Не пугает детей. Алевтина Александровна говорила, у слонов мозги весят четыре с лишним килограмма. Есть башке чем варить. Интересно, батоны ему по вкусу? Скормлю один – и хватит. Что на буханку клянчить у Аннушки, что на буханку с батоном.
Надумал, скармливая слону батон, поставить у своих ног кожимитовую сумку. Если слон и в самом деле умный, добрый и он, Гека, ему понравился, то не стащит сумку и не опорожнит.
Едва успел поставить сумку, ее как ветром подняло. Она покачалась в воздухе – петли ручек в завитке хобота – и села на настил.
Уголками-выступами на конце хобота, что ловки и быстры, точно пальцы жонглера, слон раскрыл сумку, рьяно топтался и гремел ушами. Казалось, что он торжествует сам перед собой: ну и молодец – добыл сумку, набитую ароматным хлебом.
Когда Геку обижали те, кого он не уважал, он редко плакал, но когда оскорбляли те, кто нравился, то ревел навзрыд.
Ткнулся лицом в колени. В голос не заревел: выгонят из зверинца, однако сдержаться не смог.
Вдруг что-то гладкое придавило Гекины ступни, а что-то мягкое притронулось к затылку и нежно пощекатывало шею.
Мальчик вытер глаза, догадываясь, что произошло.
Около него стояла кожимитовая сумка, в ней лежали целы-целехоньки две белых буханки и гофрированный батон.
Слон не взмахивал ушами, не пританцовывал. Он недвижно стоял и жмурился. Глаза карие, в красных паутинках кровеносных сосудов на белках. Жмурился застенчиво, будто говорил:
«Зря ты, мальчик, расстроился. Сам небось всласть озорничаешь! Разве мне нельзя побаловаться, хоть я и слон?»
«Не сердись, слон. Я виноват. Но я тебя очень люблю».
Слон начал кланяться, а взгляд стал веселый-веселый. И Гека подумал: «Раз он понял, что я сказал про себя, то теперь так и буду передавать ему свои мысли. Слон, я еще хочу угостить тебя, только я подойду поближе, и ты меня не ударь».
Гека разломил пополам батон, шагнул к настилу. И в этот момент раздался крик:
– Назад, пацан! Убьет! Назад!
Гека оторопел, потому и остался стоять в ямке с водой и грязью, куда наступил.
Наискосок от себя увидел напряженный хобот. Из хобота вырывался сердитый хрип. Гека догадался, что слон прогоняет того, кто приказывал.
– Назад, пацан!
Пусть приказывает. Гека под защитой слона. Вон у него какие огромные клыки, даже отпилили острия, чтобы не проткнул кого-нибудь.
Дядька-крикун остановился близ слоновой каторжной ноги. Взмахивал кулаками, веля Геке уходить.
Слону трудно было поворачиваться, он загибал хобот, протестующе фыркал.
В деревне Попиловке Гека видел заготовителя кож. Дядька, хотевший прогнать Геку с площадки слона, походил на заготовителя кож – пузом, натянувшим жилет, морковного цвета ковбойкой и пеньковой шляпой.
Голос крикуна привлек внимание двух служителей. До этого они подавали команды машинисту автокрана, устанавливавшего на деревянное возвышение клетки с львами и львицами.
Улыбчивые, в тельняшках служители направились враскачку к Геке.
А в это время слон полуобвил мальчика и закинул на себя. Гека испытал такой же радостный страх, как однажды в парке, когда его, пристегнутого к креслу, возносило на стреле в небо, а затем опускало к земле вверх тормашками. Когда слон переправлял к себе Геку, на спину из сумки выпали половинки батона. Хобот аккуратно подобрал их и подал Геке, но Гека отказался: батон ведь был разломлен для слона. Сырой, твердый настил лоснился далеко внизу. Сверзишься – расшибешься насмерть. Гека крепко сжал пальцами уши слона.
Гека слышал, как служители успокаивали крикуна: бесполезно волноваться, раз слон не захотел отпустить мальчика.
«Заготовитель кож» рассердился на служителей. Не они в случае чего будут отвечать. И побежал, разъезжаясь ногами по глине, туда, откуда Гека входил в зверинец; вскоре он привел старшего служителя. Тот взглянул на слона, потом – на Геку, покачал кудрявой головой и попросил «заготовителя кож» удалиться.
Едва крикун ушел, старший служитель приказал Гоге – так он назвал слона – снять с себя мальчика. Гога эластично гнул хобот и кланялся служителю. Наверно, умолял не трогать их с Гекой.
По требованию служителя слон опустился на колени, позволил снять мальчика.
Служитель подал Геке сумку и велел уходить.
Гека спрятался за клеткой попугая, которого давеча передразнивал, дождался, когда служитель ушел дорисовывать леопарда, и побежал к слону.
Гога затанцевал колоннами передних ног, как только опять увидел мальчика.
4
Обычно Геку тянуло к сестре в гастроном: то напьется вишневого соку, то медяков получит на мороженку.
Сейчас он шел в гастроном без охоты. Огорчит Аннушку. И придется рассказать при покупателях, куда девал хлеб.
В Аннушкин отдел длинная очередь. Подвезли пиво. Гека пристроился за женщиной в шелковом платье, холмистой от толщины.
На мраморный прилавок падали жестяные пробки, которые сестра ловко сковыривала с бутылок.
Сначала Гека увидел Аннушку, затем старшего служителя, приткнувшегося бедром к прилавку. Или служитель наблюдал, чтоб никто не лез без очереди, или подсыпался к Аннушке. Она хоть и скуластая и с боксерским подбородком, в котором будто дырочка высверлена, но с ней, когда бы ни прибежал, обязательно разговаривает кто-нибудь из дяденек. Не просто разговаривает – на свидание напрашивается.
Старший служитель спросил, куда съездить на этюды, где была бы мощная природа, но Аннушка не успела ему ответить: отвлекала Гекина плаксивая просьба.
– Ань, дай рупь шесть.
– Зачем еще?
– Нужно.
– Скажи зачем.
– После.
Старший служитель взворошил чубик мальчика.
– Брат?
– Брат. Скажешь после, после и деньги получишь.
– Ань, ну дай рупь шесть.
– Один рубль шесть копеек – это по-старому десять рублей шестьдесят копеек. Пей, – она поставила перед братом стакан вишневого сока. – И беги домой.
Старший служитель скосил глаза в темную, пустую глубину кожимитовой сумки. Засмеялся, полез в карман.
Очередь зароптала, упрекая Аннушку за то, что она взяла привычку судачить с молодыми людьми.
Аннушка так грозно посмотрела на Геку, что он мгновенно отскочил от прилавка к распахнутой двери и не оглянулся на зов старшего служителя.
5
Прямо в прихожей Александра Александровна спросила сына, почему он долго отсутствовал. В горле у нее клохтало. Не жди прощения: отлупит.
Гека молчал. Она ударила его по щеке и потащила в ванную комнату. Топала. Хлестала бельевым шнуром. От крика ее зоб вздувался.
Александр Александрович подергивал закрытую на щеколду дверь. Просил жену уняться.
Смелей действовала няня Милка. Тарабанила кулаками по фанерной обшивке, гневно предупреждала, что мать сделает Геку совсем никудышным.
Пока не узнала, куда девал хлеб, Александра Александровна била сына шнуром.
Давя на его плечи, заставила стукнуться на колени. Предупредила: не попросит прощения – будет стоять на коленях целые сутки. Няню, рвавшуюся в ванную комнату, надергала за челку и поставила рядом с Гекой на шершавый бетонный пол. Задвинула ударом ладони дверной шпингалет.
Вернулась из школы Алевтина Александровна. Узнала от отца, что произошло. Освободила брата с сестрой, уснувших на полу.
Мать покорялась лишь Алевтине Александровне: строгая, что твоя игуменья, образованная и умеет как надо обходиться с детьми.
Перед рассветом к Геке на раскладушку прилегла Аннушка. Она была холодная, как мраморный прилавок в ее винно-водочно-соковом отделе. И Гека начал брыкаться. Но едва она прошептала, что старший служитель – звать Аркадий, фамилия Зименков – наказал передать ему: «Пусть приходит в зверинец в любое время», – Гека смилостивился и старался не засыпать, пока сестра рассказывала, как провела вечер с Аркадием в ресторане, сколько много занятного он знает про разные города и всякие моды и обычаи.
6
Утром Александра Александровна и Александр Александрович ушли на работу. Деньги на хлеб оставили не Геке, а няне. Он хотел выманить у нее четырнадцать копеек на кирпичик черняшки, но ничего не получилось: она боялась, что мать, злая со вчерашнего, выдерет обоих.
Зато няня и выручила Геку. Насыпала в капроновый пакет овсянки. Оказывается, слоны ее любят. И надоумила нарвать травы: тоже слоны едят, да еще со смаком.
К зверинцу он пришел, неся на плече рюкзак, набитый муравой, ржанцом, серебристым мятликом.
И ворота и калитки, примыкавшие к ним, были заперты. За кольцом забора орал крокодил. Гека слонялся под солнцем вокруг свинченных болтами и обитых жестью щитов, ловил голоса служителей. Ни разу не донесся веселый, акающий говор Аркадия Зименкова.
Устав от жары, Гека полежал в тени, потом пошел вдоль забора, с отчаянием выкрикивая:
– Дядь Аркаша, пусти!
Из калитки появились служители, одетые в тельняшки.
– Уходи, мальчик. Директор не велит пускать. С Гогой шутки плохи. Он в цирке выступал, и дрессировщик чем-то его обидел. Так он хотел пригвоздить дрессировщика в своем стойле. Разбежался и… ладно дрессировщик отскочил. Гога так и пронес бивнями стену.
– Меня не тронет.
– Не тронет, так уронит. Не уронит, так ногу оттопчет.
– Позовите дядю Аркашу.
– Директор запретил. Строго-настрого.
Они исчезли. Лязгнул засов.
Гека бил пяткой в калитку, но никто не отзывался. Потом он валялся в траве. Смотрел на рекламного леопарда. Леопард воздушно крался под пальмами.
Из калитки выглянул директор-крикун. Гека вскочил и наутек. Добежал до сквера и юркнул в акации.
Оттуда было видно, как директор повернул на проспект Металлургов. Наверно, отправился обедать в пирожково-блинную.
Гека бросился к зверинцу. Толкнул калитку. Дядя Аркаша – он расчесывал гриву зубробизона – разрешающе махнул гребнем в сторону слоновой площадки.
Гога разинул розовый рот: разулыбался до ушей. Танцевал пуще вчерашнего. Овсянку он съел вместе с капроновым пакетом. Мальчик было встревожился, но, взглянув на брюхо слона, успокоился: не то что пакет – резиновый дождевик переварит.
Траву слон слопал с удовольствием и обсыпался отрубями, замоченными в колоде. Замлел он на жаре. Кожа серая, то ли от грязи, то ли цвет такой.
Гека спросил Аркадия, как помыть слона. Аркадий, насвистывая по-скворчиному, принес и поставил на настил бадью воды, и Гога стал обливаться.
Мальчик помечтал:
– Шланг бы сейчас!
Аркадий раскатал пожарную кишку, прикрепил к ней медный наконечник.

В слюдянистой вышине струя распадалась, сыпалась на Гогу и Геку.
Чтобы чище вымыть слона, мальчик направил воду, окруженную радужным бусом, в его твердую кожу. А слон, наверно, думал, что и Геке пора купаться, и он окатывал его из хобота.
Вдруг кто-то схватил Геку за уши. Мстительно схватил. Сжал верхушки ушей ногтями и давил, давил. Боль огнем отдавалась в голове, но мальчик не заревел: еще унижаться перед врединой, разволнуешь Гогу.
Слон вскинул хобот и захрипел в яростной тревоге. Тотчас заверещали обезьяны, рявкнул лев, гнусаво замяукал камышовый кот.
Прибежал Аркадий. Освободил Геку. Рассвирепевшего крикуна повел к автофургону, отчитывая за жестокость и за непонимание слоновой натуры: Гога может так сильно взвинтиться из-за мальчика, что порвет цепь, растопчет уважаемого товарища директора и расшвыряет зверинец.
Слон долго не спускал с автофургона карих, налившихся кровью глаз.
И в тот день он закинул Геку на себя.
Мальчик сидел во впадине между туловищем и башкой, поражавшей огромностью и величиной лобных холмов. Он действовал пятками, как шпорами, дергал за лопухи ушей, понукал:
– Н-но, милай.
Служители в морских тельняшках завидовали ему.
7
В сумерках Аркадий проводил мальчика за калитку.
Гека ударил себя лямками рюкзака, поскакал коняшкой. Он скакал торопко, сбивчиво. Радость была слишком велика, и он попробовал перевернуться через спину, но неловко оттолкнулся: не на ноги попал – распластался.
Вставал кряхтя: никак не дышалось. В отшибленных пятках кололо.
Чье-то снизу поддерживающее прикосновение к локтю. Дядя Аркаша! Ой, нет. Крикун!
Рванулся. Удрать не удалось. Цепок директор.
– Не дойдешь до дому. Помогу.
– Сам.
– Не спорь. Святая обязанность взрослых помогать детям.
Откуда он взялся? Внезапно, как колдун. Дурачок я. Он за углом зверинца ждал. А я рядышком растянулся.
Гека расслабил мышцы руки. Пусть директор думает, что он ему поверил.
Остановились возле телефонной будки. По шоссе, надвое разделенному мозаикой брусчатки, в которую вмурованы рельсы, мчались машины.
Директор пошевелил занемелыми пальцами: уж очень крепко, как в гайке, был зажат в его ладони локоть мальчика.
Гека порхнул в просвет между трактором-экскаватором и платформой, везшей железобетонную ферму.
Чуть не попал под трамвай. Вовремя отпрянул, и тот прогремел впритирку с ним. На другой половине шоссе сначала едва не угодил под кривоколесный чехословацкий грузовик, потом – под автоинспекторский автобус, уговаривавший водителей соблюдать правила уличного движения.
Гека не сообразил, куда бежать, и кинулся к своему корпусу. На поляне, где шла игра в футбол и где для потехи Геку заставляли быть штангой, его настиг крикун.
Вокруг загалдели ребята. Они совсем не предполагали, что Геку-тюхтяя может кто-нибудь ловить, поэтому и не подумали о том, чтобы его выручить, а наперебой спрашивали, что он сделал.
– Он, па-ан-нимаете ли, к слону повадился.
Директор задыхался: догонял на пределе сил.
– У сло-она под ногами лазил. И сид… сидел на нем и пры-ыгал. Сло-он не осел. Упал – мокрое место. Где живет? Покажите.






