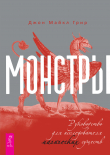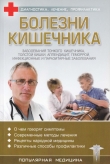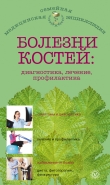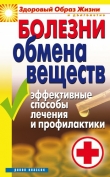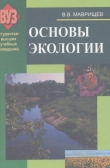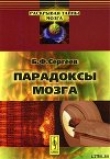Текст книги "Невидимый современник"
Автор книги: Николай Лучник
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)

Глава III
Стрельба по мишеням

Коль скоро недочет в понятиях случится,
Их можно словом заменить.
Гёте, «Фауст»
Чудеса в решете
– Пшеница превращается в рожь!
– Береза в осину!
– Пеночка в кукушку!
– Вирусы – стадия развития бактерий!
– Клетки возникают из неклеточного живого вещества!
И так далее…
Увы, не в средние века, а в середине нашего века люди с научными дипломами выступали с подобными утверждениями. «Мода» была такая. Во всех областях биологии находились этакие доморощенные колумбы. Были они и в радиобиологии.
Например, один… действительный член двух академий выступил с сенсационным открытием, что растения способны разделять изотопы. Шутка ли! Ученые ломают головы, тратят миллионы для создания установок, разделяющих изотопы, а растения – пожалуйста! Причем речь шла не о тяжелой воде; атомы водорода как-никак, несмотря на те же химические свойства, вдвое тяжелее обычных. Нет, любые изотопы растения разделяют, и дело именно в том, что они предпочитают радиоактивные атомы тех же элементов обычным. Потому что те же результаты получались с радиоактивными изотопами разных элементов.
Приводилось описание опытов, цифры, фотографии… Чего уж больше? Почему я говорю об этих работах столь иронически? Ведь я не ставил опытов, чтобы проверить результаты. И никто не ставил специально таких опытов. Вы меня можете упрекнуть в консерватизме и даже кое в чем похуже. Разве можно, не имея в руках новых и более точных фактов, возражать против чьих-то результатов?!
Но здесь случай, прямо скажем, своеобразный. В самом деле, о чем идет речь? Растения умеют отличать радиоактивные изотопы от нерадиоактивных. А что такое радиоактивный атом? Это атом, который когда-то, один-единственный раз в своей жизни, выбросит радиоактивную частицу и… умрет, превратившись в другой атом. Вот, к примеру, радиоактивный фосфор. Атом как атом, только процента на три потяжелее обычного. Но из него вылетает электрон (бета-частица), и атом радиоактивного фосфора превращается в атом обыкновенной серы.
Что же означает приведенное выше утверждение? Ни больше, ни меньше как то, что растение знает, что данный атом распадется в будущем! Ведь именно это и определяет его радиоактивные свойства. Согласитесь, что утверждение относится к категории таких, которые не подлежат серьезному научному обсуждению.
Однако мало ли что? Может, дело не в этом, а в чем-нибудь другом, и стоит все-таки проверить. Вдруг здесь кроется великое открытие!
Не нужно проверять. Надобности нет потому, что хотя никто не проверял специально этих результатов, но тем не менее это сделано независимо в тысячах опытов. Давным-давно существует метод меченых атомов, основанный на том, что радиоактивные и нерадиоактивные атомы одного и того же элемента ведут себя совершенно одинаково (некоторое исключение составляет водород). И конечно, прежде чем метод вошел в практику, он был проверен в точнейших опытах. А каждый новый опыт приносит дополнительное подтверждение.
Так в чем же дело? – спросите вы. – Как появились такие статьи? Тут, уж увольте, следствия вести не собираюсь. Но ясно одно: утверждение не соответствует истине, так же как и приводимые результаты.
А бывает и иначе. В опытах все чисто, и результат вполне естественный, а считаться с ним нельзя. Странно? Но это азбука экспериментальной науки.
В конце 40-х годов радиобиологи открыли, что некоторые вещества, если их дать животным перед облучением смертельными дозами, снижают процент гибели. При введении после облучения эти вещества оказывались неэффективными. Но вот один французский ученый (довольно известный) опубликовал статью, в которой утверждал, что введение после облучения кроликам раствора цистеина и аскорбиновой кислоты снижает их смертность вдвое!
Я в то время начинал свой путь в науке и как раз занимался противолучевыми веществами. Ясное дело, нужно проверить. Беру белых мышей. Облучаю их, ввожу «французскую смесь» в том же количестве на единицу веса животного и жду… Ждать приходится недолго. Часть животных гибнет от «смеси» (концентрации обоих веществ в ней высоки), остальные мрут от лучевой болезни, но раньше, чем контрольные, которым ничего не вводилось.
Что-то не так! Повторяю опыт, меняю дозировку веществ, но в лучшем случае «французская смесь» не влияет на смертность. Может быть, мыши – исключение? Облучаю крыс – тот же результат, что и с мышами. Очевидно, нужно работать на кроликах, думаю я. Но кроликов в лаборатории нет, и я не ставлю дальнейших опытов. Подожду следующих статей. Конечно, многие должны обратить внимание на французскую работу и повторить опыты.

Однако время идет, а статей не появляется. Только через несколько лет вышел большой обзор работ по противолучевым веществам, написанный американцем Гарвеем Паттом. В этом обзоре я нашел ссылку и на французскую статью, доставившую мне столько хлопот. А после упоминания этой работы Патт пишет: «Я проверил это утверждение в опытах на большом числе крыс и кроликов и получил только отрицательные результаты». Теперь понятно, почему не было специальных публикаций о «французской смеси».
Чем же объяснить результат первой работы? Автор – честный человек и опытный экспериментатор. А ведь у него в контроле погибли все животные, а в опыте 50 процентов выжило! В те времена я делал первые шаги, и мне бросились в глаза именно проценты. Теперь я прежде всего задал бы вопрос: а что скрывается за этими процентами, насколько достоверен полученный результат?
В статье все написано честно. В каждой группе было по шесть кроликов. В одной погибли все шесть, в другой – только три. А нельзя ли получить такой результат чисто случайно, облучив две группы по шесть животных и никому ничего не вводя? Теория вероятностей может дать совершенно точный ответ. Беру карандаш и бумагу… В столь скудном опыте такой или даже большей разницы следует ожидать в одном случае из десяти! Значит, есть все основания считать, что разница в опыте была случайной, не связанной с введением «французской смеси»…
Лучевой яд
Из крыс можно сделать «сиамских близнецов»: взять двух животных и сшить их бок о бок. Ученые называют таких «двойных» животных парабионтами и используют в опытах. Экспериментировали с ними и радиобиологи. Оказалось, что, если облучить только одного из «близнецов», признаки лучевой болезни развиваются у обоих. Правда, у крысы, которая не была непосредственно облучена, болезнь проходит в более легкой форме. С другой стороны, и облученная крыса страдает меньше, если к ней «пришит» необлученный партнер. Они как бы делят поражение друг с другом. Сходная картина наблюдается даже, если операцию произвести сразу после облучения одного из животных.
На первый взгляд такие результаты могут показаться еще более неправдоподобными, чем утверждение о способности растений разделять изотопы. Но только что рассказанное – твердо установленный факт. Можно привести примеры и других опытов, говорящих о том, что радиация способна действовать на расстоянии, повреждать организмы и клетки, непосредственно не подвергавшиеся облучению.
Облучим животному, скажем, заднюю ногу и посмотрим, что происходит в совершенно другом месте, например в глазу. Окажется, что и в необлученном органе изменения есть. Глаз я выбрал потому, что клетки роговицы относятся к числу довольно быстро делящихся и изменения в них легко наблюдать. Мы увидим, что темп клеточного деления в роговице изменился, а в заметном проценте случаев оно происходит ненормально.
Еще пример, на этот раз с бактериями. Не будем их вообще облучать. Облучим только питательную среду, на которой разводят бактерий, и произведем посев. «Урожай» соберем неполный: часть бактерий погибнет под влиянием облученной среды.
Можно было бы продолжать приводить примеры, но и этих достаточно, чтобы показать: под влиянием радиации образуются вещества, которые иначе, как лучевые яды, и не назовешь. Ученые употребляют те же слова, но нерусского происхождения и говорят: радиотоксины. Что они собой представляют? Заранее можно сказать, что скорее всего это не какое-то определенное соединение, ведь клетки содержат огромное количество разных химических веществ, а радиация способна видоизменить любую молекулу.
Особенно много для изучения радиотоксинов сделали советские ученые. Они показали, что существуют именно радиотоксины, а не радиотоксин. Так, изменения жировых веществ в облученных организмах в течение нескольких лет исследует со своими сотрудниками Борис Николаевич Тарусов. Им удалось показать, что под влиянием облучения увеличивается содержание окисленных жирных кислот, которые обладают свойствами радиотоксинов. Совершенно другие вещества, относящиеся к группе хинонов, привлекли внимание Александра Михайловича Кузина и его сотрудников. С их выводом об образовании этих веществ в облученных тканях и токсическом действии также не приходится спорить. Что же получается: противоречие? Ничего подобного, обе группы работ дополняют одна другую.
Для ответа на вопрос о механизме биологического действия радиации прежде всего нужны факты, причем факты вполне достоверные.
Гипотезы, гипотезы…
Что может быть заманчивее для ученого, чем создать теорию или, на худой конец, хотя бы предложить гипотезу? В радиобиологии, особенно в течение ее младенческого периода, недостатка в гипотезах не ощущалось.
Вначале почти каждый новый факт приводил к рождению гипотезы. И, совершенно естественно, биохимики предлагали биохимические гипотезы, физиологи – физиологические, физики – физические (впрочем, последних почти не было).
…Под влиянием радиации нарушается естественное равновесие между ферментами, распад начинает преобладать над синтезом и происходит автолиз, то есть, образно выражаясь, клетки начинают сами себя переваривать…
…Лецитин (вещество жировой природы, присутствующее в клетках) при облучении превращается в холин, который является ядом. И опыты действительно показывают, что лецитин разлагается при облучении и что продукты его распада, так же как и холин, вызывают поражения, похожие на лучевые.
…Один из наиболее известных эффектов облучения – эритема (покраснение кожи). Эритема возникает при выходе из клеток гистамина… Значит, «вся сила в гистамине». Ставятся опыты, которые в какой-то степени подтверждают гипотезу…
…Облучение нарушает водно-солевое равновесие, значит, все дело именно в этом…
…Причина биологического действия радиации – денатурация (изменение) белковых молекул…
…Лучевая болезнь связана с поражением системы гипофиз – кора надпочечников…
Стоит ли продолжать? Нет, не стоит. Потому что, перелистывая комплекты старых радиологических журналов, можно продолжать список почти сколько угодно. Об этих старых работах давно забыли. Забыли настолько, что время от времени новый ученый совершенно независимо пять, десять, а то и сорок лет спустя высказывает точно такую же гипотезу (с теми же последствиями).
Эти и многие-многие другие гипотезы умерли по двум причинам. Первое: вопрос о том, что причина и что следствие. В больном организме можно найти какие угодно изменения, но это вовсе не значит, что они являются причиной болезни. Второе: под влиянием облучения могут произойти практически любые изменения, если применить достаточно высокую дозу. Вот в этом все дело! Если говорить о том, что, скажем, под действием облучения может возникнуть определенное токсическое вещество, то нужно прежде всего доказать, что оно образуется в достаточном количестве при не слишком высоких дозах. К сожалению, авторы большинства гипотез не очень-то считались с этими двумя обстоятельствами.
«Прошу поднять руки»
На международном съезде химиков в немецком городе Карлсруэ разгорелись страсти. Одни настаивали на том, что все вещества состоят из атомов, другие кричали, что атомы – чистейшая выдумка (как нетрудно догадаться, дело происходило в прошлом веке). Ни одна из сторон не могла убедить другую, и в конце концов председатель поставил вопрос на голосование.
– Кто за то, что атомы существуют, прошу поднять руки.
Поднялся лес рук.
– А кто за то, что атомов не существует?
Поднялось примерно столько же рук. Пришлось пересчитывать. В итоге признали существование атомов, но с очень небольшим перевесом.
Можно в шутку фантазировать на тему, а что, если бы несколько сторонников атомов не явились на заседание и верх взяли бы их противники? Ведь тогда не было бы ни атомных бомб, ни многого другого.
Но, конечно, научная истина выясняется не голосованием. А также и не административными мерами. Хотя, увы, порой находятся сторонники утверждения научной истины с помощью средств, не имеющих никакого отношения к научным методам исследования. Бывает, что они в силу тех или иных причин «получают большинство голосов». Но этого хватает ненадолго. Поэтому, если бы на памятном голосовании в Карлсруэ большинство получили противники существования атомов, на истории науки это не сказалось бы. Могли бы лишь незначительно сместиться во времени даты некоторых открытий.
Бывало такое и в радиобиологии. Печальный период, когда с помощью административных мер «упразднили» генетику, а всю физиологию и медицину пытались выводить из реактивности центральной нервной системы, не прошел безболезненно и для нашей молодой науки.
Проблема механизма биологического действия радиации и сейчас еще не до конца ясна. Лет пятнадцать-двадцать назад неясностей было еще больше. А может, решить проблему запросто, с помощью голосования? Так и сделали.
На расширенной сессии двух крупных институтов провели дискуссию и приняли решение. Оно начиналось словами: «Лучевая болезнь есть нервно-дистрофический процесс, развивающийся при воздействии достаточно больших доз проникающего излучения…»
Если вы внимательно читали предыдущую главу, вас такое определение, несомненно, удивит. Да, скажете вы, при облучении во время внутриутробного развития, когда закладывается и формируется нервная система будущего организма, она очень чувствительна, но у взрослых организмов (да не только у взрослых, вообще после рождения) нервная ткань относится к числу наименее чувствительных к радиации.
Но что делать… В те годы великий физиолог Иван Петрович Павлов переворачивался бы в гробу, если бы это было возможно. Ведь тогда абсолютно все стремились свести к «учению Павлова о высшей нервной деятельности». А если факты говорили против большого значения центральной нервной системы, тем хуже для фактов. Десятки и сотни работ можно обвинить в идеализме, механицизме, вирховианстве и т. д. и т. п.
Вспоминаю, как я сидел в зале заседаний Первой всесоюзной конференции по медицинской радиологии. Дело происходило в 1955 году – через несколько лет после «решения» о лучевой болезни. На пленарном заседании делал доклад академик Леон Абгарович Орбели (ныне покойный), крупнейший физиолог, талантливейший ученик и продолжатель дела Ивана Петровича Павлова. Он говорил о действии радиации на живые организмы. И, будучи честным и принципиальным человеком, отвел в своем докладе центральной нервной системе место, которого она заслуживала, то есть довольно скромное.
И, конечно же, получил записку с просьбой поставить точки над «и» и высказаться ясно и определенно, что он думает о ведущей роли центральной нервной системы при лучевой болезни. Леон Абгарович был не только принципиальным, но и остроумным. Он ответил:
– Конечно же, я признаю ведущую роль центральной нервной системы при лучевой болезни. Если человек заболел, то центральная нервная система должна вести его к врачу. А центральная нервная система врача должна ему говорить, что делать с больным.
Зал ответил громом аплодисментов.
Леон Абгарович был против пустых слов. Он говорил о необходимости создания такой теории, которая дала бы, наконец, ответ на два основных вопроса радиобиологии. Пора и нам заняться теорией, а для этого прежде всего уяснить, на какие вопросы должна эта теория ответить. Что в конечном счете нуждается в объяснении?
Возьмем карандаши
Мы уже знаем, как действуют разные дозы ионизирующих излучений на млекопитающих. Нам, в частности, известно, что доза в тысячу рентген для них, безусловно, смертельна. Но что такое «тысяча рентген»? Много это или мало? По определению, один рентген – это такое количество лучей, которое в одном кубическом сантиметре нормального воздуха (при нормальном давлении и при температуре 0 градусов) образует одну электростатическую единицу заряда каждого знака.
Значит, 1000 рентген – это 1000 электростатических единиц на кубический сантиметр воздуха. А так как живая ткань примерно в тысячу раз плотнее воздуха, то при ее облучении будет образовываться примерно по миллиону электростатических единиц на каждый кубический сантиметр (или на грамм, так как удельный вес животных близок к единице). Чтобы получить энергию, поглощенную всем организмом, нужно этот миллион умножить на вес в граммах. Так что одна и та же доза 1000 рентген оставит в теле мыши меньшую энергию, а в теле слона гораздо большую. Но во всех случаях получаются как будто очень большие цифры – по крайней мере миллионы. Но так ли это много?
Мы знаем, что все виды энергии переходят друг в друга. Тепловую энергию угля или механическую падающей воды превращают на электростанциях в электрическую, а потребители переводят электрическую энергию снова в тепло или в свет. Физики точно знают, какое количество энергии одного рода соответствует определенному количеству другого, например, сколько калорий даст один киловатт, если его перевести в тепло. Поскольку рентген тоже единица энергии, можно дозу вместо непривычных рентген выразить в эквивалентных количествах любой другой энергии, чтобы иметь дело со знакомыми единицами.
Для этого я и попросил вас взять карандаши. Конечно, просьба моя чисто символическая. Перед тем как писать эту главу, я сам взял карандаш, бумагу, физический справочник и произвел необходимые расчеты. Вам остается только познакомиться с их результатами.
Итак, рассмотрим дозу в 1000 рентген. Она, безусловно, смертельна для всех млекопитающих. Как мы уже видели, энергия, поглощенная организмом при облучении этой дозой, будет зависеть от его размеров, так что нужно остановиться на чем-то определенном. Самое естественное – провести расчеты для человека среднего веса, около 70 килограммов.
Самая распространенная и самая понятная энергия – тепловая. Поэтому прежде всего посмотрим, на что годится тепло, которое мы получили бы, превратив в калории ту энергию, которую человек получит при заведомо смертельном облучении дозой в 1000 рентген. Сразу поставим себе задачу поскромнее. Не будем двигать паровозы или заставлять работать крупную теплоцентраль. Согреем чай. Увы, даже это невозможно. Энергия, которую мы получили, сможет поднять температуру стакана воды всего лишь на один градус! Маловато…
Но, может быть, превращение в тепло невыгодно? Хорошо, переведем ту же энергию в электричество. Причем, как и во всех прочих случаях, будем это делать «на бумаге», чисто теоретически, без учета потерь, которые совершенно неизбежны на практике. Итак, превращаем рентгены в киловатт-часы! Увы, мы не получим ни одного киловатт-часа. Наша энергия сможет питать слабенькую 25-свечовую лампочку в течение полуминуты.
Правда, живой организм не машина. Энергии, которые используются в живых клетках, несравненно меньше тех, что вращают роторы электромоторов. Хорошо, сделаем предпоследний расчет: определим, на какое время хватит нашей энергии, чтобы поддерживать жизнь человека (конечно, если полностью превратить ее в «полезную» энергию). Ответ: на шесть секунд.
И наконец самый последний расчет, поскольку, кто знает, может быть, лучистая энергия имеет какие-то особенности. Переведем энергию гамма-лучей в солнечную (причем будем учитывать не только видимые лучи, но и невидимые – ультрафиолетовые и инфракрасные). Представьте себе, что вы лежите на пляже и загораете. За какое время ваше тело получит энергию, эквивалентную 1000 рентген? Всего за две секунды. А иные любители лежат на солнце часами!
Итак, как ни рассчитывай, энергия получается мизерная. Мегатонны тротила, которым эквивалентен атомный взрыв, к делу не относятся. За счет этой энергии в непосредственной близости от эпицентра все стирается с лица земли.
Значит, дело в особенностях биологического действия ионизирующих лучей. Именно поэтому и существует радиобиология в виде отдельной науки. И одна из главных ее задач – объяснить, почему столь малые дозы ионизирующей радиации приводят к столь драматическим биологическим эффектам.
Давайте сравнивать
Чтобы убить человека (или мышь, или слона – любое млекопитающее), достаточно нескольких сотен рентген. Но ведь от стакана чая наш организм получает в несколько раз большее количество энергии.
А не так давно во многих журналах и даже в некоторых газетах появилось сообщение, что внутри атомного реактора живут бактерии. Живут и благоденствуют. Этот новый для науки вид получил название «Микрококкус радиодуранс», что значит радиоустойчивый.
Чувствительность к ионизирующим лучам очень различна. Отличаются друг от друга по чувствительности не только разные виды, но и разные органы, разные клетки одного и того же организма.
Еще в 1905 году два французских ученых сформулировали правило: клетка тем чувствительнее к облучению, чем выше ее способность к размножению, чем дольше она находится на стадии деления и чем меньше специализирована. Французов звали Бергонье и Трибондо. Часто их имена упоминали в радиобиологической литературе. Многие возводили правило в ранг закона и писали о «законе Бергонье и Трибондо». Другие находили исключения и говорили о «так называемом законе Бергонье и Трибондо», или о «пресловутом законе Бергонье и Трибондо».
Но правил без исключения не бывает. Есть они и у правила Бергонье и Трибондо. Однако прошло уже более полувека, и сейчас можно этому правилу (а ежели хотите – закону) дать объективную оценку. Много делалось попыток найти общие закономерности изменения радиочувствительности. Некоторые правила оказались справедливыми, о многих забыли, потому что они вполне стоили этого, но правило Бергонье и Трибондо остается в силе.
Действительно, посмотрим, как отличаются по радиочувствительности разные клетки человека. Если мы попытаемся расположить ткани и органы человека в порядке возрастания их чувствительности к облучению, то получим следующий ряд:
Нервная ткань
Хрящевая и костная ткань
Мышечная ткань
Соединительная ткань и сосуды
Щитовидная железа
Пищеварительные железы
Легкие
Сердечная оболочка
Эпидермис (то есть кожные покровы)
Потовые и сальные железы
Волосяные сосочки
Слюнные железы
Слизистые оболочки
Яичники, семенники
Лимфоидная ткань, костный мозг, зобная железа.
Бросается в глаза, что в начале списка стоят ткани, взрослые клетки у которых вообще не делятся, в конце – с особенно быстро делящимися клетками. Вначале стоят более специализированные ткани, в конце – менее специализированные.

Рассмотрение списка делает понятной картину, которую мы наблюдали в опыте по изучению лучевой болезни. Наиболее чувствительны кроветворные органы; и действительно, их поражение оказывается самым важным при действии небольших доз. Очень чувствительны также половые железы и зобная железа. Но их поражение не может вызвать смерти или даже существенно изменить общее состояние организма. Дальше идут слизистые оболочки. И при несколько более высоких дозах решающее значение приобретает как раз поражение слизистых оболочек тонкого кишечника. И так далее.
Разная чувствительность клеток имеет большое практическое значение. Ведь применение радиации для лечения злокачественных опухолей на том и основано, что раковые клетки относятся к числу радиочувствительных. Впрочем, это и следовало ожидать на основании правила Бергонье – Трибондо. Эти клетки характеризуются повышенной способностью к размножению и слабой степенью специализации.
Еще большие различия в радиочувствительности обнаружатся, если сравнивать не разные клетки одного и того же организма, а разные организмы. Ученые ставили опыты со многими сотнями, если не тысячами, разных видов животных, растений и микроорганизмов. Вот некоторые примеры среднелетальных доз:
Вирус табачной мозаики 250 000 рентген
Бактериофаг кишечной палочки 420 000
Бактериальные споры 120 000
Кишечная бактерия 7500
Хлорелла (водоросль) 18 000
Дрожжевые грибки 30 000
Кукуруза 4000
Очиток 75 000
Традесканция 750
Амеба 100 000
Инфузория 35 000
Улитка 20 000
Плодовая мушка, взрослая 95 000
Плодовая мушка, личинки 130
Плодовая мушка, яйца 150
Золотая рыбка 670
Лягушка 700
Черепаха 1500
Змея 82 000
Курица 1000
Мышь 600
Собака 300
Обезьяна 500
Интересный перечень, не правда ли? Прежде всего ясно видно, что смертельные дозы для разных организмов варьируют в исключительно широких пределах: от сотни рентген почти до миллиона! Можно заметить также, что чем сложнее организм, тем, как правило, он оказывается более чувствительным. Но это лишь тенденция, не больше. Так, среди высших растений мы находим очень устойчивый очиток, способный выдержать бóльшие дозы, чем бактерия, и традесканцию, которая по чувствительности стоит рядом с млекопитающими.
Кроме того, нужно обратить внимание на сильную зависимость чувствительности от стадии развития. Споры значительно устойчивее самих бактерий, а яйца насекомых, наоборот, гораздо чувствительнее взрослых особей. Это отнюдь не противоречие. Ведь яйца насекомых – стадия, где происходит очень быстрое размножение клеток, а спора – состояние глубокого покоя.
Может вызвать удивление, что в таблице нет человека. Но он не составляет исключения среди прочих млекопитающих. Да и для него смертельная доза известна не особенно точно. Если человек случайно подвергался смертельному облучению и даже была довольно точно известна доза, никто не смотрел, когда больной скончается, а делалось все возможное, чтобы спасти ему жизнь. Обычно считают, что среднелетальная доза для человека – около 500 рентген.
Столь большие различия в радиочувствительности разных организмов, органов, стадий развития требуют своего объяснения. И причины резкой радиочувствительности – второй из основных вопросов радиобиологии, на которые должна дать ответ теория. Он очень важен и с практической стороны. Ведь если бы удалось по своему желанию изменять радиочувствительность живых организмов и их клеток в той же степени, как это имеет место в природе, это значило бы, с одной стороны, сильное уменьшение опасности радиации для человека, с другой – почти фантастические успехи в борьбе с некоторыми заболеваниями…
Сорок сороков
Итак, нужно найти ответ на два вопроса: почему при облучении живых организмов столь малые количества энергии дают столь большой эффект и почему чувствительность живых клеток к облучению может так сильно варьировать? Казалось бы, естественный путь для поисков ответа на оба вопроса состоит в изучении биохимических и физиологических процессов в облученных организмах. Исследуя их, найдем изменения, вызванные радиацией, и задача тем самым будет решена. Увы, все не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Ведь для ионизирующих лучей нет преград: они проникают в любое вещество и на любую глубину. Значит, оставляют свою энергию во всех органах животного, во всех клетках, во всех частях клетки. Радиация отдает свою энергию веществу путем ионизаций, причем ионизируются любые атомы. Стало быть, под влиянием облучения должны измениться разнообразнейшие химические вещества, входящие в состав всех клеток живых организмов.
Это общие соображения. Но так оно оказывается и в действительности. Радиация вызывает массу изменений и в физиологических и в биохимических процессах. Практически она влияет на все, была бы взята лишь достаточно большая доза.
При сравнительно невысоких дозах нарушается основной обмен (потребление кислорода и др.), усиливается водный обмен, снижается кровяное давление, угнетается деятельность желез внутренней секреции… Уменьшается вес отдельных органов и всего организма. Выделение различных веществ из организма нарушается. Изменяется проницаемость тканевых барьеров. Животные становятся более чувствительными как к повышенным, так и к пониженным температурам, к изменению барометрического давления, к физической нагрузке… Все, что написано в этом абзаце, приведено лишь для примера. Следует добавить: и т. д. и т. п., может быть для внушительности даже повторив несколько раз.
Не менее многообразны и биохимические изменения. Достаточно сказать: облучение затрагивает абсолютно все стороны обмена веществ. И это действительно так. Но нужно подчеркнуть, что некоторые из биохимических изменений играют очень важную роль в возникновении и судьбе первичных лучевых повреждений. Во-первых, обмен нуклеиновых кислот – веществ, ответственных за передачу всех наследственных свойств и признаков от клетки к клетке и от организма к организму, а также лежащих в основе процессов синтеза всех биологически важных веществ. Но о нуклеиновых кислотах мы будем говорить при рассмотрении явлений наследственности и влияния на нее ионизирующих лучей. Там же уместно рассказать и о действии радиации на нуклеиновые кислоты. Во-вторых, биоэнергетические процессы. Но и о них нам придется сказать несколько слов специально в связи с действием радиации на живые клетки.
К этому можно было бы приложить перечень: а кроме того, под действием облучения нарушается углеводный и жировой обмен, изменяется химический состав крови… Но кому будет интересно такое перечисление, когда уже сказано, что радиация влияет на все биохимические процессы.
В заключение нужно отметить еще, что радиация сильно влияет на такую важную сторону жизнедеятельности, как иммунитет. После облучения образование антител сильно подавлено. Это очень интересная и важная область, но она лежит несколько в стороне от того, чем нам предстоит заниматься.
Изменения, изменения… Сотни, тысячи разнообразнейших изменений. Можно ли во всем этом разобраться? Да, и не так уж сложно. Дело в том, что из всех возможных нарушений существенными оказываются лишь немногие. Причин тому две. Во-первых, для некоторых изменений нужны очень большие дозы облучения. А какое значение имеет изменение молекул или структур, требующее дозы в миллион рентген, если уже тысяча является абсолютно смертельной дозой?!
И при небольших дозах облучения можно обнаружить сотни изменений. Но если получше разобраться, станет ясно, что из них очень многие несущественны. Чтобы пояснить это, проще всего обратиться к радиационной биохимии.
Трудно назвать биологически возможное вещество или биохимический процесс, на которые не пробовали бы влиять радиацией. И в большинстве случаев наблюдали какие-нибудь изменения. Однако почти всегда их обнаруживали далеко не сразу после облучения. Обычно они появлялись незадолго до смерти животного. Частенько, увы, увлекшиеся авторы делали вывод, что, мол, дескать, если это изменение наблюдается перед смертью, оно и является ее причиной. А не наоборот ли? Животное умирает… Какова бы ни была исходная причина смерти, ясно, что под влиянием общего плохого состояния организм начинает работать ненормально, выходят из строя все его физиологические и биохимические системы. Нет, изменения, которые можно заметить только перед смертью, не причина, а следствие лучевой болезни.