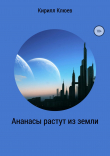Текст книги "Повести. Пьесы. Мертвые души"
Автор книги: Николай Гоголь
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 48 (всего у книги 54 страниц)
На другой день все обделалось как нельзя лучше. Костанжогло дал с радостью десять тысяч без процентов, без поручительства– просто под одну расписку. Так был он готов помогать всякому на пути к приобретенью. Этого мало: он сам взялся сопровождать Чичикова к Хлобуеву, с тем чтобы осмотреть вместе с ним имение. После сытного завтрака все они отправились, севши все трое в коляску Павла Ивановича; пролетки хозяина следовали порожняком за ними. Ярб бежал впереди, сгоняя с дороги птиц. В полтора часа с небольшим сделали они восемнадцать верст и увидели деревушку с двумя домами. Один большой и новый, недостроенный и остававшийся вчерне несколько лет, другой маленький и старенький. Хозяина нашли они растрепанного, заспанного, недавно проснувшегося; на сюртуке у него была заплата, а на сапоге дырка.
Приезду гостей он обрадовался, как бог весть чему. Точно как бы увидел он братьев, с которыми надолго расстался.
– Константин Федорович! Платон Михайлович! – вскрикнул он. – Отцы родные! вот одолжили приездом! Дайте протереть глаза! Я уж, право, думал, что ко мне никто не заедет. Всяк бегает меня, как чумы: думает – попрошу взаймы. Ох, трудно, трудно, Константин Федорович! Вижу – сам всему виной! Что делать? свинья свиньей зажил. Извините, господа, что принимаю вас в таком наряде: сапоги, как видите, с дырами. Да чем вас потчевать, скажите?
– Пожалуйста, без околичностей. Мы к вам приехали за делом, – сказал Костанжогло. – Вот вам покупщик, Павел Иванович Чичиков.
– Душевно рад познакомиться. Дайте прижать мне вашу руку.
Чичиков дал ему обе.
– Хотел бы очень, почтеннейший Павел Иванович, показать вам имение, стоящее внимания… Да что, господа, позвольте спросить, вы обедали?
– Обедали, обедали, – сказал Костанжогло, желая отделаться. – Не будем и мешкать и пойдем теперь же.
– В таком случае пойдем.
Хлобуев взял в руки картуз. Гости надели на головы картузы, и все отправились пешком осматривать деревню.
– Пойдем осматривать беспорядки и беспутство мое, – говорил Хлобуев. – Конечно, вы сделали хорошо, что пообедали. Поверите ли, Константин Федорович, курицы нет в доме, – до того дожил. Свиньей себя веду, просто свиньей!
Он, глубоко вздохнув и как бы чувствуя, что мало будет участия со стороны Константина Федоровича и жестковато его сердце, подхватил под руку Платонова и пошел с ним вперед, прижимая крепко его к груди своей. Костанжогло и Чичиков остались позади и, взявшись под руки, следовали за ними в отдалении.
– Трудно, Платон Михалыч, трудно! – говорил Хлобуев Платонову. – Не можете вообразить, как трудно! Безденежье, бесхлебье, бессапожье! Трын-трава бы это было все, если бы был молод и один. Но когда все эти невзгоды станут тебя ломать под старость, а под боком жена, пятеро детей, – сгрустнется, поневоле сгрустнется…
Платонову стало жалко.
– Ну, а если вы продадите деревню, это вас поправит? спросил он.
– Какое поправит! – сказал Хлобуев, махнувши рукой. – Все пойдет на уплату необходимейших долгов, а затем для себя не останется и тысячи.
– Так что ж вы будете делать?
– А бог знает, – говорил Хлобуев, пожимая плечами.
Платонов удивился.
– Как же вы ничего не предпринимаете, чтобы выпутаться из таких обстоятельств?
– Что ж предпринять?
– Будто нет уже средств?
– Никаких.
– Ну, ищите должности, возьмите какое-нибудь место.
– Ведь я губернский секретарь. Какое ж мне могут дать выгодное место? Жалованье дадут ничтожное, а ведь у меня жена, пятеро детей.
– Ну, частную какую-нибудь должность. Пойдите в управляющие.
– Да кто ж мне поверит имение! я промотал свое.
– Ну, да если голод и смерть грозят, нужно же что-нибудь предпринимать. Я спрошу, не может ли брат мой через кого-либо в городе выхлопотать какую-нибудь должность.
– Нет, Платон Михайлович, – сказал Хлобуев, вздохнувши и сжавши крепко его руку, – не гожусь я теперь никуды. Одряхлел прежде старости своей, и поясница болит от прежних грехов, и ревматизм в плече. Куды мне! Что разорять казну! И без того теперь завелось много служащих ради доходных мест. Храни бог, чтобы из-за меня, из-за доставки мне жалованья прибавлены были подати на бедное сословие: и без того ему трудно при этом множестве сосущих. Нет, Платон Михайлович, бог с ним.
«Вот положение! – думал Платонов, – Это хуже моей спячки».
Тем временем Костанжогло и Чичиков, идя позади их на порядочном расстоянии, так между собою говорили:
– Вон запустил как все! – говорил Костанжогло, указывая пальцем. – Довел мужика до какой бедности! Когда случился падеж, так уж тут нечего глядеть на свое добро. Тут все свое продай, да снабди мужика скотиной, чтобы он не оставался и одного дни без средств производить работу. А ведь теперь и годами не поправишь: и мужик уже изленился, и загулял, и стал пьяница.
– Так, стало быть, теперь не совсем выгодно и покупать эдакое имение? – спросил Чичиков.
Тут Костанжогло взглянул на него так, как бы хотел ему сказать: «Ты что за невежа! С азбуки, что ли, нужно с тобой начинать?»
– Невыгодно! да через три года я буду получать двадцать тысяч годового дохода с этого именья. Вот оно как невыгодно! В пятнадцати верстах. Безделица! А земля-то какова? разглядите землю! Всё поемные места. Да я засею льну, да тысяч на пять одного льну отпущу; репой засею – на репе выручу тысячи четыре. А вон смотрите – по косогору рожь поднялась; ведь это все падаль. Он хлеба не сеял – я это знаю. Да этому именью полтораста тысяч, а не сорок.
Чичиков стал опасаться, чтобы Хлобуев не услышал, и потому отстал еще подальше.
– Вон сколько земли оставил впусте! – говорил, начиная сердиться, Костанжогло. – Хоть бы повестил вперед, так набрели бы охотники. Ну, уж если нечем пахать, так копай под огород. Огородом бы взял. Мужика заставил пробыть четыре года без труда. Безделица! Да ведь этим одним ты уже его развратил и навеки погубил. Уж он успел привыкнуть к лохмотью и бродяжничеству! Это стало уже жизнью его. – И, сказавши это, плюнул Костанжогло, и желчное расположение осенило сумрачным облаком его чело…
– Я не могу здесь больше оставаться: мне смерть глядеть на этот беспорядок и запустенье! Вы теперь можете с ним покончить и без меня. Отберите у этого дурака поскорее сокровище. Он только бесчестит божий дар!
И, сказавши это, Костанжогло простился с Чичиковым и, нагнавши хозяина, стал также прощаться.
– Помилуйте, Константин Федорович, – говорил удивленный хозяин, – только что приехали – и назад!
– Не могу. Мне крайняя надобность быть дома, – сказал Костанжогло, простился, сел и уехал на своих пролетках.
Казалось, как будто Хлобуев понял причину его отъезда.
– Не выдержал Константин Федорович, – сказал он. – Чувствую, что не весело такому хозяину, каков он, глядеть на эдакое беспутное управленье. Верите ли, что не могу, не могу, Павел Иванович… что почти вовсе не сеял хлеба в этом году! Как честный человек. Семян не было, не говоря уже о том, что нечем пахать. Ваш братец, Платон Михайлыч, говорят, необыкновенный хозяин; о Константине Федоровиче что уж говорить – это Наполеон своего рода. Часто, право, думаю: «Ну, зачем столько ума дается в одну голову? ну, что бы хоть каплю его в мою глупую, хоть бы на то, чтобы сумел дом свой держать! Ничего не умею, ничего не могу». Ах, Павел Иванович, (возьмите) в свое распоряжение! Жаль больше всего мне мужичков бедных. Чувствую, что не умел быть…[29] 29
Одно слово в рукописи не прочтено. – Ред.
[Закрыть] что прикажете делать, не могу быть взыскательным и строгим. Да и как мог приучить их к порядку, когда сам беспорядочен! Я бы их отпустил сейчас же на волю, да как-то устроен русский человек, как-то не может без понукателя… Так и задремлет, так и заплеснет.
– Ведь это, точно, странно, – сказал Платонов, – отчего это у нас так, что если не смотришь во все глаза за простым человеком, сделается и пьяницей и негодяем?
– От недостатка просвещения, – заметил Чичиков.
– Ну, бог весть отчего. Вот мы и просветились, а ведь как живем? Я и в университете был, и слушал лекции по всем частям, а искусству и порядку жить не только не выучился, а еще как бы больше выучился искусству побольше издерживать деньги на всякие новые утонченности да комфорты, больше познакомился с такими предметами, на которые нужны деньги. Оттого ли, что я бестолково учился? Только нет: ведь так и другие товарищи. Может быть, два-три человека извлекли себе настоящую пользу, да и то оттого, может, что и без того были умны, а прочие ведь только и стараются узнать то, что портит здоровье, да и выманивает деньги. Ей-богу! Ведь учиться приходили только затем, чтобы аплодировать профессорам, раздавать им награды, а не самим от них получать. Так из просвещенья-то мы все-таки выберем то, что погаже; наружность его схватим, а его самого возьмем. Нет, Павел Иванович, не умеем мы жить отчего-то другого, а отчего, ей-богу, я не знаю.
– Причины должны быть, – сказал Чичиков.
Вздохнул глубоко бедный Хлобуев и сказал так:
– Иной раз, право, мне кажется, что будто русский человек – какой-то пропащий человек. Нет силы воли, нет отваги на постоянство. Хочешь все сделать – и ничего не можешь. Все думаешь – с завтрашнего дни начнешь новую жизнь, с завтрашнего дни примешься за все как следует, с завтрашнего дни сядешь на диету, – ничуть не бывало: к вечеру того же дни так объешься, что только хлопаешь глазами и язык не ворочается, как сова, сидишь, глядя на всех, – право и эдак все.
– Нужно в запасе держать благоразумие, – сказал Чичиков, – ежеминутно совещаться с благоразумием, вести с ним дружескую беседу.
– Да что! – сказал Хлобуев. – Право, мне кажется, мы совсем не для благоразумия рождены. Я не верю, чтобы из нас был кто-нибудь благоразумным. Если я вижу, что иной даже и порядочно живет, собирает и копит деньгу, – не верю я и тому! На старости и его черт попутает – спустит потом всё вдруг! И все у нас так: и благородные, и мужики, и просвещенные, и непросвещенные. Вон какой был умный мужик: из ничего нажил сто тысяч, а как нажил сто тысяч, пришла в голову дурь сделать ванну из шампанского, и выкупался в шампанском. Но вот мы, кажется, и все обсмотрели. Больше ничего нет. Хотите разве взглянуть на мельницу? Впрочем, в ней нет колеса, да и строенье никуда не годится.
– Что ж и рассматривать ее! – сказал Чичиков.
– В таком случае пойдем домой. – И они все направили шаги к дому.
На возвратном пути были виды те же. Неопрятный беспорядок так и выказывал отовсюду безобразную свою наружность. Все было опущено и запущено. Прибавилась только новая лужа посреди улицы. Сердитая баба, в замасленной дерюге, прибила до полусмерти бедную девчонку и ругала на все бока всех чертей. Поодаль два мужика глядели с равнодушием стоическим на гнев пьяной бабы. Один чесал у себя пониже спины, другой зевал. Зевота видна была на строениях. Крыши тоже зевали. Платонов, глядя на них, зевнул. «Мое-то будущее достоянье – мужики, – подумал Чичиков, – дыра на дыре и заплата на заплате!» И точно, на одной избе, вместо крыши, лежали целиком ворота; провалившиеся окна подперты были жердями, стащенными с господского амбара. Словом, в хозяйство введена была, кажется, система Тришкина кафтана: отрезывались обшлага и фалды на заплату локтей.
Они вошли в комнаты. Чичикова несколько поразило смешение нищеты с некоторыми блестящими безделушками позднейшей роскоши. Посреди изорванной утвари и мебели – новенькие бронзы. Какой-то Шекспир сидел на чернильнице; на столе лежала щегольская ручка слоновой кости для почесыванья себе самому спины. Хлобуев отрекомендовал им хозяйку жену. Она была хоть куда. В Москве не ударила бы лицом в (грязь). Платье на ней было со вкусом, по моде. Говорить любила больше о городе да о театре, который там завелся. По всему было видно, что деревню она любила еще меньше, чем муж, и что зевала она больше Платонова, когда оставалась одна. Скоро комната наполнилась детьми, девочками и мальчиками. Их было пятеро. Шестое принеслось на руках. Все были прекрасны. Мальчики и девочки – загляденье. Они были одеты мило и со вкусом, были резвы и веселы. И от этого было еще грустнее глядеть на них. Лучше бы одеты они были дурно, в простых пестрядевых юбках и рубашках, бегали себе по двору и ничем не отличались от простых крестьянских детей! К хозяйке приехала гостья. Дамы ушли на свою половину. Дети убежали вслед за ними. Мужчины остались одни.
Чичиков приступил к покупке. По обычаю всех покупщиков, сначала он охаял покупаемое имение. И, охаявши его со всех сторон, сказал:
– Какая же будет ваша цена?
– Видите ли что? – сказал Хлобуев. – Запрашивать с вас дорого не буду, да и не люблю: это было бы с моей стороны и бессовестно. Я от вас не скрою также и того, что в деревне моей из ста душ, числящихся по ревизии, и пятидесяти нет налицо: прочие или померли от эпидемической болезни, или отлучились беспаспортно, так что вы почитайте их как бы умершими. Поэтому-то я и прошу с вас всего только тридцать тысяч.
– Ну вот – тридцать тысяч! Именье запущено, люди мертвы, и тридцать тысяч! Возьмите двадцать пять тысяч.
– Павел Иванович! Я могу его заложить в ломбард в двадцать пять тысяч, понимаете ли это? Тогда я получаю двадцать пять тысяч и имение при мне. Продаю я единственно затем, что мне нужны скоро деньги, а при закладке была бы проволочка, надобно бы платить приказным, а платить нечем.
– Ну, да все-таки возьмите двадцать пять тысяч.
Платонову сделалось совестно за Чичикова.
– Покупайте, Павел Иванович, – сказал он. – За именье можно всегда дать эту (дену). Если вы не дадите за него тридцать тысяч, мы с братом складываемся и покупаем.
Чичиков испугался…
– Хорошо! – сказал он. – Даю тридцать тысяч. Вот две тысячи задатку дам вам теперь, восемь тысяч через неделю, а остальные двадцать тысяч через месяц.
– Нет, Павел Иванович, только на том условии, чтобы деньги как можно скорее. Теперь вы мне дайте пятнадцать тысяч, по крайней мере, а остальные никак не дальше, как через две недели.
– Да нет пятнадцати тысяч! Десять у меня всего теперь. Дайте соберу.
То есть Чичиков лгал: у него было двадцать тысяч.
– Нет, пожалуйста, Павел Иванович! я говорю, что необходимо мне нужны пятнадцать тысяч.
– Да, право, недостает пяти тысяч. Не знаю сам откуда взять.
– Я вам займу, – подхватил Платонов.
– Разве эдак! – сказал Чичиков и подумал про себя: «А это, однако же, кстати, что он дает взаймы: в таком случае завтра можно будет привезти». Из коляски была принесена шкатулка, и тут же было из нее вынуто десять тысяч Хлобуеву; остальные же пять тысяч обещано было привезти ему завтра: то есть обещано; предполагалось же привезти три; другие потом, денька через два или три, а если можно, то и еще несколько просрочить. Павел Иванович как-то особенно не любил выпускать из рук денег. Если ж настояла крайняя необходимость, то все-таки казалось ему, лучше выдать деньги завтра, а не сегодня. То есть он поступал как все мы! Ведь нам приятно же поводить просителя. Пусть его натрет себе спину в передней! Будто уж и нельзя подождать ему! Какое нам дело до того, что, может быть, всякий час ему дорог и терпят оттого дела его! «Приходи, братец, завтра, а сегодня мне как-то некогда».
– Где ж вы после этого будете жить? – спросил Платонов Хлобуева. – Есть у вас другая деревушка?
– Деревушки нет, а я перееду в город. Все же равно это было нужно сделать не для себя, а для детей. Им нужны будут учителя закону божию, музыке, танцеванью. Ведь в деревне нельзя достать.
«Куска хлеба нет, а детей хочет учить танцеванью!» – подумал Чичиков.
«Странно!» – подумал Платонов.
– Что ж, нужно нам чем-нибудь вспрыснуть сделку, – сказал Хлобуев. – Эй, Кирюшка, принеси, брат, бутылку шампанского.
«Куска хлеба нет, а шампанское есть!» – подумал Чичиков.
Платонов не знал, что и думать.
Шампанское было принесено. Они выпили по три бокала и развеселились. Хлобуев развязался, стал умен и мил. Остроты и анекдоты сыпались у него беспрерывно. В речах его оказалось столько познанья людей и света! Так хорошо и верно видел он многие вещи, так метко и ловко очерчивал в немногих словах соседей помещиков, так видел ясно недостатки и ошибки всех, так хорошо знал историю разорившихся бар – и почему, и как, и отчего они разорились, так оригинально и метко умел передавать малейшие их привычки, что они оба были совершенно обворожены его речами и готовы были признать его за умнейшего человека.
– Послушайте, – сказал Платонов, схвативши его за руку, – как вам, при таком уме, опытности и познаниях житейских, не найти средств выпутаться из вашего затруднительного положения?
– Средства-то есть, – сказал Хлобуев и вслед за тем выгрузил им целую кучу прожектов. Все они были до того нелепы, так странны, так мало истекали из познанья людей и света, что оставалось только пожимать плечами да говорить: «Господи боже! какое необъятное расстояние между знаньем света и уменьем пользоваться этим знаньем!» Почти все прожекты основывались на потребности вдруг достать откуда-нибудь сто или двести тысяч. Тогда, казалось ему, все бы устроилось как следует, и хозяйство бы пошло, и прорехи все бы заплатались, и доходы можно учетверить, и себя привести в возможность выплатить все долги. И оканчивал он речь свою: – Но что прикажете делать? Нет да и нет такого благодетеля, который бы решился дать двести или хоть сто тысяч взаймы! Видно, уж бог не хочет.
«Еще бы, – подумал Чичиков, – эдакому дураку послал бог двести тысяч!»
– Есть у меня, пожалуй, трехмиллионная тетушка, – сказал Хлобуев, – старушка богомольная: на церкви и монастыри дает, но помогать ближнему тугенька. А старушка очень замечательная. Прежних времен тетушка, на которую бы взглянуть стоило. У ней одних канареек сотни четыре. Моськи, и приживалки, и слуги, каких уж теперь нет. Меньшому из слуг будет лет шестьдесят, хоть она и зовет его: «Эй, малый!» Если гость как-нибудь себя не так поведет, так она за обедом прикажет обнести его блюдом. И обнесут, право.
Платонов усмехнулся.
– А как ее фамилия и где она проживает? – спросил Чичиков.
– Живет она у нас же в городе – Александра Ивановна Ханасарова.
– Отчего ж вы не обратитесь к ней? – сказал с участьем Платонов. – Мне кажется, если бы она только поближе вошла в положенье вашего семейства, она бы не в силах была отказать вам, как бы ни была туга.
– Ну нет, в силах! У тетушки натура крепковата. Это старушка – кремень, Платон Михайлыч! Да к тому ж есть и без меня угодники, которые около нее увиваются. Там есть один, который метит в губернаторы, приплелся ей в родню… бог с ним! может быть, и успеет! Бог с ними со всеми! Я подъезжать и прежде не умел, а теперь и подавно: спина уж не гнется.
«Дурак! – подумал Чичиков. – Да я бы за этакой тетушкой ухаживал, как нянька за ребенком!»
– Что ж, ведь этак разговаривать сухо, – сказал Хлобуев. – Эй, Кирюшка! принеси-ка еще другую бутылку шампанского.
– Нет, нет, я больше не буду пить, – сказал Платонов.
– Я также, – сказал Чичиков. И оба отказались они решительно.
– Ну, так, по крайней мере, дайте мне слово побывать у меня в городе: восьмого июня я даю обед нашим городским сановникам.
– Помилуйте! – воскликнул Платонов. – В таком состоянии, разорившись совершенно, – и еще обед?
– Что же делать? нельзя. Это долг, – сказал Хлобуев. – Они меня также угощали.
«Что с ним делать?» – подумал Платонов. Он еще не знал того, что на Руси, на Москве и других городах, водятся такие мудрецы, которых жизнь – необъяснимая загадка. Все, кажется, прожил, кругом в долгах, ниоткуда никаких средств, и обед, который задается, кажется, последний; и думают обедающие, что завтра же хозяина потащут в тюрьму. Проходит после того десять лет – мудрец все еще держится на свете, еще больше прежнего кругом в долгах и так же задает обед, и все думают, что он последний, и все уверены, что завтра же потащут хозяина в тюрьму. Такой же мудрец был Хлобуев. Только на одной Руси можно было существовать таким образом. Не имея ничего, он угощал и хлебосольничал, и даже оказывал покровительство, поощрял всяких артистов, приезжавших в город, давал им у себя приют и квартиру. Если (бы) кто заглянул в дом его, находившийся в городе, он бы никак не узнал, кто в нем хозяин. Сегодня поп в ризе служил там молебен, завтра давали репетицию французские актеры. В иной день какой-нибудь, не известный никому почти в дому, поселялся в самой гостиной с бумагами и заводил там кабинет, и это не смущало, не беспокоило никого в доме, как бы было житейское дело. Иногда по целым дням не бывало крохи в доме, иногда же задавали в нем такой обед, который удовлетворил бы вкусу утонченнейшего гастронома. Хозяин являлся праздничный, веселый, с осанкой богатого барина, с походкой человека, которого жизнь протекает в избытке и довольстве. Зато временами бывали такие тяжелые минуты, что другой давно бы на его месте повесился или застрелился. Но его спасало религиозное настроение, которое странным образом совмещалось в нем с беспутною его жизнью. В эти горькие, тяжелые минуты развертывал он книгу и читал жития страдальцев и тружеников, воспитывавших дух свой быть превыше страданий и несчастий. Душа его в это время вся размягчалась, умилялся дух и слезами исполнялись глаза его. И – странное дело! – почти всегда приходила к нему в то время откуда-нибудь неожиданная помощь. Или кто-нибудь из старых друзей его вспоминал о нем и присылал ему деньги; или какая-нибудь проезжая незнакомка, нечаянно услышав о нем историю, с стремительным великодушьем женского сердца присылала ему богатую подачу; или выигрывалось где-нибудь в пользу его дело,
о котором он никогда и не слышал. Благоговейно, благодарно признавал он тогда необъятное милосердье провиденья, служил благодарственный молебен и – вновь начинал беспутную жизнь свою.
– Жалок он мне, право, жалок! – сказал Чичикову Платонов, когда они, простившись с ним, выехали от него.
– Блудный сын! – сказал Чичиков. – О таких людях и жалеть нечего.
И скоро они оба перестали о нем думать: Платонов – потому, что лениво и полусонно смотрел на положенья людей, так же как и на все в мире. Сердце его сострадало и щемило при виде страданий других, но впечатленья как-то не впечатлевались глубоко в его душе. Он потому не думал о Хлобуеве, что и о себе самом не думал. Чичиков потому не думал о Хлобуеве, что все мысли были заняты приобретенною покупкою. Он исчислял, рассчитывал и соображал все выгоды купленного имения. И как ни рассматривал, на какую сторону ни оборачивал дело, видел, что во всяком случае покупка была выгодна. Можно было поступить и так, чтобы заложить именье в ломбард. Можно было поступить и так, чтобы заложить одних только мертвецов и беглых. Можно было поступить и так, чтобы прежде выпродать по частям все лучшие земли, а потом уже заложить в ломбард. Можно было распорядиться и так, чтобы заняться самому хозяйством и сделаться помещиком, по образцу Костанжогла, пользуясь его советами, как соседа и благодетеля. Можно было поступить даже и так, чтобы перепродать в частные (руки) имение (разумеется, если не захочется самому хозяйничать), оставивши при себе беглых и мертвецов. Тогда представлялась и другая выгода: можно было вовсе улизнуть из этих мест и не заплатить Костанжогле денег, взятых у него взаймы. Словом, всячески, как ни оборачивал он это дело, видел, что во всяком случае покупка была выгодна. Он почувствовал удовольствие, – удовольствие оттого, что стал теперь помещиком, помещиком не фантастическим, но действительным, помещиком, у которого есть уже и земли, и угодья, и люди – люди не мечтательные, не в воображенье пребываемые, но существующие. И понемногу начал он и подпрыгивать, и потирать себе руки, и подпевать, и приговаривать, и вытрубил на кулаке, приставивши его себе ко рту, как бы на трубе, какой-то марш, и даже выговорил вслух несколько поощрительных слов п названий себе самому, вроде мордашки и каплунчика. Но потом, вспомнивши, что он не один, притихнул вдруг, постарался кое-как замять неумеренный порыв восторгновенья, и когда Платонов, принявши кое-какие из этих звуков за обращенную к нему речь, спросил у него: «Чего?» – он отвечал: «Ничего».
Тут только, оглянувшись вокруг себя, он заметил, что они ехали прекрасною рощей; миловидная березовая ограда тянулась у них справа и слева. Между дерев мелькала белая каменная церковь. В конце улицы показался господин, шедший к ним навстречу, в картузе, с суковатой палкой в руке. Облизанный аглицкий пес на высоких ножках бежал перед ним.
– Стой! – сказал Платонов кучеру и выскочил из коляски.
Чичиков вышел вслед за ним также из коляски. Они пошли
пешком навстречу господину. Ярб уже успел облобызаться с аглицким псом, с которым, как видно, был знаком уже давно, потому что принял равнодушно в свою толстую морду живое лобызанье Азора (так назывался аглицкий пес). Проворный пес, именем Азор, облобызавши Ярба, подбежал к Платонову, лизнул проворным языком ему руки, вскочил на грудь Чичикова с намереньем лизнуть его в губы, но не достал и, оттолкнутый им, побежал снова к Платонову, пробуя лизнуть его хоть в ухо.
Платон и господин, шедший навстречу, в это время сошлись и обнялись.
– Помилуй, брат Платон! что это ты со мною делаешь? – живо спросил господин.
– Как что? – равнодушно отвечал Платонов.
– Да как же в самом деле: три дни от тебя ни слуху пи духу! Конюх от Петуха привел твоего жеребца. «Поехал, говорит, с каким-то барином». Ну, хоть бы слово сказал: куды, зачем, на сколько времени? Помилуй, братец, как же можно этак поступать? А я бог знает чего не передумал в эти дни!
– Ну что ж делать? позабыл, – сказал Платонов. – Мы заехали к Константину Федоровичу… Он тебе кланяется, сестра также. Рекомендую тебе Павла Ивановича Чичикова. Павел Иванович, – брат Василий. Прошу полюбить его так же, как и меня.
Брат Василий и Чичиков, снявши картузы, поцеловались.
«Кто бы такой был этот Чичиков? – думал брат Василий. – Брат Платон на знакомства неразборчив и, верно, не узнал, что он за человек». И оглянул он Чичикова, насколько позволяло приличие, и увидел, что он стоял, несколько наклонивши голову и сохранив приятное выраженье в лице.
Со своей стороны Чичиков оглянул также, насколько позволяло приличие, брата Василия. Он был ростом пониже Платона, волосом темней его и лицом далеко не так красив; но в чертах его лица было много жизни и одушевленья. Видно было, что он не пребывал в дремоте и спячке.
– Знаешь ли, Василий, что я придумал? – сказал брат Платон.
– Что? – спросил Василий.
– Проездиться по святой Руси, вот именно с Павлом Ивановичем: авось-либо это размычет и растеребит хандру мою.
– Как же так вдруг решился?.. – начал было говорить Василий, озадаченный не на шутку таким решеньем, и чуть было не прибавил: «И еще замыслил ехать с человеком, которого видишь в первый раз, который, может быть, и дрянь, и черт знает что!» И, полный недоверия, стал он рассматривать искоса Чичикова и увидел, что он держался необыкновенно прилично, сохраняя все то же приятное наклоненье головы несколько набок и почтительно-приветное выражение в лице, так что никак нельзя было узнать, какого роду был Чичиков.
В молчанье они пошли все трое по дороге, по левую руку которой находилась мелькавшая промеж дерев белая каменная церковь, по правую – начинавшие показываться, также промеж дерев, строенья господского двора. Наконец показались и ворота. Они вступили на двор, где был старинный господский дом под высокой крышей. Две огромные липы, росшие посреди двора, покрывали почти половину его своею тенью. Сквозь опущенные вниз развесистые их ветви едва сквозили стены дома, находившегося позади их. Под липами стояло несколько длинных скамеек. Брат Василий пригласил Чичикова садиться. Чичиков сел, и Платонов сел. По всему двору разливалось благоуханье цветущих сиреней и черемух, которые, нависши отовсюду из саду в двор через миловидную березовую ограду, кругом его обходившую, казалися цветущею цепью или бисерным ожерельем, его короновавшим.
Ухватливый и ловкий детина лет семнадцати, в красивой рубашке розовой ксандрейки, принес и поставил перед ними графины с водой и разноцветными квасами всех сортов, шипевшими, как газовые лимонады. Поставивши пред ними графины, он подошел к дереву и, взявши прислоненный к нему заступ, отправился в сад. У братьев Платоновых вся дворня работала в саду, все слуги были садовники, или лучше сказать, слуг не было, но садовники исправляли иногда эту должность. Брат Василий все утверждал, что без слуг можно обойтись. Подать что-нибудь может всякий, и для этого не стоит заводить особого сословья; что будто русский человек по тех пор только хорош, и расторопен, и красив, и развязен, и много работает, покуда он ходит в рубашке и зипуне, но что, как только заберется в немецкий сертук – станет и неуклюж, и некрасив, и нерасторопен, и лентяй. Он утверждал, что и чистоплотность у него содержится по тех пор, покуда он еще носит рубашку и зипун, и что, как только заберется в немецкий сер-тук – и рубашки не переменяет, и в баню не ходит, и спит в сер-туке, и заведутся у него под сертуком и клопы, и блохи, и черт знает что. В этом, может быть, он был и прав. В деревне их народ одевался как-то особенно щеголевато и опрятно, и таких красивых рубашек и зипунов нужно было далеко поискать.
– Не угодно ли вам прохладиться? – сказал брат Василий Чичикову, указывая на графины. – Это квасы нашей фабрики; ими издавна славится дом наш.
Чичиков налил стакан из первого графина – точно липец, который он некогда пивал в Польше: игра как у шампанского, а газ так и шибнул приятным кручком изо рта в нос.
– Нектар! – сказал Чичиков. Выпил стакан от другого графина – еще лучше.
– В какую же сторону и в какие места предполагаете преимущественно ехать? – спросил брат Василий.
– Еду я, – сказал Чичиков, потирая себе рукой по колену, в сопровожденье легкого покачиванья всего туловища и наклоняя голову набок, – не столько по своей нужде, сколько по нужде другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя, ибо, – " не говоря уже о пользе в геморроидальном отношении, – видеть свет и коловращенье людей – есть уже само по себе, так сказать, живая книга и вторая наука.
Брат Василий задумался. «Говорит этот человек несколько витиевато, но в словах его есть правда, – думал (он). – Брату моему Платону недостает познания людей, света и жизни». Несколько помолчав, сказал так вслух:
– Я начинаю думать, Платон, что путешествие может, точно, расшевелить тебя. У тебя душевная спячка. Ты просто заснул, и заснул не от пресыщения или усталости, но от недостатка живых впечатлений и ощущений. Вот я совершенно напротив. Я бы очень желал не так живо чувствовать и не так близко принимать к сердцу все, что ни случается.