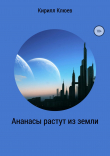Текст книги "Повести. Пьесы. Мертвые души"
Автор книги: Николай Гоголь
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 54 страниц)
В полчаса с небольшим кони пронесли Чичикова чрез десятиверстное пространство – сначала дубровою, потом хлебами, начинавшими зеленеть посреди свежей орани, потом горной окраиной, с которой поминутно открывались виды на отдаленья, – и широкою аллеею раскидистых лип внесли его в генеральскую деревню. Аллея лип превратилась в аллею тополей, огороженных снизу плетеными коробками, и уперлась в чугунные сквозные ворота, сквозь которые глядел кудряво-великолепный резной фронтон генеральского дома, опиравшийся на восемь колонн с коринфскими капителями. Пахнуло повсюду масляной краской, которою беспрерывно обновлялося все, ничему не давая состариться. Двор чистотой подобен был паркету. Подкативши к подъезду, Чичиков с почтеньем соскочил на крыльцо, приказал о себе доложить и был введен прямо в кабинет к генералу.
Генерал поразил его величественной наружностью. Он был на ту пору в атласном малиновом халате. Открытый взгляд, лицо мужественное, бакенбарды и большие усы с проседью, стрижка низкая, а на затылке даже под гребенку, шея толстая, широкая, так называемая в три этажа или в три складки с трещиной поперек, голос – бас с некоторою охрипью, движения генеральские. Генерал Бетрищев, как и все мы грешные, был одарен многими достоинствами и многими недостатками. То и другое, как случается в русском человеке, было набросано в нем в каком-то картинном беспорядке. Самопожертвованье, великодушье в решительные минуты, храбрость, ум – и ко всему этому – изрядная подмесь себялюбья, честолюбья, самолюбия, мелочной щекотливости личной и многого того, без чего уже не обходится человек. Всех, которые ушли вперед его по службе, он не любил, выражался о них едко, в сардонических, колких эпиграммах. Всего больше доставалось от него его прежнему сотоварищу, которого считал он ниже себя и умом и способностями, и который, однако же, обогнал его и был уже генерал-губернатором двух губерний, и как нарочно тех, в которых находились его поместья, так что он очутился как бы в зависимости от него. В отместку язвил он его при всяком случае, критиковал всякое распоряженье и видел во всех мерах и действиях его верх неразумия. Несмотря на доброе сердце, генерал был насмешлив. Вообще говоря, он любил первенствовать, любил фимиам, любил блеснуть и похвастаться умом, любил знать то, чего другие не знают, и не любил тех людей, которые знают что-нибудь такое, чего он не знает. Воспитанный полу-иностранным воспитаньем, он хотел сыграть в то же время роль русского барина. С такой неровностью в характере, с такими крупными, яркими противуположностями, он должен был неминуемо встретить по службе кучу неприятностей, вследствие которых и вышел в отставку, обвиняя во всем какую-то враждебную партию и не имея великодушия обвинить в чем-либо себя самого. В отставке сохранил он ту же картинную, величавую осанку. В сюртуке ли, во фраке ли, в халате – он был все тот же. От голоса до малейшего телодвиженья в нем все было властительное, повелевающее, внушавшее в низших чинах если не уважение, то, по крайней мере, робость.
Чичиков почувствовал то и другое: и уваженье и робость. Наклони почтительно голову набок, начал он так:
– Счел долгом представиться вашему превосходительству. Питая уваженье к доблестям мужей, спасавших отечество на бранном поле, счел долгом представиться лично вашему превосходительству.
Генералу, как видно, не не понравился такой приступ. Сделавши весьма милостивое движенье головою, он сказал:
– Весьма рад познакомиться. Милости просим садиться. Вы где служили?
– Поприще службы моей, – сказал Чичиков, садясь в кресла не в середине, но наискось, и ухватившись рукою за ручку кресел, – началось в казенной палате, ваше превосходительство; дальнейшее же теченье оной продолжал в разных местах: был и в надворном суде, и в комиссии построения, и в таможне. Жизнь мою можно уподобить судну среди волн, ваше превосходительство. На терпенье, можно сказать, вырос, терпеньем воспоен, терпеньем спеленат, и сам, так сказать, не что другое, как одно терпенье. А уж сколько претерпел от врагов, так ни слова, ни краски не сумеют передать. Теперь же, на вечере, так сказать, жизни своей, ищу уголка, где бы провесть остаток дней. Приостановился же покуда у близкого соседа вашего превосходительства…
– У кого это?
– У Тентетникова, ваше превосходительство.
Генерал поморщился.
– Он, ваше превосходительство, весьма раскаивается в том, что не оказал должного уважения…
– К чему?
– К заслугам вашего превосходительства. Не находит слов. Говорит: «Если бы я только мог чему-нибудь… потому что, точно, говорит, умею ценить мужей, спасавших отечество», – говорит.
– Помилуйте, что ж он?.. Да ведь я не сержусь! – сказал смягчившийся генерал. – В душе моей я искренно полюбил его и уверен, что со временем он будет преполезный человек.
– Совершенно справедливо изволите выразиться, ваше превосходительство, преполезный человек, обладает даром слова и владеет пером.
– Но пишет, я чай, пустяки, какие-нибудь стишки?
– Нет, ваше превосходительство, не пустяки…
– Что ж такое?
– Он пишет… историю, ваше превосходительство.
– Историю! о чем историю?
– Историю… – тут Чичиков остановился, и оттого ли, что перед ним сидел генерал, или просто чтобы придать более важности предмету, прибавил: – историю о генералах, ваше превосходительство.
– Как о генералах! о каких генералах?
– Вообще о генералах, ваше превосходительство, в общности… то есть, говоря собственно, об отечественных генералах, – сказал Чичиков, а сам подумал: «Чтой-то я за вздор такой несу!»
– Извините, я не очень понимаю… что ж это выходит, историю какого-нибудь времени, или отдельные биографии, и притом всех ли, или только участвовавших в двенадцатом году?
– Точно так, ваше превосходительство, участвовавших в двенадцатом году! – проговоривши это, он подумал в себе: «Хоть убей, не понимаю».
– Так что же он ко мне не приедет? Я бы мог собрать ему весьма много любопытных материалов.
– Не смеет, ваше превосходительство.
– Какой вздор! Из какого-нибудь пустого слова… Да я совсем не такой человек. Я, пожалуй, к нему сам готов приехать.
– Он к тому не допустит, он сам приедет, – сказал Чичиков, и в то же время подумал в себе: «Генералы пришлись, однако же, кстати; между тем ведь язык совершенно взболтнул сдуру».
В кабинете послышался шорох. Ореховая дверь резного шкафа отворилась сама собою. На обратной половине растворенной двери, ухватившись чудесной рукой за ручку двери, явилась живая фигурка. Если бы в темной комнате вдруг вспыхнула прозрачная картина, освещенная сзади лампою, она бы не поразила так, как эта сиявшая жизнью фигурка, которая точно предстала затем, чтобы осветить комнату. Казалось, как бы вместе с нею влетел солнечный луч в комнату, озаривши вдруг потолок, карниз и темные углы ее. Она казалась блистающего роста. Это было обольщенье; происходило это от необыкновенной стройности и гармонического соотношенья между собой всех частей тела, от головы до пальчиков. Одноцветное платье, на ней наброшенное, было наброшено с таким (вкусом), что казалось, швеи столиц делали совещанье между собой, как бы получше убрать ее. Это был обман. Оделась она кое-как, сама собой; в двух, трех местах схватила не изрезанный кусок ткани, и он прильнул и расположился вокруг нее в таких складках, что ваятель перенес бы их тотчас же на мрамор, и барышни, одетые по моде, все казались перед ней какими-то пеструшками. Несмотря на то что Чичикову почти знакомо было лицо ее по рисункам Андрея Ивановича, он смотрел на нее, как оторопелый, и после, уже очнувшись, заметил, что у ней был существенный недостаток, именно – недостаток толщины.
– Рекомендую вам мою баловницу! – сказал генерал, обратись к Чичикову. – Однако ж я вашего имени и отчества до сих пор не знаю.
– Впрочем, должно ли быть знаемо имя и отчество человека, не ознаменовавшего себя доблестями? – сказал Чичиков.
– Все же, однако ж, нужно знать…
– Павел Иванович, ваше превосходительство, – проговорил Чичиков, с легким наклоном головы набок.
– Улинька! Павел Иванович сейчас сказал преинтересную новость. Сосед наш Тентетников совсем не такой глупый человек, как мы полагали. Он занимается довольно важным делом: историей генералов двенадцатого года.
Улинька вдруг как бы вспыхнула и оживилась.
– Да кто же думал, что он глупый человек? – проговорила она быстро. – Это мог думать разве один только Вишнепокромов, которому ты веришь, папа, который и пустой и низкий человек!
– Зачем же низкий? Он пустоват, это правда, – сказал генерал.
– Он подловат и гадковат, не только что пустоват, – подхватила живо Улинька. – Кто так обидел своих братьев и выгнал из дому родную сестру, тот гадкий человек…
– Да ведь это рассказывают только.
– Рассказывать не будут напрасно. У тебя, отец, добрейшая душа и редкое сердце, но ты поступаешь так, что иной подумает о тебе совсем другое. Ты будешь принимать человека, о котором сам знаешь, что он дурен, потому что он только краснобай и мастер перед тобой увиваться.
– Душа моя! ведь мне ж не прогнать его, – сказал генерал.
– Зачем прогонять, но зачем и любить?!
– А вот и нет, ваше превосходительство, – сказал Чичиков Улиньке, о легким наклоном головы, с приятной улыбкой. – По христианству именно таких мы должны любить.
И тут же, обратись к генералу, сказал с улыбкой, уже несколько плутоватой:
– Изволили ли, ваше превосходительство, слышать когда-нибудь о том, что такое – «полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит»?
– Нет, не слыхал.
– А это преказусный анекдот, – сказал Чичиков с плутоватой улыбкой. – В имении, ваше превосходительство, у князя Гукзовского, которого, без сомнения, ваше превосходительство, изволите знать…
– Не знаю.
– Был управитель, ваше превосходительство, из немцев, молодой человек. По случаю поставки рекрут и прочего имел он надобность приезжать в город и, разумеется, подмазывать судейских. – Тут Чичиков, прищуря глаз, выразил в лице своем, как подмазываются судейские. – Впрочем, и они тоже полюбили, угощали его. Вот как-то один раз у них на обеде говорит он: «Что ж, господа, когда-нибудь и ко мне, в имение к князю». Говорят: «Приедем». Скоро после того случилось выехать суду на следствие, по делу, случившемуся во владениях графа Трехметьева, которого, ваше превосходительство, без сомнения, тоже изволите знать.
– Не знаю.
– Самого-то следствия они не делали, а всем судом заворотили на экономический двор, к старику, графскому эконому, да три дня и три ночи без просыпу – в карты. Самовар и пунш, разумеется, со стола не сходят. Старику-то они уж и надоели. Чтобы как-нибудь от них отделаться, он и говорит: «Вы бы, господа, заехали к княжому управителю немцу: он недалеко отсюда и вас ждет». – «А и в самом деле», – говорят, и сполупьяна, небритые и заспанные, как были, на телеги да к немцу… А немец, ваше превосходительство, надобно знать, в это время только что женился. Женился на институтке, молоденькой, субтильной (Чичиков выразил в лице своем субтильность). Сидят они двое за чаем, ни о чем не думая, вдруг отворяются двери – и ввалилось сонмище.
– Воображаю – хороши! – сказал генерал, смеясь.
– Управитель так и оторопел, говорит: «Что вам угодно?» – «А! говорят, так вот ты как!» И вдруг, с этим словом, перемена лиц и физиогномии… «За делом! Сколько вина выкуривается по именью? Покажите книги!» Тот сюды-туды. «Эй, понятых!» Взяли, связали, да в город, да полтора года и просидел немец в тюрьме.
– Вот на! – сказал генерал.
Улинька всплеснула руками.
– Жена – хлопотать! – продолжал Чичиков. – Ну, что ж может какая-нибудь неопытная молодая женщина? Спасибо, что случились добрые люди, которые посоветовали пойти на мировую. Отделался он двумя тысячами да угостительным обедом. И па обеде, когда все уже развеселились, и он также, вот и говорят они ему: «Не стыдно ли тебе так поступить с нами? Ты все бы хотел нас видеть прибранными, да выбритыми, да во фраках. Нет, ты полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит».
Генерал расхохотался; болезненно застонала Улинька.
– Я не понимаю, папа, как ты можешь смеяться! – сказала она быстро. Гнев отемнил прекрасный лоб ее… – Бесчестнейший поступок, за который я не знаю, куды бы их следовало всех услать…
– Друг мой, я их ничуть не оправдываю, – сказал генерал, – но что ж делать, если смешно? Как бишь: «полюби нас беленькими»?..
– Черненькими, ваше превосходительство, – подхватил Чичиков.
– Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Ха, ха, ха, ха!
И туловище генерала стало колебаться от смеха. Плечи, носившие некогда густые эполеты, тряслись, точно как бы носили и поныне густые эполеты.
Чичиков разрешился тоже междуиметием смеха, но, из уважения к генералу, пустил его на букву э: хе, хе, хе, хе, хе! И туловище его также стало колебаться от смеха, хотя плечи и не тряслись, потому что не носили густых эполет.
– Воображаю, хорош был небритый суд! – говорил генерал, продолжая смеяться.
– Да, ваше превосходительство, как бы то ни было… без просыпу… трехдневное бдение – тот же пост: поизнурились, поизнурились, – говорил Чичиков, продолжая смеяться.
Улинька опустилась в кресла и закрыла рукой прекрасные глаза; как бы досадуя на то, что не с кем было поделиться негодованием, сказала она:
– Я не знаю, меня только берет одна досада.
В самом деле, необыкновенно странны были своею противу-положностью те чувства, которые родились в сердцах троих беседовавших людей. Одному была смешна неповоротливая ненаходчивость немца. Другому смешно было оттого, что смешно изворотились плуты. Третьему было грустно, что безнаказанно совершился несправедливый поступок. Не было только четвертого, который бы задумался именно над этими словами, произведшими смех в одном и грусть в другом. Что значит, однако же, что и в паденье своем гибнущий грязный человек требует любви к себе? Животный ли инстинкт это? или слабый крик души, заглушенной тяжелым гнетом подлых страстей, еще пробивающийся сквозь деревенеющую кору мерзостей, еще вопиющий: «Брат, спаси!» Не было четвертого, которому бы тяжелей всего была погибающая душа его брата.
– Я не знаю, – говорила Улинька, отнимая от лица руку, – меня одна только досада берет.
– Только, пожалуйста, не гневайся на нас, – сказал генерал. – Мы тут ни в чем не виноваты. Поцелуй меня и уходи к себе, потому что я сейчас буду одеваться к обеду. Ведь ты, – сказал генерал, вдруг обратясь к Чичикову, – обедаешь у меня?
– Если только ваше превосходительство…
– Без церемонии. Щи есть!
Чичиков приятно наклонил голову, и, когда приподнял потом ее вверх, он уже не увидал Улиньки. Она исчезнула. Наместо ее предстал, в густых усах и бакенбардах, великан-камердинер, с серебряной лоханкой и рукомойником в руках.
– Ты мне позволишь одеваться при себе? – сказал генерал, скидая халат и засучивая рукава рубашки на богатырских руках.
– Помилуйте, не только одеваться, но можете совершать при мне все, что угодно вашему превосходительству, – сказал Чичиков.
Генерал стал умываться, брызгаясь и фыркая, как утка. Вода с мылом летела во все стороны.
– Как бишь? – сказал он, вытирая со всех сторон свою толстую шею, – полюби нас беленькими?..
– Черненькими, ваше превосходительство.
– Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Очень, очень хорошо!
Чичиков был в духе необыкновенном; он чувствовал какое-то вдохновенье.
– Ваше превосходительство! – сказал он.
– Что? – сказал генерал.
– Есть еще одна история.
– Какая?
– История тоже смешная, но мне-то от ней не смешно. Даже так, что если ваше превосходительство…
– Как так?
– Да вот, ваше превосходительство, как!.. – Тут Чичиков осмотрелся и, увидя, что камердинер с лоханкою вышел, начал так: – Есть у меня дядя, дряхлый старик. У него триста душ и, кроме меня, наследников никого. Сам управлять именьем, по дряхлости, не может, а мне не передает тоже. И какой странный приводит резон: «Я, говорит, племянника не знаю; может быть, он мот. Пусть он докажет мне, что он надежный человек, пусть приобретет прежде сам собой триста душ, тогда я ему отдам и свои триста душ».
– Какой дурак!
– Справедливо изволили заметить, ваше превосходительство. Но представьте же теперь мое положение… – Тут Чичиков, понизивши голос, стал говорить как бы по секрету: – У него в доме, ваше превосходительство, есть ключница, а у ключницы дети. Того и смотри, все перейдет им.
– Выжил глупый старик из ума, и больше ничего, – сказал генерал. – Только я не вижу, чем тут я могу пособить.
– Я придумал вот что. Теперь, покуда новые ревижские сказки не поданы, у помещиков больших имений наберется немало, наряду с душами живыми, отбывших и умерших… Так, если, например, ваше превосходительство передадите мне их в таком виде, как бы они были живые, с совершением купчей крепости, я бы тогда эту крепость представил старику, и он, как ни вертись, а наследство бы мне отдал.
Тут генерал разразился таким смехом, каким вряд ли когда смеялся человек: как был, так и повалился он в кресла; голову забросил назад и чуть не захлебнулся. Весь дом встревожился. Предстал камердинер. Дочь прибежала в испуге.
– Папа, что с тобой случилось?
– Ничего, мой друг. Ха, ха, ха! Ступай к себе, мы сейчас явимся обедать. Ха, ха, ха!
И несколько раз задохнувшись, вырывался с новою силою генеральский хохот, раздаваясь от передней до последней комнаты в высоких звонких генеральских покоях.
Чичиков с беспокойством ожидал конца этому необыкновенному смеху.
– Ну, брат, извини: тебя сам черт угораздил на такую штуку. Ха, ха, ха! Попотчевать старика, подсунуть ему мертвых! Ха, ха, ха, ха! Дядя-то, дядя! В каких дураках дядя! Ха, ха, ха, ха!
Положение Чичикова было конфузное: тут же стоял камердинер, разинувши рот и выпуча глаза.
– Ваше превосходительство, ведь смех этот выдумали слезы, – сказал он.
– Извини, брат! Ну, уморил. Да я бы пятьсот тысяч дал за то только, чтобы посмотреть на твоего дядю в то время, как ты поднесешь ему купчую на мертвые души. Да что, он слишком стар? Сколько ему лет?
– Восемьдесят лет, ваше превосходительство. Но это келейное, я бы… чтобы… – Чичиков посмотрел значительно в лицо генерала и в то же время искоса на камердинера.
– Поди вон, братец. Придешь после, – сказал генерал камердинеру. Усач удалился.
– Да, ваше превосходительство… Это, ваше превосходительство, дело такое, что я бы хотел его подержать в секрете…
– Разумеется, я это очень понимаю. Экой дурак старик! Ведь придет же в восемьдесят лет этакая дурь в голову! Да что, он с виду как? бодр? держится еще на ногах?
– Держится, но с трудом.
– Экой дурак! И зубы есть?
– Два зуба всего, ваше превосходительство.
– Экой осел! Ты, братец, не сердись… а ведь он осел…
– Точно так, ваше превосходительство. Хоть он мне и родственник, и тяжело сознаваться в этом, но действительно – осел.
Впрочем, как читатель может смекнуть и сам, Чичикову не тяжело было в этом сознаться, тем более что вряд ли у него был когда-либо какой дядя.
– Так если, ваше превосходительство, будете уже так добры…
– Чтобы отдать тебе мертвых душ? Да за такую выдумку я их тебе с землей, с жильем! Возьми себе все кладбище! Ха, ха, ха, ха! Старик-то, старик! Ха, ха, ха, ха! В каких дураках! Ха, ха, ха, ха!
И генеральский смех пошел отдаваться вновь по генеральским покоям
«Нет, я не так, – говорил Чичиков, очутившись опять посреди открытых полей и пространств, – нет, я не так распоряжусь. Как только, даст бог, все покончу благополучно и сделаюсь действительно состоятельным, зажиточным человеком, я поступлю тогда совсем иначе: будет у меня и повар, и дом, как полная чаша, но будет и хозяйственная часть в порядке. Концы сведутся с концами, да понемножку всякий год будет откладываться сумма и для потомства, если только бог пошлет жене плодородье…» – Эй ты – дурачина!
Селифан и Петрушка оглянулись оба с козел.
– А куда ты едешь?
– Да так изволили приказывать, Павел Иванович, – к полковнику Кошкареву, – сказал Селифан.
– А дорогу расспросил?
– Я, Павел Иванович, изволите видеть, так как все хлопотал около коляски, так оно-с… генеральского конюха только видел… А Петрушка расспрашивал у кучера.
[23] 23
Окончание главы отсутствует. В первом издании второго тома «Мертвых душ» (1855) имеется примечание: «Здесь пропущено примирение генерала Бетрищева с Тентетниковым; обед у генерала и беседа их о двенадцатом годе; помолвка Улиньки за Тентетниковым; молитва ее и плач на гробе матери; беседа помолвленных в саду. Чичиков отправляется, по поручению генерала Бетрищева, к родственникам его, для извещения о помолвке дочери, и едет к одному из этих родственников, полковнику Кошкареву». – Ред.
[Закрыть]
– Вот и дурак! На Петрушку, сказано, не полагаться: Петрушка бревно.
– Ведь тут не мудрость какая, – сказал Петрушка, глядя искоса, – окроме того, что, спустясь с горы, взять попрямей, ничего больше и нет.
– А ты, окроме сивухи, ничего больше, чай, и в рот не брал? Чай, и теперь налимонился?
Увидя, что речь повернула вона в какую сторону, Петрушка закрутил только носом. Хотел он было сказать, что даже и не пробовал, да уж как-то и самому стало стыдно.
– В коляске-с хорошо-с ехать, – сказал Селифан, оборотившись.
– Что?
– Говорю, Павел Иванович, что в коляске-де вашей милости хорошо-с ехать, получше-с, как в бричке – не трясет.
– Пошел, пошел! Тебя ведь не спрашивают об этом.
Селифан хлыснул слегка бичом по крутым бокам лошадей и поворотил речь к Петрушке:
– Слышь, мужика Кошкарев барин одел, говорят, как немца: поодаль и не распознаешь, – выступает по-журавлиному, как немец. И на бабе не то чтобы платок, как бывает, пирогом или кокошник на голове, а немецкий капор такой, как немки ходят, знашь, в капорах, – так капор называется, знашь, капор. Немецкий такой капор.
– А тебя как бы нарядить немцем да в капор! – сказал Петрушка, острясь над Селифаном и ухмыльнувшись. Но что за рожа вышла из этой усмешки! И подобья не было на усмешку, а точно как бы человек, доставши себе в нос насморк и силясь при насморке чихнуть, не чихнул, но так и остался в положенье человека, собирающегося чихнуть.
Чичиков заглянул из-под низа ему в рожу, желая знать, что там делается, и сказал: «Хорош! а еще воображает, что красавец!» Надобно сказать, что Павел Иванович был сурьезно уверен в том, что Петрушка влюблен в красоту свою, тогда как последний временами позабывал, есть ли у него даже вовсе рожа.
– Вот как бы догадались было, Павел Иванович, – сказал Селифан, оборотившись с козел, – чтобы выпросить у Андрея Ивановича другого коня, в обмен на чубарого; он бы, по дружественному расположению к вам, не отказал бы, а это конь-с, право, подлец-лошадь и помеха.
– Пошел, пошел, не болтай! – сказал Чичиков и про себя подумал: «В самом деле, напрасно я не догадался».
Легким ходом неслась тем временем легкая на ходу коляска. Легко подымалась и вверх, хотя подчас и неровна была дорога; легко опускалась и под гору, хотя и беспокойны были спуски проселочных дорог. С горы спустились. Дорога шла лугами через извивы реки, мимо мельниц. Вдали мелькали пески, выступали картинно одна из-за другой осиновые рощи; быстро пролетали мимо их кусты лоз, тонкие ольхи и серебристые тополи, ударявшие ветвями сидевших на козлах Селифана и Петрушку. С последнего ежеминутно сбрасывали они картуз. Суровый служитель соскакивал с козел, бранил глупое дерево и хозяина, который насадил его, но привязать картуза или даже придержать рукою не догадался, все надеясь на то, что авось дальше не случится. Деревья же становились гуще: к осинам и ольхам начала присоединяться береза, и скоро образовалась вокруг лесная гущина. Свет солнца сокрылся. Затемнели сосны и ели. Непробудный мрак бесконечного леса сгущался и, казалось, готовился превратиться в ночь. И вдруг промеж дерев – свет, там и там промеж ветвей и пней, точно живое серебро или зеркала. Лес стал освещаться, деревья редеть, послышались крики – и вдруг перед ними озеро. Водная равнина версты четыре в поперечнике, вокруг дерева, позади их избы. Человек двадцать, по пояс, по плеча и по горло в воде, тянули к супротивному берегу невод. Посреди их плавал проворно, кричал и хлопотал за всех человек, почти такой же меры в вышину, как и в толщину, круглый кругом, точный арбуз. По причине толщины, он уже не мог ни в каком случае потонуть и как бы ни кувыркался, желая нырнуть, вода бы его все выносила наверх; и если бы село к нему на спину еще двое человек, он бы, как упрямый пузырь, остался с ними на верхушке воды, слегка только под ними покряхтывал да пускал носом и ртом пузыри.
– Этот, Павел Иванович, – сказал Селифан, оборотясь с козел, – должен быть барин, полковник Кошкарев.
– Отчего?
– Оттого, что тело у него, изволите видеть, побелей, чем у других, и дородство почтительное, как у барина.
Крики между тем становились явственней. Скороговоркой и звонко выкрикивал барин-арбуз:
– Передавай, передавай, Денис, Козьме! Козьма, бери хвост у Дениса! Фома Большой, напирай туды же, где и Фома Меньшой! Заходи справа, справа заходи! Стой, стой, черт вас побери обоих! Запутали меня самого в невод! Зацепили, говорю, проклятые, зацепили за пуп.
Влачители правого крыла остановились, увидя, что действительно случилась непредвиденная оказия: барин запутался в сети.
– Вишь ты, – сказал Селифан Петрушке, – потащили барина, как рыбу.
Барин барахтался и, желая выпутаться, перевернулся на спину, брюхом вверх, запутавшись еще в сетку. Боясь оборвать сеть, плыл он вместе с пойманною рыбою, приказавши себя перехватить только впоперек веревкой. Перевязавши его веревкой, бросили конец ее на берег. Человек с двадцать рыбаков, стоявших на берегу, подхватили конец и стали бережно тащить его. Добравшись до мелкого места, барин стал на ноги, покрытый клетками сети, как в летнее время дамская ручка под сквозной перчаткой, – взглянул вверх и увидел гостя, в коляске въезжавшего на плотину. Увидя гостя, кивнул он головой. Чичиков снял картуз и учтиво раскланялся с коляски.
– Обедали? – закричал барин, подходя с пойманною рыбою на берег, держа одну руку над глазами козырьком в защиту от солнца, другую же пониже – на манер Венеры Медицейской, выходящей из бани.
– Нет, – сказал Чичиков.
– Ну, так благодарите же бога.
– А что? – спросил Чичиков любопытно, держа над головою картуз.
– А вот что! – сказал барин, очутившийся на берегу вместе с коровами и карасями, которые бились у ног его и прыгали на аршин от земли. – Это ничего, на это не глядите; а вот штука, вон где!.. А покажите-ка, Фома Большой, осетра. – Два здоровых мужика вытащили из кадушки какое-то чудовище. – Каков князек? из реки зашел!
– Да это целый князь! – сказал Чичиков.
– Вот то-то же. Поезжайте-ка вы теперь вперед, а я за вами. Кучер, ты, братец, возьми дорогу пониже, через огород. Побеги, телепень Фома Меньшой, снять перегородку. А я за вами – как тут, прежде чем успеете оглянуться.
«Полковник чудаковат», – подумал (Чичиков), проехавши наконец бесконечную плотину и подъезжая к избам, из которых одни, подобно стаду уток, рассыпались по косогору возвышенья, а другие стояли внизу на сваях, как цапли. Сети, невода, бредни развешаны были повсюду. Фома Меньшой снял перегородку, коляска проехала огородом и очутилась на площади возле устаревшей деревянной церкви. За церковью, подальше, видны были крыши господских строений.
– А вот я и здесь! – раздался голос сбоку. Чичиков оглянулся. Барин уже ехал возле него, одетый, на дрожках – травяно-зеленый нанковый сюртук, желтые штаны и шея без галстука, на манер купидона! Боком сидел он на дрожках, занявши собою все дрожки. Чичиков хотел было что-то сказать ему, но толстяк уже исчез. Дрожки показались на другой стороне и только слышалея голос: «Щуку и семь карасей отнесите повару-телепню, а осетра подавай сюда: я его свезу сам на дрожках». Раздались снова голоса: «Фома Большой да Фома Меньшой! Козьма да Денис!» Когда же подъехал он к крыльцу дома, к величайшему изумленью его, толстый барин был уже на крыльце и принял его в свои объятья. Как он успел так слетать, было непостижимо. Они поцеловались троекратно навкрест.
– Я привез вам поклон от его превосходительства, – сказал Чичиков.
– От какого превосходительства?
– От родственника вашего, от генерала Александра Дмитриевича.
– Кто это Александр Дмитриевич?'
– Генерал Бетрищев, – отвечал Чичиков с некоторым изумлением.
– Не знаю-с, незнаком.
Чичиков пришел еще в большее изумление.
– Как же это?.. Я надеюсь, по крайней мере, что имею удовольствие говорить с полковником Кошкаревым?
– Петр Петрович Петух, Петух Петр Петрович! – подхватил хозяин.
Чичиков остолбенел.
– Вот тебе на! Как же вы, дураки, – сказал он, оборотившись к Селифану и Петрушке, которые оба разинули рты и выпучили глаза, один сидя на козлах, другой стоя у дверец коляски, – как же вы, дураки? Ведь вам сказано – к полковнику Кошкареву… А ведь это Петр Петрович Петух…
– Ребята сделали отлично! – сказал Петр Петрович. – За это вам по чапорухе водки и кулебяка в придачу. Откладывайте коней и ступайте сей же час в людскую!
– Я совещусь, – говорил Чичиков, раскланиваясь, – такая неожиданная ошибка…
– Не ошибка, – живо проговорил Петр Петрович Петух, – не ошибка. Вы прежде попробуйте, каков обед, да потом скажете: ошибка ли это? Покорнейше прошу, – сказал (он), взявши Чичикова под руку и вводя его во внутренние покои.
Чичиков, чинясь, проходил в дверь боком, чтоб дать и хозяину пройти с ним вместе; но это было напрасно: хозяин бы не прошел, да его уж и не было. Слышно было только, как раздавались его речи по двору: «Да что ж Фома Большой? Зачем он до сих пор не здесь? Ротозей Емельян, беги к повару-телепню, чтобы потрошил поскорей осетра. Молоки, икру, потроха и лещей в уху, а карасей – в соус. Да раки, раки! Ротозей Фома Меньшой, где же раки? раки, говорю, раки?!» И долго раздавалися всё – раки да раки.
– Ну, хозяин захлопотался, – сказал Чичиков, садясь в кресла и осматривая углы и стены.
– А вот я и здесь, – сказал, входя, хозяин и ведя за собой двух юношей, в летних сюртуках. Тонкие, точно ивовые хлысты, выгнало их вверх почти на целый аршин выше Петра Петровича.
– Сыны мои, гимназисты. Приехали на праздники. Никола-ша, ты побудь с гостем, а ты, Алексаша, ступай за мной.
И снова исчезнул Петр Петрович Петух.
Чичиков занялся с Николашей. Николаша был говорлив. Он рассказал, что у них в гимназии не очень хорошо учат, что больше благоволят к тем, которых маменьки шлют побогаче подарки, что в городе стоит Ингерманландский гусарский полк; что у ротмистра Ветвицкого лучше лошадь, нежели у самого полковника, хотя поручик Взъемцев ездит гораздо его почище.
– А что, в каком состоянье имение вашего батюшки? – спросил Чичиков.
– Заложено, – сказал на это сам батюшка, снова очутившийся в гостиной, – заложено.
Чичикову осталось сделать то же самое движенье губами, которое делает человек, как дело идет на нуль и оканчивается ничем.
– Зачем же вы заложили? – спросил он.
– Да так. Все пошли закладывать, так зачем же отставать от других? Говорят, выгодно. Притом же все жил здесь, дай-ка еще попробую прожить в Москве.