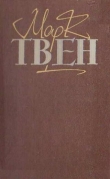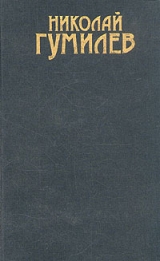
Текст книги "Том 2. Драматургия. Проза"
Автор книги: Николай Гумилев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
Нам сказали, что наш друг турецкий консул находится в отеле в двух часах езды от Харара и ожидает, чтобы харарские власти были официально извещены о его прибытьи в Аддис-Абебу. Об этом хлопотал германский посланник в Аддис-Абебе. Мы решили заехать в этот отель, отправив караван вперёд.
Несмотря на то, что консул ещё не вступил в исполнение своих обязанностей, он уже принимал многочисленных мусульман, видевших в нём наместника самого султана и желавших его приветствовать. По восточному обычаю все приходили с подарками. Турки-садоводы приносили овощи и плоды, арабы – баранов и кур. Вожди полунезависимых сомалийских племён присылали спрашивать, что он хочет, льва, слона, табун лошадей или десяток страусовых кож, снятых вместе со всеми перьями. И только сирийцы, одетые в пиджаки и корчащие европейцев, приходили с развязным видом и пустыми руками.
Мы пробыли у консула около часа и, приехав в Харар, узнали грустную новость, что наши ружья и патроны задержаны в городской таможне. На следующее утро наш знакомый армянин, коммерсант из окрестностей Харара, заехал за нами, чтобы вместе ехать навстречу консулу, который, наконец, получил нужные бумаги и мог совершить торжественный въезд в Харар. Мой спутник слишком устал накануне, и я поехал один. Дорога имела праздничный вид. Арабы в белых и цветных одеждах в почтительных позах сидели на скалах. Там и сям сновали абиссинские ашкеры, посланные губернатором для почётного конвоя и водворения порядка. Белые, то есть греки, армяне, сирийцы и турки – все знакомые между собой, скакали группами, болтая и одалживаясь папироской. Попадавшиеся навстречу крестьяне-галласы испуганно сторонились, видя такое торжество.
Консул, я, кажется, забыл написать, что это был генеральный консул, был достаточно величествен в своём богато расшитом золотом мундире, ярко-зелёной ленте через плечо и ярко-красной феске. Он сел на большую белую лошадь, выбранную из самых смирных (он не был хорошим наездником), два ашкера взяли её под уздцы, и мы тронулись обратно в Харар. Мне досталось место по правую руку консула, по левую ехал Калиль Галеб, здешний представитель торгового дома Галебов. Впереди бежали губернаторские ашкеры, позади ехали европейцы, и сзади них бежали преданные мусульмане и разный праздношатающийся люд. В общем, было человек до шестисот. Греки и армяне, ехавшие сзади, напирали на нас нещадно, каждый стараясь показать свою близость к консулу. Один раз даже его лошадь вздумала бить задом, но и это не останавливало честолюбцев. Большое замешательство произвела какая-то собака, которая вздумала бегать и лаять в этой толпе. Её гнали, били, но она всё принималась за своё. Я отделился от шествия, потому что у моего седла оборвался подхвостник, и со своими двумя ашкерами вернулся в отель. На следующий день, согласно прежде полученному и теперь подтверждённому приглашению, мы перебрались из отеля в турецкое консульство.
Чтобы путешествовать по Абиссинии, необходимо иметь пропуск от правительства. Я телеграфировал об этом русскому поверенному в делах в Аддис-Абебу и получил ответ, что приказ выдать мне пропуск отправлен начальнику харарской таможни нагадрасу Бистрати. Но нагадрас объявил, что он ничего не может сделать без разрешения своего начальника дедьязмага Тафари. К дедьязмагу следовало идти с подарком. Два дюжих негра, когда мы сидели у дедьязмага, принесли, поставили к его ногам купленный мной ящик с вермутом. Сделано это было по совету Калиль Галеба, который нас и представлял. Дворец дедьязмага, большой двухэтажный деревянный дом с крашеной верандой, выходящий во внутренний, довольно грязный двор, напоминал не очень хорошую дачу, где-нибудь в Парголосе или Териоках. На дворе толклось десятка два ашкеров, державшихся очень развязно. Мы поднялись по лестнице и после минутного ожиданья на веранде вошли в большую устланную коврами комнату, где вся мебель состояла из нескольких стульев и бархатного кресла для дедьязмага. Дедьязмаг поднялся нам навстречу и пожал нам руки. Он был одет в шамму, как все абиссинцы, но по его точёному лицу, окаймлённому чёрной вьющейся бородкой, по большим полным достоинства газельим глазам и по всей манере держаться в нём сразу можно было угадать принца. И неудивительно: он был сын раса Маконнена, двоюродного брата и друга императора Менелика, и вёл свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской. Мы просили его о пропуске, но он, несмотря на подарок, ответил, что без приказания из Аддис-Абебы он ничего сделать не может. К несчастью, мы не могли даже достать удостоверения от нагадраса, что приказ получен, потому что нагадрас отправился искать мула, пропавшего с почтой из Европы по дороге из Дире-Дауа в Харар. Тогда мы просили дедьязмага о разрешении сфотографировать его, и на это он тотчас же согласился. Через несколько дней мы пришли с фотографическим аппаратом. Ашкеры расстелили ковры прямо на дворе, и мы сняли дедьязмага в его парадной синей одежде. Затем была очередь за принцессой, его женой.
Она сестра Лидж Иясу, наследника престола, и следовательно, внучка Менелика. Ей двадцать два года, на три года больше, чем её мужу, и черты её лица очень приятны, несмотря на некоторую полноту, которая уже испортила её фигуру. Впрочем, кажется, она находилась в интересном положении. Дедьязмаг проявлял к ней самое трогательное вниманье. Сам усадил в нужную позу, оправил платье и просил нас снять её несколько раз, чтобы наверняка иметь успех. При этом выяснилось, что он говорит по-французски, но только стесняется, не без основанья находя, что принцу неприлично делать ошибки. Принцессу мы сняли с её двумя девочками-служанками.
Мы послали в Аддис-Абебу новую телеграмму и принялись за работу в Хараре. Мой спутник стал собирать насекомых в окрестностях города. Я его сопровождал раза два. Это удивительно умиротворяющее душу занятие: бродить по белым тропинкам между кофейных полей, взбираться на скалы, спускаться к речке и везде находить крошечных красавцев – красных, синих, зелёных и золотых. Мой спутник собирал их в день до полусотни, причём избегал брать одинаковых. Моя работа была совсем иного рода: я собирал этнографические коллекции, без стеснения останавливал прохожих, чтобы посмотреть надетые на них вещи, без спроса входил в дома и пересматривал утварь, терял голову, стараясь добиться сведений о назначении какого-нибудь предмета у не понимавших, к чему всё это, хараритов. Надо мной насмехались, когда я покупал старую одежду, одна торговка прокляла, когда я вздумал её сфотографировать, и некоторые отказывались продать мне то, что я просил, думая, что это нужно мне для колдовства. Для того, чтобы достать священный здесь предмет – чалму, которую носят харариты, бывавшие в Мекке, мне пришлось целый день кормить листьями ката (наркотического средства, употребляемого мусульманами) обладателя его, одного старого полоумного шейха. И в доме матери кавоса при турецком консульстве я сам копался в зловонной корзине для старья и нашёл там много интересного. Эта охота за вещами увлекательна чрезвычайно: перед глазами мало-помалу встаёт картина жизни целого народа и всё растёт нетерпенье увидеть её больше и больше. Купив прядильную машину, я увидел себя вынужденным узнать и ткацкий станок. После того, как была приобретена утварь, понадобились и образчики пищи. В общем, я приобрёл штук семьдесят чисто хараритских вещей, избегая покупать арабские или абиссинские. Однако всему должен наступить конец. Мы решили, что Харар изучен, насколько нам позволяли наши силы, и, так как пропуск мог быть получен только дней через восемь, налегке, то есть только с одним грузовым мулом и тремя ашкерами, отправились в Джиджига к сомалийскому племени Габаризаль. Но об этом я позволю себе рассказать в одной из следующих глав.
Глава четвёртаяХарар основан лет девятьсот тому назад мусульманскими выходцами из Тигре, бежавшими от религиозных преследований, и смешавшимися с ними арабами. Он расположен на небольшом, но чрезвычайно плодородном плоскогорье, которое с севера и с запада граничит с данакильской пустыней, с востока – с землёй Сомали, а с юга – с высокой и лесистой областью Мета; в общем, занимаемое им пространство равняется восьмидесяти квадратным километрам. Собственно харариты живут только в городе и выходят работать в сады, где растёт кофе и чад (дерево с опьяняющими листьями), остальное пространство с пастбищами и полями дурро и маиса ещё в XVI веке занято галласами, коту, то есть земледельцами. Харар был независимым государством до… В этом году негус Менелик в битве при Челонко в Гергере наголову разбил харарского негуса Абдуллаха и взял его самого в плен, где тот вскоре и умер. Его сын живёт под надзором правительства в Абиссинии, номинально называется харарским негусом и получает солидную пенсию. Я его видел в Аддис-Абебе: это красивые полный араб с приятной важностью лица и движений, но с какой-то запуганностью во взгляде. Впрочем, он не высказывает никаких поползновений вернуть себе престол. После победы Менелик поручил управление Хараром своему двоюродному брату расу Маконнену, одному из величайших государственных людей Абиссинии. Тот удачными войнами распространил пределы своей провинции на всю землю данакилей и на большую часть Сомалийского полуострова. После его смерти Хараром управлял его сын дедзаг Ильма, но через год он умер. Потом дедзаг Бальча. Это был человек сильный и суровый. О нём до сих пор говорят в городе, кто с негодованием, кто с неподдельным уважением. Когда он прибыл в Харар, там был целый квартал весёлых женщин, и его солдаты принялись ссориться из-за них, и дело доходило даже до убийства. Бальча приказал вывести их всех на площадь и продал с публичного торга (как рабынь), поставив их покупателям условие, что они должны смотреть за поведением своих новых рабынь. Если хоть одна из них будет замечена, что она занимается прежним ремеслом, то она подвергается смертной казни, а соучастник её преступления платит штраф в десять талеров. Теперь Харар едва ли не самый целомудренный город в мире, так как харариты, не поняв, как следует, принца, распространили его даже на простой адюльтер. Когда пропала европейская почта, Бальча приказал повесить всех обитателей того дома, где нашлась пустая сумка, и четырнадцать трупов долго качались на деревьях по дороге между Дире-Дауа и Хараром. Он отказывался платить подати негусу, утверждая, что по эту сторону Гаваша негус – он, и предлагал отрешить его от губернаторства; он знал, что им дорожили как единственным в Абиссинии искусным стратегом. Теперь он губернатор в отдалённой области Сидамо и ведёт себя там так же, как в Хараре. Дедьязмаг Тафари, наоборот, мягок, нерешителен и непредприимчив. Порядок держится только вице-губернатором Фитаурари Габре, старым сановником школы Бальчи. Этот охотно раздаёт по двадцать, тридцать жирафов, то есть ударов бичом из жирафьей кожи, и даже вешает подчас, но очень редко.
И европейцы, и абиссинцы, и галласы, точно сговорившись, ненавидят хараритов. Европейцы за вероломство и продажность, абиссинцы за лень и слабость, ненависть галласов, результат многовековой борьбы, имеет даже мистический оттенок. «Сыну ангелов, не носящему рубашки, не следует входить в дома чёрных хараритов» – поётся в их песенке, и обыкновенно они исполняют этот завет. Всё это мне кажется не совсем справедливым. Харариты действительно унаследовали наиболее отталкивающие качества семитической расы, но не больше, чем арабы Каира или Александрии, и это их несчастье, что им приходилось жить среди рыцарей-абиссинцев, трудолюбивых галласов и благородных арабов Йемена. Они очень начитаны, отлично знают Коран и арабскую литературу, но особенной религиозностью не отличаются. Их главный святой – шейх Абукир, пришедший лет двести тому назад из Аравии и похороненный в Хараре. Ему посвящены многочисленные платаны в городе и окрестностях, так называемые аулиа. Аулиа здешние мусульмане называют всё обладавшее силой творить чудеса во славу Аллаха. Есть аулиа покойники и живые, деревья и предметы. Так, на базаре в Гинире мне долго отказывались продать зонтик туземной работы, говоря, что это аулиа. Впрочем, более образованные знают, что неодушевлённый предмет не может быть священным сам по себе и что чудеса творит дух того или иного святого, поселившегося в этом предмете.
Умер ли Менелик?
Умер ли Менелик – вот вопрос, от которого зависит судьба самой большой независимой страны в Африке, страны с пятнадцатью миллионами населения, древней православной Абиссинии. Если да – могучие феодалы поднимут спор за императорский трон, недавно покоренные народы возмутятся, и все это окажется предлогом для европейцев разделить между собой Абиссинию. Этот раздел уже решен, и по тайному соглашению французы получат восточные области, итальянцы – северные и часть южных, англичане – все остальное. Не знают только, как поступить с центральной частью, где озеро Тана. Из него берет свое начало голубой Нил, главный ороситель Египта. Итальянцы, овладев этим озером, могут отвести воду в свою ныне бесплодную Эритрею, она станет новым Египтом, а старый, лишенный воды, сольется с Сахарой. Англичане, конечно, не могут на это согласиться и требуют Тану себе, хотя они и так при разделе получат больше других.
Если же жив Менелик – все будет по старому. Министры из столицы Абиссинии, Аддис-Абебы, будут повелевать феодалами, сильные гарнизоны – держать в повиновении покоренные племена: белые не посмеют напасть на сплоченный, безумно храбрый и удивительно выносливый народ. Европейские школы, которые уже есть в Абиссинии, выпустят ряд людей, способных к управлению и понимающих опасности, грозящие их стране, и она останется независимой еще много веков, чего, конечно, заслуживает вполне.
Постараемся же разобрать этот вопрос и для этого вернемся к событиям 1906 года. Уже давно Менелик хотел сломить власть феодалов. Эти надменные расы, засевшие в своих то горных, то лесистых областях, охотно признавали его своим владыкой, но они не хотели признать его наследником любимого внука Лиджа Иассу, сына его дочери и покоренного крестившегося вождя Уоло. В значительной мере справедливо они утверждали, что, если Менелик не хочет признать наследниками своих сыновей, то следует отдать престол чистокровному абиссинцу и потомку царя Соломона, как вся царская фамилия. Менелик решился на рискованный шаг: он сохранил за расами губернаторские права в их областях, но все управление поручил министрам, которых избрал из преданных ему лиц, по большей части незнатного происхождения. Тотчас же вслед за этим влиятельный вождь, рас Маконен, направился со своими харрарскими отрядами на Аддис-Абебу. Его отравили по дороге. В Тигрэ вспыхнуло восстание и после кровавых битв было подавлено. Остальные расы глухо волновались, но вдруг пронесся слух, что Менелик умер.
В Аддис-Абебе мне рассказывали ужасные вещи. Императору дали яд, но страшным напряжением воли, целый день скача на лошади, он поборол его действие. Тогда его отравили вторично уже медленно действующим ядом и старались подорвать бодрость его духа зловещими предзнаменованиями. Для суеверных абиссинцев мертвая кошка указывает на гибель увидавшего ее. Каждый вечер, входя в спальню, император находил у постели труп черной кошки. И однажды ночью императрица Таиту объявила, что после внезапной смерти Менелика правительницей становится она, и послала арестовать министров. Те, отбившись от нападавших, собрались на совет в доме митрополита Абуны Матеоса, наутро арестовали Таиту и объявили, что Менелик жив, но болен, и видеть его нельзя.
С тех пор никто, кроме официальных лиц, не мог сказать, что видел императора. Даже европейские посланники не допускались к нему. Именем еще малолетнего наследника, Лиджа Иассу, управлял его опекун рас Тасама, который во всем считался с мнениями министров. В судах и при официальных выступлениях, как прежде, все решалось именем Менелика. В церквах молились о его выздоровлении.
Так прошло шесть лет, и Лидж Иассу вырос. Несколько охот на слонов, несколько походов на еще непокоренные племена – и у львенка загорелись глаза на императорский престол. Рас Тасама внезапно умер от обычной среди абиссинских сановников болезни: от яда; и однажды, тоже ночью, Лидж Иассу со своими приближенными ворвался в императорский дворец, чтобы доказать, что Менелик умер, и он может быть коронован. Но правительство не дремало: министр финансов, Хайле Георгис, первый красавец и щеголь в Аддис-Абебе, собрав людей, выгнал Лиджа Иассу из дворца, военный министр Уольде Георгис, прямо с постели, голый, бросился на телеграфную станцию и саблей перерубил провода, чтобы белые не узнали о смутах в столице. Лиджу Иассу было сделано строжайшее внушение, после которого он должен был отправиться погостить к отцу, в Уолло. Европейским посланникам было категорически подтверждено, что Менелик жив.
Несколько недель тому назад я опять прочел в газетах, что Менелик умер, а на другой же день – опровержение этого слуха. Значит, повторилось что-нибудь подобное только что рассказанному.
Итак, жив ли Менелик, или нет? По-моему – жив, потому что жива лучшая его часть – могучая и сплоченная Абиссиния, такая, какою он ее создал. Когда будет окончательно сказано, что он умер, он действительно умрет с независимостью Абиссинии, символом которой он являлся. Об его предке, царе Соломоне, рассказывают, что он заставил духов строить храм и, почувствовав приближение смерти, приказал привязать свое тело к трону, чтобы духи не заметили, что он мертв, и продолжали свою работу. То же самое повторилось и в наши дни.
И по всей Абиссинии звучит песня, сложенная не в золотые дни побед и правления любимого императора, а в туманные дни его второго призрачного бытия:
Смерти не миновать; был император Аба-Данья [3]3
Аба-Данья – господин Даньи (имя лошади); абиссинцы в песнях определяют своих вождей, как хозяев принадлежащих им любимых лошадей.
[Закрыть],
но у леопарда болят глаза,
он не выходит из своего логовища!
Лошадь Аба-Даньи не стала бы трусливой:
трусливая лошадь тени боится,
начиная от слона и кончая жирафом.
Кому завещал он свой щит?
Пока еще он продолжает грозить,
но люди держат его лишь по привычке!
Записки кавалериста
Глава IМне, вольноопределяющемуся-охотнику одного из кавалерийских полков, работа нашей кавалерии представляется как ряд отдельных вполне законченных задач, за которыми следует отдых, полный самых фантастических мечтаний о будущем. Если пехотинцы – поденщики войны, выносящие на своих плечах всю ее тяжесть, то кавалеристы – это веселая странствующая артель, с песнями в несколько дней кончающая прежде длительную и трудную работу. Нет ни зависти, ни соревнования. «Вы – наши отцы, – говорит кавалерист пехотинцу, – за вами как за каменной стеной».
<…>
Помню, был свежий солнечный день, когда мы подходили к границе Восточной Пруссии. Я участвовал в разъезде, посланном, чтобы найти генерала М., к отряду которого мы должны были присоединиться. Он был на линии боя, но, где протянулась эта линия, мы точно не знали. Так же легко, как на своих, мы могли выехать на германцев. Уже совсем близко, словно большие кузнечные молоты, гремели германские пушки, и наши залпами ревели им в ответ. Где-то убедительно быстро на своем ребячьем и страшном языке пулемет лепетал непонятное.
Неприятельский аэроплан, как ястреб над спрятавшейся в траве перепелкою, постоял над нашим разъездом и стал медленно спускаться к югу. Я увидел в бинокль его черный крест.
Этот день навсегда останется священным в моей памяти. Я был дозорным и первый раз на войне почувствовал, как напрягается воля, прямо до физического ощущения какого-то окаменения, когда надо одному въезжать в лес, где, может быть, залегла неприятельская цепь, скакать по полю, вспаханному и поэтому исключающему возможность быстрого отступления, к движущейся колонне, чтобы узнать, не обстреляет ли она тебя. И в вечер этого дня, ясный, нежный вечер, я впервые услышал за редким перелеском нарастающий гул «ура», с которым был взят В. Огнезарная птица победы в этот день слегка коснулась своим огромным крылом и меня.
На другой день мы вошли в разрушенный город, от которого медленно отходили немцы, преследуемые нашим артиллерийским огнем. Хлюпая в черной липкой грязи, мы подошли к реке, границе между государствами, где стояли орудия. Оказалось, что преследовать врага в конном строю не имело смысла: он отступал нерасстроенным, останавливаясь за каждым прикрытием и каждую минуту готовый поворотить – совсем матерый, привыкший к опасным дракам волк. Надо было только нащупывать его, чтобы давать указания, где он. Для этого было довольно разъездов.
По трясущемуся наспех сделанному понтонному мосту наш взвод перешел реку.
<…>
Мы были в Германии.
Я часто думал с тех пор о глубокой разнице между завоевательным и оборонительным периодами войны. Конечно, и тот и другой необходимы лишь для того, чтобы сокрушить врага и завоевать право на прочный мир, но ведь на настроение отдельного воина действуют не только общие соображения, – каждый пустяк, случайно добытый стакан молока, косой луч солнца, освещающий группу деревьев, и свой собственный удачный выстрел порой радуют больше, чем известие о сражении, выигранном на другом фронте. Эти шоссейные дороги, разбегающиеся в разные стороны, эти расчищенные, как парки, рощи, эти каменные домики с красными черепичными крышами наполнили мою душу сладкой жаждой стремления вперед, и так близки показались мне мечты Ермака, Перовского и других представителей России, завоевывающей и торжествующей. Не это ли и дорога в Берлин, пышный город солдатской культуры, в который надлежит входить не с ученическим посохом в руках, а на коне и с винтовкой за плечами?
Мы пошли лавой, и я опять был дозорным. Проезжал мимо брошенных неприятелем окопов, где валялись сломанная винтовка, изодранные патронташи и целые груды патронов. Кое-где виднелись красные пятна, но они не вызывали того чувства неловкости, которое нас охватывает при виде крови в мирное время.
<…>
Передо мной на невысоком холме была ферма. Там мог скрываться неприятель, и я, сняв с плеча винтовку, осторожно приблизился к ней.
Старик, давно перешедший возраст ландштурмиста, робко смотрел на меня из окна. Я спросил его, где солдаты. Быстро, словно повторяя заученный урок, он ответил, что они прошли полчаса тому назад, и указал направление. Был он красноглазый, с небритым подбородком и корявыми руками. Наверно, такие во время нашего похода в Восточную Пруссию стреляли в наших солдат из монтекристо. Я не поверил ему и проехал дальше. Шагах в пятистах за фермой начинался лес, в который мне надо было въехать, но мое внимание привлекла куча соломы, в которой я инстинктом охотника угадывал что-то для меня интересное. В ней могли прятаться германцы. Если они вылезут прежде, чем я их замечу, они застрелят меня. Если я замечу их вылезающими, то – я их застрелю. Я стал объезжать солому, чутко прислушиваясь и держа винтовку на весу. Лошадь фыркала, поводила ушами и слушалась неохотно. Я так был поглощен моим исследованием, что не сразу обратил внимание на редкую трескотню, раздававшуюся со стороны леса. Легкое облачко белой пыли, взвивавшееся шагах в пяти от меня, привлекло мое внимание. Но только когда, жалостно ноя, пуля пролетела над моей головой, я понял, что меня обстреливают, и притом из лесу. Я обернулся на разъезд, чтобы узнать, что мне делать. Он карьером скакал обратно. Надо было уходить и мне. Моя лошадь сразу поднялась в галоп, и как последнее впечатление я запомнил крупную фигуру в черной шинели, с каской на голове, на четвереньках, с медвежьей ухваткой вылезавшую из соломы.
Пальба уже стихла, когда я присоединился к разъезду. Корнет был доволен. Он открыл неприятеля, не потеряв при этом ни одного человека. Через десять минут наша артиллерия примется за дело. А мне было только мучительно обидно, что какие-то люди стреляли по мне, бросили мне этим вызов, а я не принял его и повернул. Даже радость избавления от опасности нисколько не смягчала этой внезапно закипевшей жажды боя и мести. Теперь я понял, почему кавалеристы так мечтают об атаках. Налететь на людей, которые, запрятавшись в кустах и окопах, безопасно расстреливают издали видных всадников, заставить их бледнеть от все учащающегося топота копыт, от сверкания обнаженных шашек и грозного вида наклоненных пик, своей стремительностью легко опрокинуть, точно сдунуть, втрое сильнейшего противника, это – единственное оправдание всей жизни кавалериста.
<…>
На другой день испытал я и шрапнельный огонь. Наш эскадрон занимал В., который ожесточенно обстреливали германцы. Мы стояли на случай их атаки, которой так и не было. Только вплоть до вечера, все время протяжно и не без приятности, пела шрапнель, со стен сыпалась штукатурка да кое-где загорались дома. Мы входили в опустошенные квартиры и кипятили чай. Кто-то даже нашел в подвале насмерть перепуганного жителя, который с величайшей готовностью продал нам недавно зарезанного поросенка. Дом, в котором мы его съели, через полчаса после нашего ухода был продырявлен тяжелым снарядом. Так я научился не бояться артиллерийского огня.