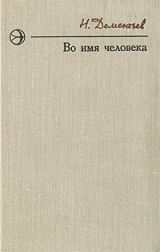
Текст книги "Подготовка к экзамену"
Автор книги: Николай Дементьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Есть люди, у которых начисто отсутствует привычка к труду. Необходимость постоянно и ежедневно трудиться вызывает в них непреодолимое отвращение. Таков Виктор.
Однажды мы с ним сидели в моей комнате, готовились к экзамену по литературе, повторяли «Мертвые души» Гоголя. У нас были гости, из столовой доносилась музыка, веселые голоса. Виктор невольно улыбался, прислушиваясь к ним, вдруг сказал мне:
– Пойдем попляшем, а?
Я вздохнула, подняла голову от стола, поглядела на Виктора: на лице его было неудержимое желание бросить все и бежать туда, где музыка, веселье… Сказала как можно спокойнее, вернее, попросила даже:
– Ну, давай уж посидим еще хоть часик? Ведь завтра экзамен.
Лицо Виктора окаменело, глаза сузились. Он вскочил, вышел из комнаты. Еще дверью хлопнул.
Я сидела за столом, сведя плечи, как тогда ночью, когда плакала на постели.
Очень скоро дверь в комнату снова открылась, голос отца проговорил весело и настойчиво:
– Нет уж, Витя-Витенька: делу – время, потехе – час, и этот час еще не настал!
Я подняла голову: отец обнимал Виктора за плечи, стоя за его спиной, но смотрел на меня внимательно и серьезно, с тревогой даже. А у Виктора было по-прежнему злое, окаменевшее лицо.
– Иди, иди, – сказала я отцу. – Мы с Виктором еще позанимаемся, а потом придем.
Отец вздохнул, ушел. Виктор сел рядом со мной за стол, а я неожиданно для себя спросила:
– Тебе не кажется, что когда Николай Васильевич Гоголь писал свои «Мертвые души», имел в виду не только конкретных Ноздрева и Коробочку?
– А кого же тогда?
Я внимательно посмотрела на Виктора и не ответила. Он не понял моего намека.
– Ладно. Давай повторять дальше.
На экзамене Виктору попался билет, одним из вопросов которого были как раз «Мертвые души». Нине Георгиевне поправилось, когда Виктор сказал, что Гоголь, создавая «Мертвые души», имел в виду не только конкретных Ноздрева с Коробочкой. Вообще же отвечал он неуверенно. И Нина Георгиевна поставила ему тройку. Нашла глазами меня, сказала:
– Нилову благодари, ковбой Плахов!
9
Мы с Виктором по-прежнему готовились к экзаменам у нас дома. Однажды, когда отца с мамой не было и мы остались вдвоем, Виктор, как прежде, попытался обнять меня но я отстранилась. Тогда он попросил меня, что уж было совершенно необычно для него:
– Давай готовиться у нас, как раньше, а?
– Нет, – ответила я.
Виктор удивленно посмотрел на меня, потом лицо его опять окаменело, сделалось упрямым, губы растянулись. Я знала, что за этим может последовать грубая выходка с его стороны, что могу даже получить пощечину, но не двигалась, глядела прямо в глаза ему. Спросила насмешливо:
– В детстве строил игрушки из «Конструктора»?
Он мигнул удивленно.
– Ну, строил…
– Ну, а если игрушка не получалась, бывали случаи, что даже ломал «Конструктор»?
– Ну, бывали…
И вдруг буквально сграбастал меня своими ручищами. Я не сопротивлялась, только спросила негромко:
– Не противно?
Сначала Виктор замер, расслышав мои слова, потом распрямился. Глаза его сделались непроницаемо-черными, как у Александра Викторовича.
Я сказала уже чуть побыстрее:
– Помнишь тот случай на террасе в Солнечном? Не хочется повторяться, а только я тебе не игрушка из детского «Конструктора». Да и аттестат зрелости не советую тебе ломать по злобе. Может, тебе и наплевать на реакцию твоих родителей, если ты его не получишь. И на реакцию школы наплевать, а только ты ведь еще лет сорок прожить можешь: сто раз пожалеешь, что не получил аттестата, когда до него осталось всего две недели!
Есть люди, которым для изменения собственного настроения совершенно необходимы быстрые и сильные, физические упражнения. Поэтому Виктор сначала довольно выразительно помахал кулаками у моего лица, потом отбросил ногой далеко к стене свой стул; потоптался на месте, не сводя с меня почерневших глаз. А я только улыбалась насмешливо. Потом сказала:
– Ну что, милок, перебесился?
И тогда Виктор опрометью кинулся к двери. Я слышала, как он пробежал через прихожую, как резко хлопнула входная дверь, как прогремели шаги Виктора на лестнице. И тотчас заплакала, так уж горько и сиротливо мне стало. Ведь Виктор-то мне все еще нравился! И безразличны мне вдруг стали экзамены на аттестат зрелости, важным оставалось только одно: неужели у нас с ним все и навсегда кончилось!..
Не помню, сколько времени я так сидела и плакала, только вдруг услышала резкий звонок в дверь. Вскочила, поправила наскоро волосы, вытерла лицо, побежала в прихожую открывать. На лестнице перед дверью нашей квартиры стоял Виктор, а рядом – Клавдия Сидоровна. Лицо Виктора было, как обычно, безразличным, а Клавдия Сидоровна улыбалась непривычно для нее вымученно и сказала просительно:
– Прости уж ты моего дурака, Катюша, а только без тебя не видать ему аттестата как своих ушей! А, милая?
– Нервный он у вас, Клавдия Сидоровна. Ну да уж делать нечего: пусть снова ума-разума набирается, – и посторонилась в дверях: – Проходи, милок.
Виктор прошел в прихожую, не глядя на меня.
– Вот спасибо тебе! – с облегчением сказала Клавдия Сидоровна и все-таки не удержалась: – А прав был тогда Сашок: «катюша» ты. – И закончила одобрительно: – И дальше стреляй, девка, чтобы с поверхности тебя не сковырнули! – Даже что-то вроде уважения ко мне появилось в ее красивых глазах, когда она закрывала дверь.
Мы с Виктором вошли в мою комнату. Я спокойно следила за ним. И вот когда он снова глянул на меня, я поняла окончательно, что теперь Виктор будет относиться ко мне по-другому. Не знала, лучше или хуже, чем до этого, но по-другому. Я старалась держаться как можно спокойнее.
– Пришлось подчиниться мамочке? – спросила я его весело.
Простодушие – одно из самых привлекательных качеств человека. Ничего не зная об этом, Виктор прямо ответил мне:
– А куда денешься?
– Ну ладно, – вздохнула я. – Поскольку нам обоим деваться некуда, как ты сказал, давай уж и дальше заниматься.
– Давай.
Виктор все смотрел на меня, и уже ни злости, ни даже обиды не было на его красивом лице. Совершенно без всякого повода, очень весело и, как всегда, громко он захохотал. Я сама невольно улыбнулась, глядя на него.
Тогда я, кажется, только смутно догадывалась, что именно в этом глупом и беспричинном хохоте проявилась еще одна черта Виктора: с необыкновенной легкостью он может отказаться от своего желания. Но если об этой черте я только смутно догадывалась, то уж никак не могла предположить, что это и поможет мне.
– Ну, милок, – повторила я, снова садясь за стол, – изложи-ка мне в общих чертах бином Ньютона.
– Могем. – согласился Виктор, усаживаясь рядом со мной, как и до этого примечательного события.
Наше перемирие не прошло бесследно: у математика Петра Ильича Виктор получил тройку. И для него эта было хорошо.
10
Познакомилась я с Людочкой Кусиковой еще в первом классе: Мира Александровна, наша первая учительница, посадила нас за одну парту.
Маленькая. Людочка была чисто и аккуратно одета. Кофточка на ней была беленькая, тщательно выглаженная, и косы, заплетены аккуратно, на концах большие шелковые лиловые банты. Личико, Людочки было нежно-розовым, как у куклы. Она капризно складывала фантиком свои пухлые губки. Носик у нее остренький, ноздри часто подрагивают. Щеки нежные, с милыми ямочками, глаза голубые, круглые, чаще всего глядят растерянно. У Людочки хорошие волосы – пушистые белокурые локоны. Немного подвели ее только ресницы – коротенькие, совершенно белые и жесткие. А в общем она очень хорошенькая.
В первом классе, конечно, я была и мала и глупа, ничего толком не понимала. И вот одно из моих первых впечатлений: какая-то странная беззащитность и беспомощность Людочки. В школу ее провожала мама – Леля Трифоновна, высокая, длинноносая и очень худая женщина, одетая просто, даже бедно. Она несла портфель Людочки, сама раздевала ее в школе, поправляла Людочке банты; нагибаясь, сама снимала с нее ботики. Потом долго целовала Людочку, будто расставалась с ней не на четыре урока, а на всю жизнь.
– Ну хватит, мама! – капризно говорила ей Людочка. – Мне пора. Я опоздаю!
– Ну, ну, деточка! Беги, беги, деточка! – отвечала ей Леля Трифоновна.
На уроках Людочка требовательно говорила мне:
– Ну-ка найди в моем портфеле резнику! – и подвигала мне свой раскрытый портфель; тетрадки и учебники были сложены в беспорядке, я просовывала между ними руку, долго шарила, пока находила резинку; Людочка брала ее, даже не поблагодарив меня.
Часто оказывалось, что Людочка забывала делать уроки. Когда учительница начинала выговаривать ей, Людочка плакала и неожиданно зло отвечала:
– Это мама виновата! Это она забыла!
И когда Леля Трифоновна ждала Людочку после уроков, снова сама надевала на нее пальто, шапку, ботики, Людочка капризно выговаривала ей:
– Ты почему забыла, что нам по арифметике задали?
И Леля Трифоновна поспешно начинала оправдываться перед дочерью. А мне становилось жалко Лелю Трифоновну.
Не знаю уж, как это получилось, но мне приходилось следить, чтобы Людочка не забывала делать уроки, постоянно завязывать распустившиеся банты в ее косах, даже носить ее портфель, который она часто забывала в самых неожиданных местах.
Тоже как-то само собой получилось, что Людочка каждый день начала приходить к нам домой делать уроки. Попросту сказать, она списывала их у меня. А я уж так привыкла к постоянной беспомощности Людочки, что чувствовала себя обязанной вот так опекать свою драгоценную одноклассницу. Когда Людочка заболела свинкой, я повела ее в поликлинику, долго сидела и ждала, пока врач осмотрит ее, потом чуть не на руках тащила вмиг ослабевшую подругу домой.
Жили тогда Кусиковы в коммунальной квартире, у них была маленькая комната. Отец Людочки Модест Петрович, высокий и тоже очень худой, как и Леля Трифоновна, работал тогда на каком-то заводе слесарем, учился одновременно в вечерней школе – из-за войны и блокады он не успел вовремя окончить школу. Был он очень тихим и молчаливым, мне даже не запомнился ни один разговор с ним, – только все нежно и ласково гладил Людочку по голове, часто брал ее на руки, носил по комнате, по-своему молчаливо улыбаясь. А Леля Трифоновна была, наоборот, очень шумливой и подвижной; мне тогда казалось, что вся маленькая комнатка Кусиковых заполнена ею одной. Помню, я старалась пореже бывать у Кусиковых, а уходя от них, каждый раз чувствовала облегчение.
Не могу вразумительно объяснить почему, но получилось как-то так, что в нашем классе Людочка неожиданно оказалась на привилегированном положении.
Еще в третьем классе Людочка вдруг увлеклась киноартистами, стала коллекционировать их фотографии, только и разговоров у нее было, что о кино.
Кажется, первой из нашего класса Людочка заговорила о любви. Сначала это возвышенное чувство направлялось у нее все на тех же киноартистов. Но время шло, и вот Людочка как-то под страшным секретом посвятила меня в свою тайну: она влюбилась в ученика девятого класса Лешку Боровикова. Мы учились тогда в шестом, и я, помню, очень взволновалась, но сама Кусикова оставалась спокойной. Незаметно для себя подпала я под влияние Людочки и сдуру увлеклась этой историей. Мы с ней решили: надо написать письмо Боровикову. Втайне от всего света трудились над ним целый вечер, после чего я с замиранием сердца вручила послание Боровикову. Он взял меня одной рукой за косу, чтобы не сбежала, другой развернул треугольник письма, прочитал его, заулыбался, потом стал серьезным, отпустил мою косу, стал разглядывать меня. Я побагровела…
– Спасибо тебе, Кусикова, – наконец сказал Боровиков. – Ты только не обижайся, но сначала подрасти немножко, чтобы паспорт тебе выдали, понимаешь?
– Я – Нилова… – прошептала я.
– А Кусикова – твоя одноклассница?
– Да…
– Вам сейчас сколько лет?
– Тринадцать.
– На, верни ей письмо, скажи, что я благодарю ее за любовь и что мы с ней вернемся к этому разговору ровно через пять лет. Запомнила?
– Запомнила. – И я изо всех сил кинулась бежать на улицу, где меня ждала Людочка.
Когда я сообщила ей о результатах своих переговоров с предметом ее любви, она вдруг со злостью разорвала письмо, даже затоптала его в снег. Несколько дней после этого я с откровенным сочувствием поглядывала на Людочку, но она ни единым словом не обмолвилась о Боровикове. А я, помнится, радовалась, что никакой трагедии не произошло. Но самое странное состояло в том, что Людочка сама же рассказала потом в классе всю эту историю, говорила, что мы с ней хотели просто разыграть Боровикова.
Или уж то, что Людочка по-прежнему плохо училась, с трудом переползая из класса в класс… Или уж ее откровенно глупая влюбленность во всех наших мальчишек по очереди… Или уж просто мы стали взрослее – только отношение всех к Людочке как-то изменилось. Если раньше одноклассники видели в ней слабое и беззащитное существо, которому надо только помогать и помогать, которое можно смертельно обидеть даже словом, даже взглядом, – то теперь относиться к ней стали иронически, Симка Потягаев даже прозвал ее «Киса Кусикова». А мне было по-прежнему жаль Людочку, я утешала ее, когда она плакала от обиды, все так же давала ей списывать у себя.
Модест Петрович окончил школу, потом – так же по вечерам – институт, стал заведующим лабораторией на заводе. Кусиковы купили двухкомнатную квартиру в кооперативном доме. Все было хорошо, только мне почему-то запомнился один странный разговор, который был у Нины Георгиевны с родителями Людочки, когда она получила две двойки за второе полугодие. Плахов еще не учился в нашем классе. После уроков Нина Георгиевна велела нам с Людочкой остаться, сказала, что вызвала в школу родителей Кусиковой.
Леля Трифоновна была теперь модно одетой, но оставалась все такой же худой, нервной. Модест Петрович пришел с большим портфелем. В классе мы были одни. Нина Георгиевна пригласила Кусиковых сесть. Помолчала, вздохнула, потом подняла голову от стола, поглядела на родителей Людочки, молча и скромно сидевших рядышком за партой перед ней, спросила:
– Модест Петрович, ведь вы по вечерам одновременно с основной работой окончили школу, потом институт, теперь заведуете лабораторией?
– Да, – кивнул он; вдруг ласковым движением обнял Людочку, стоявшую рядом, притянул ее к себе, и Людочка прижалась к нему доверчиво.
– И вы ведь кооперативную квартиру купили, Елена Трифоновна? – снова спросила Нина Георгиевна.
– Купили, – тотчас настораживаясь, резко ответила та, тут же поспешно глянула на Модеста Петровича, проверяя его реакцию на слова Нины Георгиевны.
– Вы только не обижайтесь, Елена Трифоновна, но какое у вас образование? – спросила Нина Георгиевна.
– Семь классов.
– И вы ведь, кажется, не работали, пока Людочка училась в первых классах?
– Пока она не кончила пятый класс. А что?
– Да нет, нет, ничего… И оба вы дочь любите…
– Только ею и живем! – проговорила Леля Трифоновна, а Модест Петрович по-прежнему молча и согласно кивнул.
– Опять прошу, не обижайтесь, постарайтесь понять меня правильно, – еще тише проговорила Нина Георгиевна. – Ведь я как воспитательница несу ответственность за весь класс, понимаете?
Правая щека Лели Трифоновны неожиданно дернулась, она опять искоса глянула на мужа, проговорила отрывисто и с обидой:
– Да когда нам было заниматься Людой, если днем он на работе, вечером – на учебе?
– Так ведь вы-то, Елена Трифоновна, не работали, пока Люда не закончила пять классов.
– Вам-то что говорить! – по прежнему резко и обидчиво ответила Леля Трифоновна, губы ее скривились, она всхлипнула: – А я в Ленинграде всю блокаду вынесла, все здоровье на войне оставила, – и она заплакала. Людочка тотчас всхлипнула, и Модест Петрович перестал улыбаться.
Нина Георгиевна опять помолчала, договорила медленно:
– Я понимаю, что Модест Петрович был занят вечерами на своей учебе, понимаю, что и вам, Елена Трифоновна, было нелегко. Но ведь заставить Люду нормально учиться вы оба могли!
Леля Трифоновна и Людочка все плакали, Модест Петрович сказал устало:
– Да уж просто такие мы нервные, что ли, Нина Георгиевна… – и глянул на жену; а лицо Лели Трифоновны было теперь злым и упрямым.
Нина Георгиевна внимательно следила за ними, молчала. И тут мне стало ясно, и почему Людочка так легко плачет по пустякам, и тут же злится, и даже почему у нее решительно ко всему в жизни такое легкое отношение. Я представила семью Кусиковых дома: Модест Петрович, беззаветно любя дочь, усталый после работы, подчиненно молчит, а Леля Трифоновна, нервная и глупая, во всем потакает Людочке.
– Нилова, ты выйди, – сказала мне Нина Георгиевна и добавила: – Думала уж и тебя поругать за то, что ты взяла Люду на иждивение в учебе…
Я вышла из класса и бегом бросилась домой. Будто впервые я по-настоящему разглядела свою закадычную подругу.
Не вытерпела все-таки, рассказала маме о разговоре в классе после уроков, о том, что и меня Нина Георгиевна заставила присутствовать при нем, точно я была одной из виновниц плохой учебы Людочки. А мама сказала:
– Объективно говоря, Катенок, и ты, конечно, виновата: доброта должна быть умной, ведь люди-то разные нас окружают. Но вот как это получается… Модест Петрович учился по вечерам в школе и институте, сейчас заведует лабораторией… Елена Трифоновна тоже работает нормально, то есть оба они прошли нелегкий путь в жизни. Умеют различать и хорошее, и плохое в ней. Мама Симы Потягаева – она работает инженером в лаборатории Модеста Петровича – как-то говорила мне, что строже и требовательнее начальника, чем он, ей еще не приходилось встречать. А вот Людочку, свою дочь, оба они любят так безрассудно, что теряют объективность во всем, что касается дочери. Ты тут назвала жизнь Кусиковых глупой и нервной… Так оно, видимо, и есть. Многое пришлось перешить родителям Людочки, и от этого у них, конечно, нервы не в порядке… – Вдруг улыбнулась виновато: – Помнишь, Нина Георгиевна, будучи у нас дома, сказала, что «ваше лицо – ваш ребенок». Возможно, старшие Кусиковы и неспособны объективно оценить свою дочь, но весьма вероятно, что и характер Людочки создает нервность в жизни семьи.
11
Следующим экзаменом была физика – предмет, который я любила. Мне достаточно было только перелистать учебник да еще раз просмотреть задачи, что мы решали в классе. Юлия Герасимовна, наша учительница физики, прямо сказала:
– Уж за кого я совершенно спокойна, ребята, так это за Катю Нилову.
Людочка предыдущие экзамены, как и Плахов, сдала кое-как, то есть на тройки. А вот перед экзаменом по физике стала нервничать не на шутку. И тут вечером к нам пришла Леля Трифоновна. Похудела она еще сильнее. Узкие губы ее были ярко накрашены, брови и ресницы подведены тушью. Тяжелое впечатление произвела она на нас с мамой и отцом. Лицо Лели Трифоновны было злым, по при этом она жалобно плакала и униженно просила, чтобы ее Людочка готовилась к экзамену по физике вместо со мной. Я, конечно, согласилась.
На следующее утро Виктор с Людочкой пришли к нам домой. Мы все трое уселись за мой стол, стали повторять с самого начала, с механики. Я сидела посередине, Виктор – справа от меня, Людочка – слева. Или уж то, что я постоянно помнила, как Людочка перед всем классом публично призналась в своей любви к Виктору… Или то, что я чувствовала, как Виктор неожиданно и резко изменил свое отношение ко мне… Или то главное, что мне-то он нравился по-прежнему сильно, – только у меня было ощущение какой-то скованности, точно всю мою кожу обволакивал жесткий панцирь, холодный, безжалостный и чужой. Какое бы движение я ни сделала, как бы ни повернулась, этот панцирь все оставался на мне, избавиться от него было просто невозможно.
Читала вслух по учебнику я, Виктор и Людочка молча следили за формулами и слушали, но я постоянно чувствовала, даже не глядя на них, как они слушают меня, как сидят, как смотрят в книгу и друг на друга. И все же не могла взглянуть на них…
Через час или полтора я постепенно увлеклась материалом, обволакивающий меня панцирь стал почти неощутим. И когда мы разбирали полиспаст, изменение его подъемной силы с увеличением числа блоков, огибаемых канатом, я забылась, подняла голову от учебника, глянула на Виктора с Людочкой. Лица их были такими, будто они не слышат моих слов, точно меня даже совсем нет сейчас в комнате. Они улыбались за моей спиной так, как это бывает, когда парень с девушкой нравятся друг другу, когда все окружающее – второстепенное по сравнению с этим главным для них.
И я даже не спросила, поняли ли они то, что я прочитала, так вдруг пусто сделалось у меня в груди, а во рту появилась какая-то противная горечь. Сжалась, втянула голову в плечи, помолчала, но справилась с собой, продолжала читать… Даже не знаю, заметили ли они мою реакцию, во всяком случае, ничего не сказали.
Обедали мы у нас дома, мама сделала вкусные щи со свежей капустой и любимые Виктором чахохбили из курицы. За столом Виктор сидел рядом с Людочкой, оба они ели с аппетитом, оживленно разговаривали, чему-то смеялись. А мы с мамой молчали.
После обеда Людочка переставила свой стул у письменного стола так, что между мной и ею оказался Виктор. И когда мы разбирали задачи на трение – одна была особенно интересной: лежащий на плоскости шар в зависимости от величин коэффициентов трения качения и скольжения, а также величины собственного диаметра мог под действием одинаковой силы и скользить, и катиться по плоскости, – я снова увлеклась, забылась, подняла голову от стола… Правая рука Виктора лежала на плече Людочки.
Первый раздел – «Механику» – мы закончили уже в десять часов вечера, до этого мама успела накормить нас ужином. И вот, когда Виктор с Людочкой, весело попрощавшись со мной и мамой ушли, я неожиданно для себя выглянула в окно: они стояли на улице и целовались.
Странное существо человек. Умом я уже и до этого понимала, что должна заставить себя относиться к Виктору иначе, чем раньше, что не стоит он всех моих мучений и переживаний; даже то, что все между мной и им уже кончено, понимала… А здесь мне вдруг стало так обидно, горько и больно, что я просто опустилась на пол, обхватила голову руками и заплакала…
Подошла мама. Она наклонилась ко мне, обняла меня, поцеловала, стала говорить какие-то утешительные слова. А тут пришел отец – он на весь день уезжал в Кронштадт. Разобравшись во всем, он сказал негромко, ласково, но настойчиво:
– Ты, Катенок, можешь, конечно, перестать готовиться вместе с Плаховым и Кусиковой… Вон даже мы с матерью можем им сказать, чтобы больше не приходили к нам. Ты слышишь меня? – он замолчал, а я кивнула, что, мол, слышу; тогда он так же медленно выговорил: – Но есть две вещи, из-за которых тебе не следует делать этого. Во-первых, и Люда, и Виктор, как я понимаю, могут провалить экзамен, если перестанут набираться от тебя ума-разума. А во-вторых, – не сердись только на своего отца, Катенок, – эта ваша совместная подготовка к экзамену, как ни странно, полезна больше тебе, чем Плахову и Кусиковой. Ты понимаешь меня, Катенок?
Я подняла на отца заплаканное лицо, слова у меня по-прежнему не выговаривались. Тогда он, все не двигаясь и не улыбаясь, произнес какую-то фразу по-английски. Отдельные слова ее я поняла, а общий смысл не дошел до меня.
Тогда уж мама спросила:
– Что, что, Костя?
– Собаке хвост по кусочкам не рубят, советует английская пословица.
– Так ведь больно, папа! – выговорилось наконец у меня, как в детстве.
– Когда врач вырывает у тебя больной зуб, тебе тоже больно, а? – спросил он.
Вот когда отец так со мной говорит, у меня сразу же – это я помню еще с детства – проходит унижающая меня слабость, а затем появляются уже решительные поступки.
Не сумею объяснить, что такое особенное есть в моем отце, но в его присутствии сидеть на полу, как медуза, просто невозможно. Поэтому я встала.
– Валерьяночки, может, выпьешь? – уже насмешливо спросил отец.
И я ответила тем же тоном:
– Не хотела бы служить на вашем корабле и под вашим началом, капитан Нилов! Железный вы человек, капитан Нилов! – И повернулась к маме: – Нет, только подумай: такое отношение к родной дочери, а!..
А мама спросила меня:
– Не помнит ли десятиклассница Нилова, как она спрашивала капитана первого ранга, взял бы он к себе на службу ее героя Виктора Плахова?
– Как же, как же! – сказала я.
– Я уже говорил, что его бы не взял.
– А Катю Нилову? – опять спросила мама и тут же спохватилась: – Ах, она же девушка!
– Все равно взял бы, – серьезно ответил отец. – И не потому, что она моя дочь.
…Мы готовились втроем – я, Плахов и Кусикова – еще два дня, до самого экзамена. И Виктор, и Людочка не пытались скрыть накатившей на них радости. Мне приходилось все это терпеть. Однако я заставила их обоих как следует проштудировать весь курс. Короче говоря, оба они получили по тройке и на экзамене у Юлии Герасимовны.
Вот, собственно, и все. Но, чтобы оставаться до конца честной, я должна рассказать еще об одном эпизоде. И потому, что он фактически заканчивает эту мою печальную историю. И потому, главное, что сама я вела себя в этом случае очень плохо. Так плохо, что даже не знаю, смогу ли когда-нибудь в дальнейшем забыть об этом!
Был жаркий летний полдень, пустынные и тихие улицы серели асфальтом, желтели стенами домов, темнели раскрытыми проемами окон. Откуда-то доносилась старинная, красивая и грустная песня: «Помню, я еще молодушкой была, наша армия в поход куда-то шла. Вечерело, я стояла у ворот…» Мы сдали последний экзамен. Вышли втроем на улицу – Людочка, Виктор и я – и молча шли по тротуару. Людочка обеими руками держала Виктора под руку. Потом она приостановилась, беззаботно и блаженно прижавшись щекой к его плечу, сказала:
– Витя, милый! Но я же не могу так… Я же люблю тебя! Ну что мне делать? Ты только скажи – я все сделаю! Все, что скажешь!
А вот дальнейшее мне помнится как-то отрывочно… В общем, я взяла Виктора за руку. Сначала лицо Виктора сделалось растерянным. Потом – женский голос по радио: «Подъезжает ко мне барин молодой…» Еще после – торжествующе-злой смех Людочки… Опять голос по радио: «Напои меня, красавица, водой…» Пробежал мальчик, с наслаждением сосущий мороженое… Слова Людочки:
– Опоздала, милая!
– Витя, ну как же я буду жить дальше-то? – я задала ему этот вопрос и совсем не узнала своего голоса.
– Понимаешь, Катя, какая загвоздочка…
«На квартиру к нам приехал генерал, весь израненный, он жалобно стонал…» – неслась по улице песня.
Виктор не успел сообразить, как мне ответить, это сделала за него Людочка:
– Мы с Виктором решили пожениться. А ты хоть не унижайся так. А то ведь милостыню выпрашиваешь, дура дурой! – почти выкрикнула она торжествующе и злорадно.
– Ладно, пошли, Людка, – резко сказал Виктор.
Потом была одинокая скамейка… И тот же серый асфальт мостовой, желтые стены домов, глухая тишина… Еще после я увидела перед собой мальчика, он жалобно просил меня:
– Не реви, тетя, – и протягивал мне обсосанное мороженое. – Хочешь эскимо? Не реви, ну?..
Когда получили аттестаты – Петька Колыш, Варвара Глебова и я даже с золотыми медалями, – вышли из школы на улицу. Ребята громко и возбужденно разговаривали, смеялись, уславливались насчет выпускного вечера. Людочка с Виктором шли под руку рядом с другими, тоже смеялись… А я опять видела густые тени на тихих улицах, желтые и плоские стены домов с раскрытыми окнами, сухой, серый асфальт…
* * *
С тех пор прошло больше двух лет, я уже учусь на третьем курсе электротехнического института.
Свадьба Виктора с Людочкой была через месяц после выпускных экзаменов в школе. Получила на нее приглашение и я, но не смогла заставить себя пойти. На свадьбе было очень мало наших одноклассников, хотя почти все они тоже получили приглашение. Модест Петрович и Леля Трифоновна никак не могли расстаться с дочерью и уговорили молодых жить с ними. И Виктор, и Людочка никуда не пошли учиться дальше, да Плахова к тому же скоро должны были призвать в армию. До его службы я так и не встретилась ни с ним, ни с Людочкой, хоть Кусиковы и живут недалеко от нас.
Поступление в институт прошло для меня благополучно. Новая студенческая жизнь увлекла меня, но часто по ночам я плохо спала, вспоминался Виктор.
Когда-то мама и отец говорили о нравственном экзамене в жизни, который предстоит каждому, о необходимой подготовке к нему. Уходя из нашего дома, и Нина Георгиевна сказала, что она еще не готова ко всем экзаменам жизни. Наверное, моя история с Виктором еще не экзамен, только подготовка к нему, но правильно ли она идет у меня? Вот отец с матерью выдержали свой нравственный экзамен в жизни…
Виктор служил в армии два года. У Людочки родилась дочь, которую в честь матери Виктора она назвала Клавой. Узнала я об этом из письма Виктора.
Он прислал мне его через полгода или месяцев через восемь после начала службы. Тон письма был бодрым, веселым и манерным, мне сразу же вспомнился «ковбой Плахов». О службе Виктора в письме ничего не было.
А второе письмо я получила, когда Виктору оставалось уже месяца два до конца службы. Это письмо было серьезнее. И намека на киноковбоя в нем уже не было. Я сразу поняла, что военная служба не прошла бесследно для Виктора. О Людочке и о своей дочке он не написал ни слова. Спрашивал, не вышла ли я замуж, почему не ответила на его первое письмо, сообщил, что скоро демобилизуется.
Я не ответила ему и на этот раз.
И вот осенью, когда только начались лекции на третьем курсе, я как-то вышла из института после занятий и сразу увидела Виктора, даже сердце у меня кольнуло. Как всегда, он был одет хорошо, только вот привычной лихости в нем уже не чувствовалось – сидел на скамейке скромно, даже подтянуто. Я постояла, поглядела на него, справляясь с дыханием, – Виктор не видел меня – и быстро пошла в другую сторону. Шла, спотыкаясь на ровном асфальте, как давным-давно, когда мы с Виктором шли по Невскому, и вдруг услышала за спиной:
– Катя…
Остановилась, заставила себя обернуться – Виктор молча протягивал мне руку. Я пожала ее:
– С возвращением тебя!
– Спасибо, – и чуть дольше, чем полагается, задержал мою руку в своей.
– Ну, как служба? – спросила наконец я.
– А! – ответил он совершенно как в школе еще, даже хмыкнул насмешливо.
По этому коротенькому «а!» я тотчас поняла, что внутренний мир Виктора по-прежнему остается чуждым мне.
– А ты все такая же красивая! – сказал Виктор.
– Да и ты не изменился, – ответила я.
Мы вышли на Кировский проспект Петроградской стороны, пошли к станции метро.
– Людка мне сказала, что и Варвара Глебова, и Петька Колыш, и Левочка Шатиков, и многие другие из нашего класса учатся в институтах.
– Да. А ты что думаешь делать? Людочка не работает?








