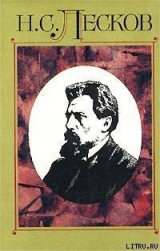
Текст книги "Некуда"
Автор книги: Николай Лесков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 46 страниц)
Глава двадцать пятая
Два внутренние мира
1
Как всегда бывает в жизни, что смирными и тихими людьми занимаются меньше, чем людьми, смело заявляющими о своем существовании, так, кажется, идет и в нашем романе. Мы до сих пор только слегка занимались Женни и гораздо невнимательнее входили в ее жизнь, чем в жизнь Лизы Бахаревой, тогда как она, по плану романа, имеет не меньшее право на наше внимание. Мы должны были в последних главах показать ее обстановку для того, чтобы не возвращаться к прошлому и, не рисуя читателю мелких и неинтересных сцен однообразной уездной жизни, выяснить, при каких декорациях и мотивах спокойная головка Женни доходила до составления себе ясных и совершенно самостоятельных понятий о людях и их деятельности, о себе, о своих силах, о своем призвании и обязанностях, налагаемых на нее долгом в действительном размере ее сил. Наконец, мы должны теперь, хотя на несколько минут, еще ближе подойти к этой нашей героине, потому что, едва знакомые с нею, мы скоро потеряем ее из виду надолго и встретимся с нею уже в иных местах и при иных обстоятельствах.
В своей чересчур скромной обстановке Женни, одна-одинешенька, додумалась до многого. В ней она решила, что ее отец простой, очень честный и очень добрый человек, но не герой, точно так же, как не злодей; что она для него дороже всего на свете и что потому она станет жить только таким образом, чтобы заплатить старику самой теплой любовью за его любовь и осветить его закатывающуюся жизнь. «Все другое на втором плане», – думала Женни.
Уездное общество ей было положительно гадко, и она весьма тщательно старалась избегать всякого с ним сближения, но делала это чрезвычайно осторожно, во-первых, чтобы не огорчить отца, прожившего в этом обществе свой век, а во-вторых, и потому, что терпимость и мягкость были преобладающими чертами ее доброго нрава.
Кружок своих близких людей она тоже понимала. Зарницын ей представлялся добрым, простодушным парнем, с которым можно легко жить в добрых отношениях, но она его находила немножко фразером, немножко лгуном, немножко человеком смешным и до крайности флюгерным. Он ей ни разу не приснился ночью, и она никогда не подумала, какое впечатление он произвел бы на нее, сидя с нею tête-а-tête [11]11
Наедине (франц.).
[Закрыть]за ее утренним чаем.
Дьякона Александровского и его хорошенькую жену Женни считала очень добрыми людьми, и ей было бы больно всякое их несчастие.
Доктора она отличала от многих. Никто из близких уездных знакомых не рисовался так часто над туманной пеленою луга. Говорят, подлость есть сила. Надо прибавить: скандал тоже есть сила. Особенно скандал известного рода есть сила у женщин, и притом у самых лучших, у самых теплых женщин. Доктор был кругом оскандализирован. В него метали грязью и плуты и дураки, среди которых он грызся с судьбою. Его не упрекали темными деяниями по службе. Он постоянно сам рассказывал, что ему без взяток прожить нельзя, но не из этих взяток свивался кнут, которым хлестала его уездная мораль. Напротив, и исправник, и судья, и городничий, и эскадронный командир находили, что Розанов «тонлр», чту выражало некоторую, так сказать, пренебрежительность доктора к благам мира сего и неприятную для многих его разборчивость на родвзятки. Доктор брал десятую часть того, что он мог бы взять на своем месте, и не шел в стачки там, где другим было нужно покрыть его медицинскою подписью свою юридически-административную неправду. Мстили ему более собственно за эту строптивую черту его характера, но поставить ее в прямую вину доктору и ею бить его по чем ни попало было невозможно. Один чиновный чудак повел семью голодать на литературном запощеванье и изобразил «Полицию вне полиции»; надворный советник Щедрин начал рассказывать такие вещи, что снова прошел слух, будто бы народился антихрист и «действует в советницком чине». По газетам и другим журналам закопошились обличители. Неловко было старым взяточникам и обиралам в такое время открыто говорить доктору, что ты подлец да то, что ты не с нами, и мы тебе дадим почувствовать.
Нужно было стегать доктора другим кнутом, и кнут этот не замедлили свить нежные, женские ручки слабонервных уездных барынь и барышень, и тонкие, гнуткие ремешки для него выкроила не менее нежная ручка нимфообразной дочери купца Тихонина. Эта слабонервная девица, возложившая в первый же год по приезде доктора в город честный венец на главу его, на третий день после свадьбы пожаловалась на него своему отцу, на четвертый– замужней сестре, а на пятый – жене уездного казначея, оделявшего каждое первое число пенсионом всех чиновных вдовушек города, и пономарю Ефиму, раскачивавшему каждое воскресенье железный язык громогласного соборного колокола.
Дивное было творение божие эта Оля Тихонина.
Дивно оно для нас тем более, что все ее видали в последнее время в Москве, Сумах, Петербурге, Белеве и Одессе, но никто, даже сам Островский, катаясь по темному Царству, не заприметил Оли Тихониной и не срисовал ее в свой бесценный, мастерской альбом.
Во время благопотребное, тоже не здесь и не при здешней обстановке, мы встретимся с этим простодушно-подлым типом нашей цивилизации, а теперь не станем на нем останавливаться и пойдем далее.
Женни знала, что доктор очень несчастен в своей семейной жизни. Она знала, что его винят только в двух пороках: в склонности к разгулу и в каком-то неделикатном обращении с женою. Она знала также, что все это идет о нем из его же спальни. Она знала, наконец, что доктор страстно, нежно и беспредельно любит свою пятилетнюю дочь и по первому мягкому слову все прощает своей жене, забывая всю дрянь и нечисть, которую она подняла на него. Женни видела, что он умен, горяч сердцем, искренен до дерзости, и она его искренно жалела.
«Может ли быть, – думала она, глядя на поле, засеянное чечевицей, – чтобы добрая, разумная женщина не сделала его на целый век таким, каким он сидит передо мною? Не может быть этого. – А пьянство?.. Да другие еще более его пьют… И разве женщина, если захочет, не заменит собою вина? Хмель – забвение: около женщины еще легче забываться».
Иголка все щелкала и щелкала в руках Женни, когда она, размышляя о докторе, решала, что ей более всего жаль его, что такого человека воскресить и приподнять для более трезвой жизни было бы отличной целью для женщины.
И Женни дружилась с доктором и искренно сожалела о его печальной судьбе, которой, по ее мнению, помочь уж было невозможно.
«И зачем он женился?» – с неудовольствием и упреком думала Женни, быстро дергая вверх и вниз свою стальную иголку.
Вязмитинова она очень уважала и не видела в нем ни одной слабости, ни одного порока. В ее глазах это был человек, каким, по ее мнению, следовало быть человеку.
Ее пленяли и Гретхен, и пушкинская Татьяна, и мать Гракхов, и та женщина, кормящая своею грудью отца, для которой она могла служить едва ли не лучшей натурщицей в целом мире.
Она не умела мыслить политически, хотя и сочувствовала Корде и брала в идеалы мать Гракхов.
Ей хотелось, чтобы всем было хорошо.
«Пусть всем хорошо будет».
Вот был ее идеал.
Ну, а как достичь этого скромного желания?
«Жить каждомув своемдомике», – решила Женни, не заходя далеко и не спрашивая, как бы это отучить род людской от чересчур корыстных притязаний и дать друг другу собственные домики.
А уездные дамы все-таки лгали, называя ее дурочкой.
Она только не знала, что нельзя всем построить собственные домики и безмятежно жить в них, пока двужильный старик Захват Иванович сидит на большой коробье да похваливается, а свободная человечья душа ему молится: научи, мол, меня, батюшка Захват Иванович, как самому мне Захватом стать!
Не говоря о докторе, Вязмитинов больше всех прочих отвечал симпатиям Женни. В нем ей нравилась скромность, спокойствие воззрений на жизнь и сердечное сожаление о людях, лишних на пиру жизни, и о людях, ворующих пироги с жизненного пира.
«Скромен, разумен и трудолюбив»… – думала Женни.
«Не красавец и не урод», – договаривало ей женское чувство.
А что она думала о Лизе? То есть, что она стала думать в последнее время?
«Лиза умница, – говорила себе Женни, смотря на колыхающийся початник. – Она героиня, она выйдет силой, а я… я…»
Тут мешались Вязмитинов, отец, даже иногда доктор, и вдруг ни с того ни с сего Татьяна и мать Гракхов, Корде и Пелагея с вопросом о соусе, который особенно любил Петр Лукич.
«Вязмитинов много знает, трудится, он живой человек, кругозор его шире, чем кругозор моего отца, и вернее осмотрен, чем кругозор Зарницына», – рассуждала Женни.
А доктор?
«Да ему уж помочь нельзя», – думала она и шла к Пелагее заправлять соус, который особенно любил Петр Лукич, всегда возвращающийся мучеником из своей смотрительской камеры.
«Лиза чту! – размышляла Женни, заправив соус и снова сев под своим окошком, – Лизе все бы это ни на что не годилось, и ничто ее не остановило бы. Она только напрасно думала когда-то, что моя жизнь на что-нибудь ей пригодилась бы».
«Эта жизнь ничем ее не удовлетворила бы и ни от чего ее не избавила бы», – подумала Женни, глядя после своей поездки к Лизе на просвирнику гусыню, тянувшую из поседелого печатника последнего растительного гренадера.
2
Внутренний мир Лизы совершенно не похож был на мир Женни.
Не было мира в этой душе. Рвалась она на волю, томилась предчувствиями, изнывала в темных шарадах своего и чужого разума.
Мертва казалась ей книга природы; на ее вопросы не давали ей ответа темные люди темного царства.
Она страдала и искала повсюду разгадки для живых, ноющих вопросов, неумолчно взывавших о скорейшем решении.
Ей тоже хотелось правды. Но этой правды она искала не так, как искала ее Женни.
Она искала мира, когда мира не было в ее костях.
Семья не поняла ее чистых порывов; люди их перетолковывали; друзья старались их усыпить; мать кошек чесала; отец младенчествовал. Все обрывалось, некудабыло, деться.
Женни не взяла ее к себе по искренней, детской просьбе. «Нельзя», говорила. Мать Агния тоже говорила: «опомнись», а опомниться нужно было там же, в том же вертепе, где кошек чешут и злят регулярными приемами через час по ложке.
Нельзя в таких местах опомниться.
Живых людей по мысли не находилось, и началось беспорядочное чтение.
Выбор недовольных всегда падает на книги протестующие, и чем сдержаннее, чем темнее выражается протест, тем он кажется серьезнее и даже справедливее.
Лиза, от природы нежная, пытливая и впечатлительная, не нашла дома ничего, таки ровно ничего, кроме странной, почти детской ласки отца, аристократического внимания тетки и мягкого бичевания от всех прочих членов своей семьи.
Врожденные симпатии еще влекли ее в семью Гловацких, но куда же годились эти мечтания?
Ей хотелось много понимать, учиться.
Ее повезли на балы.
Все это шло против ее желаний.
Она искала сочувствия и нашла это сочувствие в книгах, где личность отвергалась во имя общества и во имя общества освобождалась личность.
И стали смешны ей прежние плачевные сцены, и сантиментально-глупа показалась собственная просьба к Женни – увезти ее отсюда.
Застыдившись своего невинного прошлого, она застыдилась и памятников этого прошлого.
Все близкие к ней по своему положению люди стояли памятниками прошедших привязанностей.
Они были ясны, и в них нечего было доискиваться; а темные намеки манили неведомым счастьем, шириною свободной деятельности.
Привязанности были принесены в жертву стремлениям.
Живые люди казались мразью. Дух витал в мире иных людей, в мире, износившем вещие глаголы, в среде людей чести, бескорыстия и свободы.
Все живые связи с прошедшим мельчали и рвались.
Беспечальное будущее народов рисовалось в лучезарном свете. Недомолвки расширяли эти лучи, и простые человеческие чувства становились буржуазны, мелки, недостойны.
Лиза порешила, что окружающие ее люди—«мразь», и определила, что настоящие ее дни есть приготовительный термин ко вступлению в жизнь с настоящими представителями бескорыстного человечества, живущего единственно для водворения общей высокой правды.
Иногда ей бывало жалко Женни и вообще даже жалко всего этого простенького мирка; но что же был этот мирок перед миром, который где-то носился перед нею, мир обаятельный, свободный и правдивый?
Лизе самой было смешно, что она еще так недавно могла выходить из себя за вздоры и биться из-за ничтожных уступок в своем семейном быту.
Глава двадцать шестая
Что на русской земле бывает
В понедельник на четвертой неделе Великого поста, когда во всех церквах города зазвонили к часам, Вязмитинов, по обыкновению, зашел на минуточку к Женни.
Женни сидела на своем всегдашнем месте и работала.
– Знаете, какую новость я вам могу сообщить? – спросила она Вязмитинова, когда тот присел за ее столиком, и, не дождавшись его ответа, тотчас же добавила: – Сегодня к нам Лиза будет.
– Вот как!
– Да, и еще на целую неделю.
– Что за благодать такая?
– Няня непременно хочет говеть на этой неделе.
– И Лизавета Егоровна тоже?
– Да уж, верно, и она будет вместе говеть; там ведь у них церковь далеко, да и холодная.
– И вы, пожалуй, тоже?
– Я хотела на Страстной говеть, но уж тоже отговею с ними.
– Значит, теперь к вам и глаз не показывай.
– Отчего же это?
– Да спасаться будете.
– Это одно другому нимало не мешает. Напротив, приходите почаще, чтоб Лиза не скучала. Она сегодня приедет к вечеру, вы вечером и приходите, и Зарницыну скажите, чтобы пришел.
– Хорошо-с, – сказал Вязмитинов, – теперь пора в классы, – добавил он, взглянув на часы.
– До свидания.
– До свидания, Евгения Петровна.
– Вы не знаете, доктор в городе?
– Нет, кажется нет; а зайти разве за ним?
– Да, если это вас не затруднит, зайдите, пожалуйста.
В три часа Женни увидала из своего окна бахаревские сани, на которых сидела Лиза и старуха Абрамовна.
Лиза смеялась и, заметив в окне Женни, весело кивнула ей головой.
Гловацкая тотчас встала и вышла на крыльцо в ту же минуту, как перед ним остановились сани.
– Ну же, ну, вылезай, няня, вытаскивай свой прах-то, – говорила, смеясь, Лиза.
Абрамовна медленно высвобождалась из саней и ничего не отвечала.
– Чего ты, Лиза, смеешься? – спросила Женни.
– Да вот няня всю дорогу смешит.
Няня молча вынимала подушки. Она была очень недовольна, а молодой садовник, отряженный состоять Лизиным зимним кучером, поглядывая на барышню, лукаво улыбался.
– Что вы няню обижаете, право, – ласково заметила Гловацкая.
– Да что им, матушка, делать-то, как не зубоскалить, – отвечала рассерженная старуха.
– Я вот хочу, Женни, веру переменить, чтобы не говеть никогда, – подмигнув глазом, сказала Лиза. – Правда, что и ты это одобришь? Борис вон тоже согласен со мною: хотим в немцы идти.
Абрамовна плюнула и полезла на крыльцо; Лиза и ее кучер засмеялись, и даже Женни не могла удержаться от улыбки, глядя на смешной гнев старухи.
Прошло пять дней. Женни, Лиза и няня отговели. В эти дни их навещали Вязмитинов и Зарницын. Доктора не было в городе. Лиза была весела, спокойна, охотно рассуждала о самых обыденных вещах и даже нередко шутила и смеялась.
Женни опять казалось, что Лиза словно та же самая, что и была до отъезда на зиму в город.
– Как вам кажется Лиза? – спрашивала она отца.
– Ничего. Я не знаю, что вы о ней сочинили себе: она такая же – как была. Посолиднела только, и больше ничего.
Вязмитинов на такой же вопрос отвечал, что Лиза ужасно подвинулась вперед в познаниях, но что все это у нее как-то мешается. Видно, что читает что попало, – заключил он свое мнение.
Ни с кем другим Женни не говорила о Лизе.
В субботу говельщицы причащались за ранней обедней. В этот день они рано встали к заутрене, уморились и, возвратясь домой, тотчас после чаю заснули, потом пообедали и пошли к вечерне.
Зарницын и Вязмитинов зашли в церковь, чтобы поздравить причастниц и проводить их, кстати, оттуда домой.
Погода была теплая и немножко сырая. Дул южный ветерок, с крыш капали капели, дорожки по улицам чернели и маслились, но запад неба окрашивался холодным розовым светом и маленькие облачка с розовыми окраинами, спеша, обгоняли друг друга.
– Будет морозец, – говорили люди, выходя от вечерни.
– И с ветром, – добавляли другие.
Посреди улицы, по мягкой, но довольно скользкой от санного натора дорожке шли Женни и Лиза. Возле них с обеих сторон шли Вязмитинов и Зарницын. Няня шла сзади. Несмотря на бесцеремонность и короткость своего обхождения с барышнями, она никогда не позволяла себе идти с ними рядом по улице.
У поворота на набережную компания лицом к лицу встретилась с доктором.
Он вел за руку свою дочку.
– Доктор! доктор! здравствуйте! – заговорили почти все разом.
– Здравствуйте, здравствуйте, – проговорил доктор с радостью, но как будто отчего-то растерявшись.
Около них прошла довольно стройная молодая дама в песцовом салопе. Она вскользь, но внимательно взглянула на Женни и на Лизу, с более чем вежливой улыбкою ответила на поклон учителей и, прищурив глаза, пошла своею дорогою.
Это была докторова жена, которую он поджидал, тащась с ноги на ногу с своим ребенком.
– К нам, доктор, сегодня, – приглашала Розанова Женни. – Мы вот все идем к нам; приходите и вы.
– Хорошо, постараюсь.
– Нет, непременно приходите; мы будем вас ждать.
– Ну, хорошо.
– Придете?
– Приду, приду непременно; вот только заведу домой дочку. Пойдем, Варюшка, – отнесся он к ребенку, и они расстались.
– Так вот это его жена? – спросила Лиза.
– Эта, – отвечал Зарницын.
– Не нравится она мне.
– Вы ее не рассмотрели: она еще недавно была очень недурна.
– Я не о том говорю, а что-то нехорошо у нее лицо: эти разлетающиеся брови… собранный ротик, дерзкие глазки… что-то фальшивое, эгоистическое есть в этом лице. Нет, не нравится, – а тебе, Женни?
– Что ж, я одну минуту ее видела, пока мы дали ей дорогу, но мне ее лицо тоже не понравилось.
В передней их встретили Петр Лукич и дьякон с женою.
– Как это мы вас обогнали? – спрашивал дьякон, снимая с Женни салоп, между тем как его жена целовала девиц своими пунцовыми губками.
– Мы тихо шли и по большой улице, – отвечала Женни.
В комнате были приятные сумерки.
Девицы и дьяконица вышли в Женнину комнату; дьякон открыл фортепиано, нащупал октаву и, взяв два аккорда, протяжно запел довольно приятным басом:
Ах, о чем ты проливаешь
Слезы горькие
И украдкой утираешь
Их кисейным рукавом?
Подали свечи и самовар. Все уселись за столом в зале.
Доктора долго ждали, но он не приходил.
Отпивши чай, все перешли в гостиную: девушки и дьяконица сели на диване, а мужчины на стульях, около стола, на котором горела довольно хорошая, но очень старинная лампа.
– Нет, в самом деле, Василий Иванович, будто вашего нового секретаря фамилия Дюмафис? – спрашивал Зарницын.
– Уверяю вас, что Дюмафис, – серьезно отвечал дьякон.
– Что это такое? Этого не может быть.
– А почему бы это, по-вашему, не может быть?
– Да как же, помилуйте: какой из духовного звания может быть Дюмафис?
– Стало быть, может, когда есть уже.
Вошел доктор и Помада.
– A! excellentissime, illustrissime, atque sapientissime doctor! [12]12
А! превосходнейший, знаменитейший и ученейший доктор! (лат.)
[Закрыть]– приветствовал Александровский Розанова.
Доктор со всеми поздоровался радушно, но довольно сухо.
Женни с Лизою посмотрели на его лицо, плохо скрывающее душевное расстройство, и в одно и то же время подумали о его жене.
– О чем вы это спорили? – спросил доктор.
– Да, вот и кстати! Доктор, может ли быть у секретаря консистории фамилия Дюмафис? – спросил Зарницын.
– Это в православной консистории или в католической?
– В православной.
– Отчего же? В православной очень может.
– А, что! – поддразнил дьякон.
– Тут нет ничего удивительного.
– Разумеется. Я ведь вот вам сейчас могу рассказать, как у нас происходят фамилии, так вы и поймете, что это может быть. У нас это на шесть категорий подразделяется. Первое, теперь фамилии по праздникам: Рождественский, Благовещенский, Богоявленский; второе, по высоким свойствам духа: Любомудров, Остромысленский; третье, по древним мужам; Демосфенов, Мильтиадский, Платонов; четвертое, по латинским качествам; Сапиентов, Аморов; пятое, по помещикам: помещик села, положим, Говоров, дьячок сына назовет Говоровский; помещик будет Красин, ну дьячков сын Красинский. Вот наша помещица была Александрова, я, в честь ее, Александровский. А то, шестое, уж по владычней милости: Мольеров, Расинов, Мильтонов, Боссюэтов. Так и Дюмафис. Ничего тут нет удивительного. Просто по владычней милости фамилия, в честь французскому писателю, да и все тут.
Доктору и Помаде подали чай.
– Что вы, будто как невеселы, наш милый доктор? – с участием спросил, проходя к столу, Петр Лукич.
Розанов провел рукой по лбу и, вздохнув, сказал:
– Ничего, Петр Лукич, устал очень, не так-то здоровится.
– Медику стыдно жаловаться на нездоровье, – заметила дьяконица.
Доктор взглянул на нее и ничего не ответил.
Женни с Лизою опять переглянулись, и опять почему-то обе подумали о докторше.
– Вы где это побывали целую недельку-то?
– Сегодня утром вернулся из Коробьина.
– Что там, Катерина Ивановна нездорова?
– Что ей делается! Нет, там ужасное происшествие.
– Что такое?
– Да жена мужа убила.
– Крестьянка?
– Да, молоденькая бабочка, всего другой год замужем.
– Как же это она его?
– Да не одного его, а двоих.
– Двоих?
– Ах ты, боже мой!
– Сссс! – раздалось с разных сторон.
– Ну-с, расскажите, доктор.
– Да бабочка была такая, молоденькая и хорошенькая, другой год, как говорю вам, всего замужем еще. Стал муж к ней с полгода неласков, бивал ее. Соседки стали запримечать, что он там за одной солдаткой молодой ухаживает, ну и рассказали ей. Она все плакала, грустила, а он ее, как водится, все еще усерднее да усерднее за эти слезы поколачивать стал. Была ярмарка; люди видели, как он платок купил. Баба ждет, что вот, мол, муж сжалился надо мною, платок купил, а платок в воскресенье у солдатки на голове очутился. Она опять плакать; он ее опять колотить. На прошлой неделе пошел он в половень копылья тесать, а топор позабыл дома. Жена видит топор, да и думает: что же он так пошел, должно быть, забыл; взяла топор, да и несет мужу. Приходит в половень – мужа нет; туда, сюда глянула – нет нигде. А тут в половне так есть плетневая загородочка для ухаботья. Там всего в пояс вышины, или даже ниже. Она подошла к этой перегородке, да только глянула через нее, а муж-то там с солдаткой притаившись и лежит. Как она их увидала, ни одной секунды не думала. Топор раз, раз, и пошла валять.
– Ах!
– Га!
– Фуй!
– Боже ты мой! – раздались восклицания.
– Обоих и убила?
– Только мозг с ухаботьем перемешанный остался.
– Ужасное дело.
– Вот драма-то, – заметил Вязмитинов.
– Да. Но, вот видите, – вот старый наш спор и на сцену, – вещь ужасная, борьба страстей, любовь, ревность, убийство, все есть, а драмы нет, – с многозначительной миной проговорил Зарницын.
– А отчего же драмы нет?
– Да какая ж драма? Что ж, вы на сцене изобразите, как он жену бил, как та выла, глядючи на красный платок солдатки, а потом головы им разнесла? Как же это ставить на сцену! Да и борьбы-то нравственной здесь не представите, потому что все грубо, коротко. Все не борется, а… решается. В таком быту народа у него нет своей драмы, да и быть не может: у него есть уголовные дела, но уж никак не драмы.
– Ну, это еще старуха надвое гадала, – заметил сквозь зубы доктор.
– По-вашему, что ж, есть драма?
– Да, по-моему, есть их собственная драма. Поверьте, бабы коробьинские отлично входят в борьбу убийцы, а мы в нее не можем войти.
– Да, но искусство не того требует: у искусства есть свои условия.
– А им очень нужно ваше искусство и его условия. Вы говорите, что пришлось бы допустить побои на сцене, что ж, если таково дело, так и допускайте. Только если увидят, что актер не больно бьет, так расхохочутся, А о борьбе-то не беспокойтесь; борьба есть, только рассказать мы про ту борьбу не сумеем.
– А они сами умеют?
– Себе они это разъясняют толково, а нам груба их борьба, – вот и все.
– Да ведь преступление последний шаг, пятый акт. Явление-то ведь стоит не на своих ногах, имеет основание не в самом себе, а в другом. Происхождение явлений совершается при беспрерывном и бесконечном посредстве самобытного элемента, – проговорил Вязмитинов.
Доктор посмотрел на него и опять ничего не сказал.
– А по-моему, снова повторяю, в народной жизни нет драмы, – настаивал Зарницын.
– Да, удобной для воспроизведения на сцене, пожалуй; но ведь вон Островский и Писемский нашли же драму.
– Всё уголовные дела.
– Например, в «Грозе»-то?
– Везде.
– А по-вашему, что же, так у нас нет уж и самобытных драматических элементов?
– Конечно; цивилизация равняет страсти, нивелирует стремления.
– Нивелирует стремления?
– Разумеется.
– О да! Всемерно так: все стушуемся, сгладимся и будем одного поля ягода. Не знаю, Николай Степанович, что на это ответит Гегель, а по-моему, нелепо это, не меньше теории крайнего национального обособления.
– Однако же, вы не станете отвергать общечеловеческого драматизма в сочинениях Шекспира?
– Нет-с, не стану. Зачем же мне его отвергать?
– У всех людей натуры больше или меньше одинаковы. Воспитывайте их одинаково, и будет солидарность в стремлениях.
– Вот вам и шишка на носу тунисского бея!
– Да, это уж парадокс, – подтвердил Вязмитинов.
– Что ж, стало быть, так и у каждого народа своя философия?
– Ну, что еще выдумаете! Что тут о философии. Говоря о философии-то, я уж тоже позайму у Николая Степановича гегелевской ереси да гегелевскими словами отвечу вам, что философия невозможна там, где жизнь поглощена вседневными нуждами. Зри речь ученого мужа Гегеля, произнесенную в Берлине, если не ошибаюсь, осенью тысяча восемьсот двадцать восьмого года. Так, Николай Степанович?
Вязмитинов качнул утвердительно головою.
– Это по философии, – продолжал доктор, – а я вот вам еще докажу это своей методой. Может быть, c'est quelque chose de moujique, [13]13
Это нечто мужицкое (франц.).
[Закрыть]ну да и я ведь не имею времени заниматься гуманными науками, а так, сырыми мозгами размышляю. Вы вот говорите, что у необразованных людей драматической борьбы нет. А я вам доложу, что она есть, и есть она у каждого такого народа своя, с своим складом, хоть ее на театре представлять, эту борьбу, и неловко. Возьмите, например, орловскую мещаночку Матрешу или Гашу в том положении, когда на их сестру шляпу надевают, и возьмите Мину, Иду или Берту из Митавы в соответственном же положении. Миночка сейчас свою комнатку уберет, распятие повесит и Гете в золотообрезном переплете на полку поставит, да станет опускать деньги в бронзовую копилочку. И воровством или другими мастерствами она пренебрегает, а ее положение ей не претит. А наша пить станет, сторублевыми платьями со стола пролитое пиво стирает, материнский образок к стене лицом завернет или совсем вынесет и умрет голодная и холодная, потому что душа ее ни на одну минуту не успокоивается, ни на одну минуту не смиряется, и драматическая борьба-то идет в ней целый век. Это черта или нет?
– Давно указанная и вовсе не нужная.
Зарницын был шокирован темами докторского рассказа, и всем было неловко выслушивать это при девицах. Один доктор, увлеченный пылкостью своей желчной натуры, не обращал на это никакого внимания.
– Вы всё драматических этюдов отыскиваете, – продолжал он. – Влезьте вон в сердце наемщику-рекруту, да и посмотрите, что там порою делается. В простой, несложной жизни, разумеется, борьба проста, и видны только одни конечные проявления, входящие в область уголовного дела, но это совсем не значит, что в жизни вовсе нет драмы.
– Я готов перестать спорить, – отвечал Зарницын, – я утверждаю только, что у образованных людей всех наций драматическое в жизни общее, и это верно.
– И это неверно, и сто тысяч раз неверно. «Гроза» не случится у француженки; ну, да это из того слоя, которому вы еще, по его невежеству, позволяете иметь некоторые национальные особенности характера, а я вот вам возьму драму из того слоя, который сравнен цивилизациею-то с Парижем и, пожалуй, с Лондоном. Я пять лет знаю эту драму и теперь, когда последнего ее актера, по достоверным сведениям, гложут черви, я ее расскажу. Если б я был писатель, я показал бы не вам одним, как происходят у нас дикие, вероятно у нас одних только и возможные драмы, да еще в кружке, который и по-русски-то не больно хорошо знает. А я вам уступлю это задаром; в десяти словах расскажу. Была барыня, молодая, умная, красавица, богатая; жила эта барыня не так далеко отсюда. Была у нее мать-старушка, аристократка коренная, женщина отличнейшая, несмотря на свой аристократизм. Был у молодой барыни муж, уж такой был человек, что и сказать не могу, – просто прелесть что за барин. Поженилась эта парочка по любви, и жили они душа в душу. Барыня была женщина преданная, самоотверженная, но кипучая, огневая была натура. Приехала к ней по соседству кузина из этих московских, с строгими правилами: что всё о морали разговаривают. Муж у нее мышей не топтал; восемьдесят лет, что ли, ему было, из ума уже выжил совсем. Ну, она и приласкала кузининого муженька, а тот, как водится, растаял. Пошли у них шуры да муры. Жена плакать, он клясться, что все клевета да неправда, ничего, говорит, нет. Жена говорит: «сознайся и перестань, я тебе все прощу», – не признается. «Ну, смотри, – говорит барыня, – если ты мне лжешь и я убеждусь, что ты меня обманываешь, я себя не пощажу, но я тебя накажу так, что у тебя в жизни минуты покойной не будет». – А прошу вас ни на минуту не забывать, что она его любит до безумия; готова на крест за него взойти. – Жил у них отставной пехотный капитан, так, вроде придворного шута его муж содержал. Дурак, солдафон, гадкий, ну, одним словом, мерзость. Он ухаживал за барыней: цветы полевые ей приносил, записки любовные писал. Всё это все знали и дурачились, потешались над ним. Назначила кузина барину rendez-vous [14]14
Свидание (франц.).
[Закрыть]ночью. Жена это узнала и ни слова никому. Муж лег в кабинете, да как все в доме уснуло, он тягу. Жена услыхала, как скрипнула дверь, и входит со свечою в кабинет. Никого. Пустая кровать. Она села и зарыдала. Рыдала, рыдала до истерики. Никто не входит. Вдруг капитан этот проснулся и является. Брызгает ее, утешает. Она смотрит на эту гадину и вдруг перестала плакать. Да что было-то? Муж вором лезет в дверь да тишком укладывается в кровать, а жена в одном белье со свечой из капитановой комнаты выходит. «Теперь, говорит, мы квиты. Я вам говорила, что я себя не пощажу, вот вам и исполнение», да и упала тут же замертво.
– Это французская мелодрама, – заметил Зарницын.
– Да как не мелодрама. Французская мелодрама на берегах Саванки. По-вашему ведь, вон в духовном ведомстве человек с фамилиею Дюмафис невозможен, что же с вами делать. Я не виноват, что происшествие, которое какой-нибудь Сарду из своего мозга не выколупал бы, на моих глазах разыгралось. Да-с, на моих глазах. Вот эти руки кровь пускали из несчастных рук, налегших на собственную жизнь из-за любви, мне сдается. Я сумасшедшую три года навещал, когда она в темной комнате безвыходно сидела; я ополоумевшую мать учил выговорить хоть одно слово, кроме «дочь моя!» да «дочь моя!» Я всю эту драму просмотрел, – так уж это вышло тогда. Я видел этого несчастного в последнюю минуту в своем доме. Как он молил жену хоть солгать ему, что ничего не было. Вы знаете, что она сказала: «было все», и захохотала тем хохотом, после которого людей в матрацы сажают, чтоб головы себе не расшибли. Вот вам и мелодрама!








