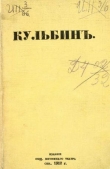Текст книги "Орлы капитана Людова"
Автор книги: Николай Панов
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 35 страниц)
Глава тринадцатая
МАТРОССКАЯ ПЕСНЯ
Мачты, паруса. Черные от копоти и белые – свежепокрашенные – трубы рядом с блеском зеркальных витрин, среди подстриженных, низкорослых деревьев, склонившихся над неподвижной темной водой.
Океанские корабли высились в самом центре Гетеборга. Они пришли сюда большим портовым каналом, разрезающим город на две равные части. Множество других каналов, обнесенных парапетами из серого тесаного камня, пересекают во всех направлениях Гетеборг.
Металлические арки высоко поднявшихся в воздух мостов встают над зеркальной, то темной, то лаково-серой, покрытой радужными пятнами нефти водой этих каналов.
В центре города шумят два больших рынка. Среди зелени бульваров темнеет позеленевший от времени бронзовый памятник основателю Гетеборга – королю Густаву Адольфу, грузному мужчине, закованному в рыцарские доспехи.
Советские моряки проходили мимо старинных, острокрыших готических зданий, мимо современных построек, сереющих железобетоном, блистающих бесконечностью витрин.
Над головами, раскачиваясь у дверей магазинов, пестрели длинные флаги – звезды и полосы – рядом с желтыми крестами на синих полотнищах шведских национальных знамен. Полосатые, многозвездные флажки стояли среди товаров, за стеклами витрин.
– У нас только над посольствами висят иностранные флаги, а тут, смотри ты, везде, – сказал Гладышев, останавливаясь у витрины.
– К чему бы здесь американские флаги? – спросил Уточкин, рассматривая витрину с флажками.
– А это значит – здесь фирмы Соединенных Штатов торгуют, – авторитетно разъяснил Фролов.
– Америка – единственная держава, у которой морской торговый флаг ничем не отличается от военно-морского, – сказал штурман Игнатьев.
Они шли дальше – мимо бензиновых ярких колонок и велосипедных стоянок. Сотни велосипедов стояли один возле другого в ожидании ушедших по делам владельцев.
«Своеобразное ощущение переживаешь, сходя здесь на берег», – подумал штурман Игнатьев. С того момента, как легкое дерево сходней, сброшенных с борта «Топаза», коснулось каменной набережной Гетеборга, казалось – эти сходни не просто соединили палубу корабля с сушей, а протянулись между двумя планетами, а вернее – между вчерашним и завтрашним днем земного шара.
Наступил вечер, и широкобортный «Топаз» возвращался на внешний рейд по пепельно-серой воде морского канала. Серебристые нефтяные цистерны, доки с военными и торговыми кораблями, сидящими в них, как куры на яйцах, норвежские, шведские, английские, американские транспорты, советский теплоход «Фельдмаршал Кутузов» – медленно уплывали назад на фоне бесконечных каменных пристаней…
Еще издали при выходе из порта вновь увидели советские моряки высокий, прямой обелиск и на его вершине бронзовую женщину, в тщетном ожидании протянувшую руки в сторону моря. Прекрасная скульптура даровитого Ивара Ионсона – памятник шведским матросам, погибшим в первую мировую войну,
– Да, немало морячков, о возвращении которых так трогательно молится бронзовая шведка, погибли во время войн, добывая прибыли хозяевам гетеборгских фирм, – сказал, любуясь памятником, Андросов.
«Топаз» вышел на рейд, подходил к доку. Шторм утих давно, еле заметно зыбилась морская вода.
Дощатые, слегка накрененные сходни соединяли док с бортом «Прончищева».
Агеев сидел на деревянных брусьях киль-блока, покуривал, держа в жестких губах рубчатый мундштук своей многоцветной трубки. Вокруг отдыхали матросы. Щербаков мечтательно смотрел вдаль, туда, где за горизонтом, за просторами моря и суши лежала родная земля.
– Я, товарищ мичман, как подойдет время в бессрочный, на Алтай думаю податься, на новые урожаи.
– Что ж, на флоте заживаться не хотите? Не понравилось? – добродушно усмехнулся Агеев.
– Я свое отслужу честно, – улыбался в ответ Щербаков. – А только знаете, какие у нас в колхозе хлеба! Опыт передавать нужно другим колхозам. Вот мы и поедем…
– С девушкой своей, видно, договорился об этом?
Щербаков застенчиво молчал.
– А я обратно на Урал, на мой металлургический, – откликнулся рядом сидящий.
– А мне и ехать никуда не надо! – подхватил никогда не унывающий Мосин. Он поиграл мускулами, провел рукой по стриженой, обильно смазанной йодом у темени голове. Он получил здоровую ссадину, барахтаясь в тащившей его за борт волне, но это не лишило его пристрастия к шуткам.
– Вернемся в нашу базу, послужу сколько положено, а потом на автобус – и через час прибыл в Электрогорск!
– Огромный, говорят, город? – взглянул на него Щербаков.
– Спрашиваешь! Не меньше этого самого Гетеборга будет… Со временем, правда, когда кончим строить его… Там одна гидростанция мощностью чуть послабее Днепрогэса.
– Это которая на днях в строй войдет?
– Пока только первую очередь вводим. Снимки в газете небось видел? У меня там невеста.
– Служит?
Мосин покосился на Щербакова озорным взглядом.
– Работает. Директором комбината.
– Травишь! – сказал пораженный Щербаков.
– Зачем травить… Она пока, конечно, только монтажница, главный корпус помогала достраивать. Сейчас вот учиться в техникум поступила. Когда мне срок демобилизоваться выйдет – ее уже директором назначат.
– Шутишь все…
– А что мне – плакать? Моряк всегда веселый.
Он сидел с баяном на коленях, растянул баян, раздался пронзительный звук.
– Эх, жалко, не умею на гармони… Сыграть бы что-нибудь наше, матросское, чтобы на берегу подпевали…
Жуков стоял в стороне, смотрел неподвижно в пространство. К нему подошел спрыгнувший с палубы «Топаза». Фролов.
– А ты что же, не просил увольнения в город? Стоит там побродить.
– Нет, не просил… – Жуков явно не желал поддерживать разговор.
– Да брось ты думать о ней после такого дела! – Фролов во что бы то ни стало хотел развлечь загрустившего друга. – Я вот лучше тебе расскажу, как нас в Гетеборге встречали. Городок, нужно сказать, ничего, чистенький, весь каналами прорезан. И народ к нам относится хорошо.
Дима Фролов говорил подчеркнуто бодро – у него болело сердце при виде исхудавшего за последние дни, потемневшего лица друга.
– Гуляли, знаешь, мы со штурманом нашим, который сочиняет стихи. Подходит какой-то пожилой человек, из интеллигентных. Приподнял шляпу, пожал по очереди всем нам руки, что-то говорит по-английски. Штурман нам перевел: «Спасибо героическим русским, уничтожившим дьявола Гитлера!»
– А с нами другое было, – вступил в разговор Ромашкин. – Подошли к нам на бульваре четыре шведа. По-русски говорят. Мы, объясняют, из армии спасения, во всех странах мира бываем, все языки знаем. Сигаретами стали угощать.
– А что это за «армия спасения» такая, товарищ старшина? – спросил Щербаков.
– Армия спасения? – боцман Ромашкин значительно потер нос. – Это, как бы тебе сказать, ну попы, служители культа. На площадях молитвы поют, на скрипках играют.
– Вроде наших цыган? – с сомнением протянул Щербаков.
– Говорю, попы, а не цыгане.
Ромашкин медленно затянулся.
– А мы что, мелочные, на чужой табак кидаться? Вынимаю пачку «Казбека», дескать, закуривай наши, ленинградские – и проходи. А они за нами увязались, не отстают. Стали расспрашивать, как в Советской России живем. Превосходно живем, отвечаю. «А как моряки у вас время проводят?» В море, говорю, проводим время, в труде. А как срок увольнения подходит: чистимся, одеколонимся и идем с любимой девушкой в театр. Помолчали они, будто поскучнели. Потом один спрашивает: «А трудности у вас от войны остались?» Тут я им и подпустил. Трудностей, говорю, только у того нет, кто с фашистами не воевал, нейтралитет соблюдал в этом деле. А про их нейтралитет – помните, что мичман рассказывал?
– Это что они через свою страну гитлеровские войска пропускали, за валюту шарикоподшипники Гитлеру гнали? – сказал кто-то из матросов.
– Вот-вот…
Жуков не вслушивался в разговор, стоял в стороне убитый горем. У Фролова заныло сердце сильней. Он шагнул к Леониду.
– Не горюй ты – море все раны лечит! Еще найдешь в жизни настоящую подругу.
– Отплавался я, – тихо сказал Жуков.
– Что так? Разве твой рапорт задробили?
– Не задробили еще, а думаю, будет «аз».
– Да ты поговорил бы с замполитом…
Жуков, глядя в сторону, молчал.
– Вот что! – Фролов взял у Мосина баян. – Давай споем. Песней печаль разгоним.
– Не могу я петь! – взглянул с упреком Жуков.
– Песня усталость уносит, тоску разгоняет. А эту будто для тебя специально штурман наш сочинил.
Прислонился к брусьям киль-блока – гибкий, темноглазый, взял вступительные аккорды, запел:
Бывают дни такие – повеет ветер грусти,
Туманом застилает маячные огни.
Моряк не любит грусти и руки не опустит,
Но выпали на долю и мне такие дни.
Фролов тряхнул головой, сдвинулась на затылок шляпа, голос зазвучал сдержанной страстью, грустным призывом:
О чем грущу, матросы, о чем, друзья, тоскую?
Какие злые мысли прогнать не в силах прочь?
Дорогу выбрал в жизни просторную, морскую,
А девушка-подруга не хочет мне помочь.
Грусть Фролова исчезла, сменилась веселым вызовом. Матросы подхватили припев:
Нелегкая дорога, но в ней и честь и слава!
Далеко флаг Отчизны проносят моряки.
И где бы ни ходил я, и где бы я ни плавал —
Повсюду мне сияют родные маяки!
Пели уже несколько матросов, в хор вступали все новые голоса.
Глаза разъело солью, усталость ломит руки,
Бушует даль волнами, и берег скрылся с глаз…
Далекие подруги, любимые подруги,
Как думаем, мечтаем, как помним мы о вас!
А вот моя подруга не любит, не жалеет…
Иль ты не понимаешь, не знаешь ты сама,
Что другу в океане работать тяжелее
Без теплого привета, без милого письма…
Нелегкая дорога, но в ней и честь и слава,
Далёко флаг Отчизны проносят моряки.
И где бы ни ходил я, и где бы я ни плавал —
Повсюду мне сияют родные маяки!
– Вот уж точно, – растроганно сказал Агеев. – Чем дальше в чужие края – тем роднее советская земля.
Он спрыгнул с киль-блока, неторопливо пошел в сторону «Прончищева». Сергей Никитич заметил давно, что из палубной надстройки ледокола вышла, остановилась у поручней Таня Ракитина. И походка могучего, прославленного боцмана, по мере того как он приближался к Тане, становилась все более неуверенной, почти робкой.
– Татьяна Петровна! – негромко окликнул мичман. Она медленно обернулась.
– Погодка-то какая стоит после шторма. Глядите – чайки на воду садятся. Недаром старики говорят: «Если чайка села в воду – жди, моряк, хорошую погоду».
Он остановился с ней рядом… Нет – совсем не такими незначительными словами хотелось начать этот разговор. Ракитина молчала.
– Правильную поют матросы песню… – Еще звучал баян, хор голосов ширился над закатным рейдом, и в душе мичмана каждое слово находило все более волнующий отклик. – В походе волна бьет, солью глаза разъедает, а любимые у нас на сердце всегда. Куда глаз глядит, туда сердце летит.
Он искоса взглянул на нее – не навязывает ли опять Татьяне Петровне слишком явно свои чувства?
– А бывает – любовь эта самая и до плохого доводит, – продолжал рассудительно мичман. – Вот хоть бы сигнальщик наш Жуков. До головотяпства дошел, нож забыл в комнате у вертихвостки, а тем ножом человека убили.
– Разве он ножом был убит?
Мичман от неожиданности вздрогнул. Таня повернулась к нему. Ее губы были приоткрыты, какой-то настойчивый вопрос жил в ее взгляде.
– Точно – ножом…
Он молчал выжидательно, но она не прибавила ничего, опять смотрела вдаль, положив на поручни свои тонкие пальцы. И боцман упрекнул сам себя – вместо задушевного разговора напугал девушку рассказом об убийстве!
– Сергей Никитич, – тихо сказала Таня, – бывало с вами так, что долго мечтаешь о чем-то, ждешь чего-то большого-большого, кажется – самого главного в жизни, а дождешься – совсем все не то и вместо радости одно беспокойство и горе?
Ее голос становился все тише, не оборвался, а словно иссяк с последними, почти шепотом произнесенными словами.
– Какое у вас горе? Скажите?
Но она тряхнула волосами, смущенно закраснелась, благодарным движением коснулась его руки.
– Нет, это я так…
Она поежилась в своем легком пальто.
– Ветер какой холодный. Я в каюту пойду…
Действительно, ветер усиливался. Вода рейда подернулась легкой рябью, хотя чайки по-прежнему покачивались на волнах и горизонт на весте был чист. Но когда Ракитина скрылась за тяжелой дверью надстройки, Агееву показалось, что погода испортилась непоправимо.
Глава четырнадцатая
НОРВЕЖСКИЙ ЛОЦМАН
Караван входил в норвежские шхеры. Лоцман Олсен всматривался в берег, потом взглянул на репитер гирокомпаса.
– Форти дегрис, – сказал лоцман.
– Право руля. Курс сорок градусов! – скомандовал Сливин громко, чтобы слышали рулевой и сигнальщик.
– Право руля, курс сорок градусов! – сообщил капитан Потапов в штурманскую рубку.
Они стояли на мостике недалеко друг от друга: Сливин, капитан ледокола, и норвежский лоцман – невысокий седоватый моряк в черной тужурке с золотыми нашивками на рукавах, в высокой фуражке с королевской короной и латинскими литерами «LOS» на золоченом значке.
Четырехугольный лоцманский флаг: верхняя половина белая, нижняя – красная, вился на мачте «Прончищева». Быстро перебирая фал, Жуков поднимал на нок верхнего рея сигнал поворота вправо.
Впереди маленький черный «Пингвин» поднял такой же сигнал, медленно показывал правый борт.
Рулевой повернул колесо штурвала, смотрел на цифры компаса.
«Прончищев», следуя за движением «Пингвина», сворачивал вправо, тянул за собой идущий на укороченных буксирах громадный, неповоротливый док. Ложась на новый курс, стальная громада дока описывала полукруг.
– На румбе сорок градусов, – доложил рулевой. Караван шел прямо на черную зубчатую стену исполинских ребристых скал, отвесно вставших над водой.
– Фифти файв дегрис, – раздельно сказал, опираясь на поручни, норвежец.
– Право руля. Курс пятьдесят пять градусов, – скомандовал Сливин, вскинул висевший на груди тяжелый бинокль, стал смотреть на близящуюся стену скал.
Казалось, здесь нет прохода, караван идет прямо на берег. Но вот скалы стали медленно раздвигаться, распахивались, как крепостные ворота, открывали узкий лазурно-синий фарватер. А впереди уже вырастала новая, кажущаяся непроходимой стена скал…
Маленькие желто-красные домики – высоко над срывами кое-где покрытых зеленью гор…
Округлые черные островки среди голубой зыби фиорда… Крошечные рыбачьи лодочки на воде. Будто задремавшие в них рыбаки.
Остались позади хмурые волны и штормовой ветер Каттегата. Легкие полосы неподвижных облаков чуть розовели в утреннем небе.
Напряженный, озабоченный голос норвежского лоцмана совсем не вязался с окружавшей моряков театрально красивой природой.
– Файв дегрис лефт, – сказал лоцман.
– Лево руля. Курс пятьдесят градусов, – скомандовал Сливин.
Опять открылся узкий скалистый проход. Он медленно расширялся, впереди развертывалась широкая синева.
Опершись на штурманский стол, лейтенант Игнатьев тщательно вел прокладку, отмечая тонкой чертой путь ледокола, все его крутые повороты.
Вошел Курнаков, положил бинокль на диван.
– Выходим на чистую воду, Пойду, товарищ лейтенант, немного прилягу.
– Вы бы по-настоящему отдохнули, Семен Ильич, – самолюбиво сказал Игнатьев. – Могу заверить – вахту сдам в порядке.
Не отвечая, Курнаков вышел из рубки.
На мостике лоцман Олсен приподнял фуражку, пригладил белокурые с сединой волосы, снова надвинул козырек на морщинистый лоб. Быстро по-английски что-то сказал Сливину.
– Херре Олсен говорит, – пояснил Сливин Потапову, – самая трудная часть фарватера пройдена.
– О, не нужно меня звать «херре»! – Олсен заговорил по-русски, медленно подбирая слова. – Напоминает немецкий… В Норвегии от фашистов много беды.
– В таком случае, мистер Олсен…
– Мистер – тоже нехорошо. Напоминает английский. В Норвегии немножко много говорят по-английски… – Олсен подыскивал слова. – Я хочу просить звать меня товарищ.
– Товарищ Олсен говорит, – сказал Сливин, – что самая трудная часть фарватера пройдена, а в Бергене мы получим хороший отдых.
Олсен удовлетворенно закивал, улыбнулся Сливину, и капитан первого ранга ответил ему дружелюбной улыбкой.
Он всматривался в лицо норвежского лоцмана: желтовато-коричневое, как старый пергамент, сужающееся книзу – от широкого костистого лба, с глазами, ушедшими под седые мохнатые брови, до ввалившихся щек и маленького, плотно сжатого рта. Лицо много видевшего, много пережившего человека. Сливин не мог забыть, как дрогнуло оно от волнения при первом разговоре лоцмана Олсена с советскими моряками.
Когда лоцманский бот подошел к борту «Прончищева» и худощавый старик в высокой фуражке и долгополом дождевике с ходу ухватился за поданный ему трап, в два рывка оказался на палубе ледокола, моряки экспедиции сразу признали в нем опытного морехода. Порывисто и легко лоцман взбежал на мостик, представился командиру экспедиции, пожал руки Потапову, Курнакову, Андросову.
– Веар велкоммен! [25]25
Добро пожаловать! (норвежск.).
[Закрыть]– сказал Сливин, пожимая худую жесткую руку. Лицо лоцмана, хранившее строго официальное выражение, просветлело. Он ответил что-то по-норвежски. Сливин, улыбаясь, развел руками. Лоцман перешел на ломаный английский язык, широко распространенный в скандинавских портах.
– Я думал, вы говорите на моем родном языке, – сказал разочарованно Олсен.
– К сожалению, еще нет, – ответил по-английски Сливин. – Только начинаю изучать язык наших норвежских друзей. Мы хотим знать как можно больше о стране, народ которой так мужественно сражался с фашистами.
Норвежец слушал с равнодушно-любезным выражением лица.
– Мы, советские люди, с восхищением следили за этой борьбой, – продолжал Сливин. – Помним, как сражались за свободу норвежские моряки, как при вторжении гитлеровцев в Норвегию бергенская береговая батарея меткой стрельбой повредила крейсер «Кенигсберг».
– Да? Вы знаете об этом? – сказал, начав слушать внимательней, лоцман.
– А патрулировавший в горле Осло-фиорда норвежский китобойный корабль открыл огонь из своего единственного орудия по отряду фашистских крейсеров и миноносцев! Восхищаемся мы и героическими действиями «Олава Тригвассона».
– Вы слышали об «Олаве Тригвассоне»? – спросил лоцман, не сводя со Сливина глаз. Выражение странной напряженности появилось на его лице.
– Конечно, слышали! – продолжал Сливин. Он повернулся к Андросову. – Помните, Ефим Авдеевич, минный заградитель «Олав Тригвассон» вместе с тральщиком «Раума» стоял у военных верфей, когда к Осло подошла эскадра фашистских захватчиков. Два норвежских корабля со слабым вооружением дали морской бой немецкой эскадре, потопили своим огнем два десантных корабля и миноносец «Альбатрос».
– Потом «Олав Тригвассон» отдал швартовы и пошел навстречу крейсеру «Эмден», – подхватил Андросов. – Конечно, «Эмден» уничтожил его своей артиллерией, но норвежские моряки успели серьезно повредить гитлеровский крейсер. Они до последней возможности вели огонь.
– «Они до последней возможности вели огонь!» – повторил норвежец. Он боролся с волнением, его старческий рот скривился, влажно заблестели глаза из-под бурых бровей. – Да, наши ребята вели себя хорошо.
Он шагнул было к крылу мостика, но обернулся к Сливину снова.
– Простите, я немного разволновался. На «Олаве Тригвассоне» погиб мой сын Сигурд. Мой единственный сын Сигурд. Он был хорошим мальчиком… Да, он был хорошим, храбрым мальчиком, – повторил лоцман, пристально всматриваясь в береговой рельеф.
И вот он стоит рядом с командиром экспедиции – как прежде, молчаливый, сдержанный норвежский моряк.
– Фифти дегрис! – говорит лоцман Олсен.
– Пятьдесят градусов, – переводит Сливин…
…Агеев ходил по палубе дока, с досадой рассматривал повреждения, причиненные штормом.
– Да, нужен изрядный ремонт… Как будто ножом срезали волны киповую планку там, где в воду сбегают тросы. Сорвало деревянную обшивку по бортам и унесло в море – нужно ставить новую обшивку. Расшатало дубовый настил… Сильно покорежило буксирное хозяйство!
Хорошо еще, что, умело маневрируя, все время меняя ход, моряки «Прончищева» избежали обрыва тросов… И неплохо развернулась боцманская команда на доке.
Главный боцман взглянул на упорные брусья – древесные стволы, сослужившие при шторме хорошую службу, подпирая доковые башни. Эх, и металлические листы сорваны около якорной цепи!.. Своими силами тут не справишься, командир хочет вызвать в Бергене заводскую бригаду. Хорошо еще, что уцелели все люди.
Агеев вспомнил, как наутро после шторма подошел к нему Мосин. С необычным выражением смотрели быстрые, всегда задиристые и озорные глаза.
– Спасибо, товарищ мичман… Если бы вы меня за штаны не ухватили, пошел бы я, пожалуй, Нептуну на ужин.
Мосин сказал это с самолюбивой улыбкой, видимо, больше всего боялся, что мичман припомнит сейчас его дерзости, отплатит ему за все. И Сергей Никитич понял состояние матроса.
– О чем говорить! Моряк вы, Мосин, хороший, авралили с душой. Только, знаете, не зря наши поморы говорят: «На воде ноги жидкие».
– Ну, у вас-то, товарищ мичман, они не жидкие, – сказал с восхищением Мосин. И Агеев понял, что навсегда завоевал его дружбу. Было время перекурки. Они стояли среди других матросов. Сергей Никитич заметил, что многие прислушиваются к их разговору.
– Море – строгое дело, с ним дружить уметь надо, – сказал Агеев. Он оперся на бухту белого манильского троса, вынул кисет, роздал матросам табак, набил свою трубочку.
– Рассказать вам, как я к нему привыкал? Я десяти лет от роду в океан выходить стал с нашими рыбаками. Еще сам в лодку залезть не мог, ростом был мал – колодку подставлял к борту, или взрослые мне помогали…
Ходили мы за треской, за норвежской сельдью, морского зверя на льдинах били… Море – рыбачье поле… Один раз выскочил я на льдину, а она трещину дала, не могу обратно перескочить. Так папаша мой, силач, меня багром за воротник захватил и передернул на главную льдину.
Агеев рассказывал, а сам то и дело поглядывал на палубу, уже покрывшуюся кое-где белыми и красновато-желтыми пятнами. Совсем недавно вычистили и покрасили ее, и вот опять она стала янтарной-желтой там, где уже проступила ржавчина на поцарапанных тросами и якорными цепями местах. В других местах она стала белой от морской соли – следы разгулявшихся по стапель-палубе волн.
– Неудобно с такой палубой в порт приходить, – озабоченно сказал Агеев Ромашкину, стоявшему рядом. – Придется приборочку устроить. Перекур кончим – свистать всех к большой приборке!
– Есть, свистать всех к большой приборке!
Ромашкин даже расстроился тогда – еще чувствовалась усталость после бессонной ночи. И здоров же работать главный боцман! Но, конечно, мичман прав: не к лицу советским кораблям входить в иностранный порт в неряшливом виде.
А Сергей Никитич чувствовал в те минуты новый прилив бодрости, с особым рвением натянул на руки брезентовые, заскорузлые от морской соли рукавицы…
Уже давно произошел у них с Татьяной Петровной столь расстроивший и удививший мичмана разговор на гетеборгском рейде. А немного спустя Татьяна Петровна встретилась с ним как ни в чем не бывало, была привычно приветлива, как обычно, дружески взмахнула рукой, когда «Прончищев» дал ход, стал удаляться от Гетеборга, таща за собой док к норвежским шхерам…
И теперь опять на корме близко идущего ледокола Агеев увидел Таню, вышедшую из камбузной рубки, засмотревшуюся на плывущие мимо величественные скалы. Мягкий пушистый локон выбился из-под Таниной косынки. Девушка не видела Агеева, но мичман знал – как только приметит его, ее черноглазое милое лицо засияет улыбкой, она помахает рукой, посмотрит как-то особенно прекрасно, как умеет смотреть только она. Стоит ей только обернуться…
На корму вышел не торопясь Фролов, потянулся, – видно, здорово выспался после вахты, остановился возле Тани. Глянул на берег, потом на док, дружески кивнул Агееву, что-то мельком сказал Тане.
И тотчас девушка радостно оглянулась, помахала тонкой смуглой рукой, совсем дружески просто, но у мичмана бешено забилось сердце. Сдернул рукавицу, торжественно четко приложил правую руку к фуражке. А Таня улыбнулась снова, пошла на шкафут своей легкой походкой.
И много времени после этого, распоряжаясь приборкой, сам работая до седьмого пота, Сергей Никитич чувствовал необычайный прилив сил, все кругом улыбалось ему: и синяя вода фиорда, и расцвеченные кое-где зеленью и пестрыми домиками горы, и удивительно высокое, удивительно спокойное и светлое скандинавское небо…
…Сидя в своей каюте, капитан третьего ранга Андросов готовил материалы для политбеседы, просматривал выписки из книг, журналов и газет.
«Тяжело переживал норвежский народ гитлеровское иго, – читал он одну из своих записей. – В Германию вывозилось продовольствие, скот, железная руда Киркенеса и Сер-Верангера, медь Реруса и Сулительмы, никель Хосангера и Эвье, молибден из Кнабехея. Три миллиона крон в день выплачивал норвежский народ на содержание гитлеровских гарнизонов, расквартированных в стране».
Андросов распрямился, взглянул в отдраенный иллюминатор. Сложил свои записи, вышел из каюты.
Караван медленно продвигался к Бергенскому рейду.
Уже видны были высящиеся у набережных океанские теплоходы, ярусы бесчисленных иллюминаторов, белые линии палубных тентов. Тянулись ряды круглых нефтяных цистерн, похожих на приземистые сторожевые башни, и древние крепостные башни, похожие на цистерны.
Вырастали городские дома. Их остроконечные вышки, черепичные крыши нависали над самой водой. То там, то здесь рыжели у причалов ржавые борта кораблей, неподвижно прильнувших к камням. На палубах этих кораблей не было признаков жизни.
– Берген, главный город нашего западного побережья, древняя столица норвежских королей! – сказал с гордостью Олсен. – Больше ста лет правили здесь вожди древних викингов, пока их не вытеснила Ганза – союз немецких купцов. Здесь томился в плену у ганзейцев норвежский король Магнус Слепой.
– А теперь снова Берген – центр вашей рыбной торговли? – откликнулся, стоя рядом с ним, Сливин. – И один из центров вашего знаменитого судоходства! Мы знаем – до второй мировой войны Норвегия по тоннажу торговых кораблей занимала четвертое место в мире.
Лоцман молчал.
– «Нашу силу и наше могущество белый парус в морях нам принес», – продекламировал Сливин. – Это ведь из вашего национального гимна, написанного Бьернстерне Бьернсоном? Недаром Норвегию звали мировым морским извозчиком.
– То было раньше, – откликнулся Олсен. Он как будто немного оживился. – В молодости, товарищ, я и сам ходил матросом на наших торговых кораблях. Мы возили чилийскую селитру, руду из Швеции, каменный уголь из Кардифа в Пирей, белых медведей из Норвегии в зоологические сады Гамбурга, Антверпена и Кенигсберга. Мы возили сельдь и тресковый жир, золото из Бельгийского Конго и удобрения из Мексики и Коста-Рико. Вы правы, товарищ, наш поэт Бьернстерне Бьернсон недаром прославил норвежских моряков в гимне.
– Да, гитлеровская оккупация подорвала ваш флот.
Олсен угрюмо молчал. Сливин помолчал тоже.
– Что это за суда на приколе, товарищ Олсен?
Олсен повернул к нему свое худое лицо.
– Это, товарищ, наши рыболовные и транспортные корабли. Они ржавеют без работы… – тонкие губы лоцмана скривились печальной усмешкой. – Вам не кажется, что здесь на рейде слишком много иностранных флагов?
«Да, – подумал Сливин, – иностранных флагов здесь действительно немало». Полосатые полотнища с накрапами белых звезд развевались на штоках теплоходов, на мачтах разгружаемых высоких черных транспортов.
– Я не хотел об этом говорить, – медленно, морщась, как от боли, сказал норвежский лоцман, – но у меня уже глаза болят от пестроты этих флагов. – Он улыбнулся, смотря вперед. – А вот, впрочем, имею удовольствие увидеть и наше национальное знамя.
Из окна двухэтажного домика, прильнувшего к подножию черной скалы, из окна с ярко-зелеными ставнями свесилось полотнище норвежского красно-синего флага. Две девушки улыбались, размахивая флагом.
– Насколько я понимаю, они приветствуют вас! – глаза Олсена прояснились, он заговорил живее, радовался перемене разговора. – Норвежский народ помнит, что русские люди помогли ему освободиться от гитлеровского рабства.
– После окончания войны, – торжественно сказал Сливин, – пришлось мне побывать в Северной Норвегии, в рыбачьем городке Хорштадте. Есть там могила советских воинов, замученных фашистами. Трогательно было смотреть, как ухаживает население за этой могилой, как девушки приносили на нее венки из камыша и горных цветов.
– Да, отношение народа к вам не изменилось…
Лоцман сам себя оборвал на полуфразе, подошел к трубе ледокола, потянул рукоятку свистка. Вместе с жемчужно-белыми султанами пара взлетели из трубы три пронзительных зова: два длинных, один короткий – сигнал вызова портового лоцмана.
– Норвегия встречает вас хорошо, – сказал Олсен, шагнув к поручням. – Вам улыбаются и наши девушки и наша природа. Вы знаете, про Берген говорят: дома и улицы здесь всегда чисты потому, что почти непрерывно их омывают дожди. А сегодня такая праздничная погода!
Он хрустнул пальцами своих костистых рук.
– Ну, окончена моя работа. Сейчас портовый лоцман будет ставить вас к причалу.
– Но когда пойдем отсюда, вы, насколько я знаю, снова поведете нас? – спросил Сливин.
– Да, я буду иметь честь вести моих русских друзей до границы наших государственных вод, – слегка поклонился норвежец.
Он сбежал по трапу вниз. От пристани уже нарастало постукивание мотора. По направлению к «Прончищеву» шел, разваливая сине-белую воду, лоцманский катер.
– Как только ошвартуемся – сразу придется связаться с одной из судоремонтных компаний, договориться о ремонте, – сказал Потапову Сливин. – А вас, капитан третьего ранга, – обернулся он к Андросову, – прошу приготовить приказ о вынесении благодарности боцманским командам дока и кораблей экспедиции за отличную работу с буксирами…
На верхнюю палубу вышел Тихон Матвеевич, что-то сердито пробормотал, постоял недоуменно, вернулся в свою каюту… Торжественные звуки Пятой симфонии Бетховена разнеслись по ледоколу, проникли в буфет, где Глафира Львовна и Таня готовили посуду к обеду.
– Опять со своим патефоном, – сказала, перетирая тарелки, Глафира Львовна. – Солидный человек, а занимается ерундой… От одиночества… – Она говорила, как всегда, недовольным тоном, но ее лицо казалось оживленней обычного. – Не слышала, Танюша, скоро на берег начнут увольнять?
– Нет, не слыхала, – сказала Таня рассеянно, смотря в иллюминатор.
– Ты, Танюша, вместо меня в кают-компании обед не раздашь? Меня старший помощник в первую очередь отпустить обещал. Хочу по магазинам пройтись. А завтра, когда в увольнение пойдешь, я тебя подсменю в салоне.
– Не знаю, успею ли, Глафира Львовна. Мне передвижку на доке сменить нужно. А потом на «Топазе» и на «Пингвине».