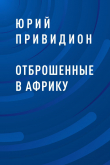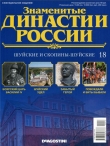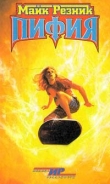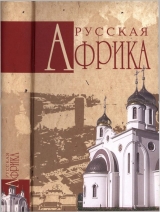
Текст книги "Русская Африка"
Автор книги: Николай Николаев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
Вот уже более столетия южноафриканское направление – одно из важных для российской эмиграции. В конце XIX – начале XX века сюда из России ехали в основном евреи, привлеченные новыми возможностями и экономическим подъемом, охватившими Капскую колонию и бурские республики после открытия богатейших золотых и алмазных месторождений. В результате большая часть южноафриканских евреев может похвастаться российскими предками!
В начале 1930-х годов иммигрантское законодательство Южно-Африканского Союза (ЮАС) было ужесточено. Бурный поток россиян, намеревавшихся поселиться в этой стране, превратился в ручеек. Через препоны, воздвигнутые южноафриканским законодательством, могли прорваться только самые отчаянные. Алмазный и золотой бум сошел на нет, и эмигрантов из России привлекали уже другие страны.
Так продолжалось вплоть до перестройки, когда советские граждане получили право более свободного выезда за границу. К тому времени правительство белого меньшинства Южно-Африканской Республики (ЮАР) уже начало осуществлять политику активного привлечения иммигрантов к делам своей страны, и немало наших бывших сограждан, даже в отсутствие дипломатических отношений между СССР и ЮАР, правдами и неправдами получали вид на жительство в этой стране.
Ныне количество наших соотечественников в Южной Африке исчисляется тысячами, но официальных данных на этот счет, к сожалению, нет.
А что же происходило в промежутке между двумя этими мощными волнами российской эмиграции в Южную Африку? Сведения о русских в Южной Африке вплоть до конца 1980-х годов довольно скудны. Русская диаспора в эти годы была малочисленной. До перестройки в СССР и связанной с ней крупной волны российской эмиграции общее число русских в Южной Африке вряд ли превышало несколько сотен. По приблизительным оценкам, перед Второй мировой войной в Йоханнесбурге, важнейшем городе ЮАС, проживало около 20 русских, к концу 1950-х годов их там было уже около 50. В дальнейшем число русских в ЮАР только сокращалось, несмотря на небольшой приток их из бывших африканских колоний. В 1973 г. в «Южно-Африканской энциклопедии» русская диаспора страны названа «вымирающей».
Там не издавались русские газеты и журналы, а эмигрантская пресса из Европы и США приходила с большим опозданием. Но все же ее ждали с большим нетерпением, читали от корки до корки. В Южную Африку доставлялась русская пресса, выходившая не только в Западной Европе и США, но и в Прибалтике (например, рижская газета «Сегодня»). Эмигранты ходили друг к другу в гости, обменивались экземплярами газет и журналов, читали статьи, а затем обсуждали их. Некоторые сами посылали корреспонденции в газеты русского зарубежья. Статьи с юга Африки можно было прочитать в «Новом русском слове», «Русской мысли», «Сегодня», «Православной Руси».
Русские эмигранты, оказавшись в Южной Африке, не хотели быть в изоляции и стремились всеми силами поддерживать связи с мировыми центрами русской диаспоры. После окончания Второй мировой войны роль и влияние русской общины Южной Африки возросли. В предыдущие десятилетия здесь знали лишь отдельных русских эмигрантов, достигших успеха и заслуживших уважение в новой для них стране.
Среди первых, кто достиг успеха на новой родине, был петербургский профессор геологии, специалист по металлам платиновой группы Павел Ковалев.
В 1930-м в Южной Африке поселился другой известный геолог и горный инженер – Павел Назаров, долгие годы проработавший в Сибири и Средней Азии. В 1918 году большевики приговорили Павла Степановича к расстрелу, но ему удалось бежать в Китай, затем в Индию. До переезда в Южную Африку он работал в Родезии и Анголе.
Но это все же были одиночки, не связанные друг с другом организационно, не объединенные групповой необходимостью сохранить свое национальное самосознание. После войны, когда русских в ЮАС стало больше, чем в предыдущие годы, возникли условия, необходимые для создания общины как альтернативы ассимиляции, и южноафриканские русские воспользовались этим моментом.
В первые предвоенные и первые послевоенные годы в ЮАС приехали русские из таких важных центров российской эмиграции послереволюционной волны, как Франция, Германия, Югославия. Они знали способы объединения русских беженцев в этих государствах. Некоторые из них, возможно, принимали участие в деятельности эмигрантских организаций. В любом случае им была знакома и близка идея сохранения в себе и в своих детях русского и православного начал как способа избежать ассимиляции и сберечь свою идентичность. Без таких «подготовленных» кадров создание «Общества русских эмигрантов» в Южной Африке (оно было основано в 1952 году) оказалось бы невозможным. Большинство его организаторов принадлежало ко второму поколению эмигрантов из России, и, пока они были сравнительно молоды и полны энергии, т. е. в 1950–1970-е годы, русская община, по крайней мере в Йоханнесбурге, процветала. Но передать «эстафету» своим детям они не смогли. Третье поколение по большей части считали себя не русскими, а стопроцентными южноафриканцами. А значит, для них не было нужды поддерживать и культивировать в себе русское начало. «Русское общество» оказалось им не нужно.
К концу 60-х годов русская община в ЮАР заметно ослабела. С установлением после Второй мировой войны в Южной Африке режима апартеида русские старались не афишировать свое происхождение. Власти с подозрением относились к нашим соотечественникам независимо от их политических взглядов.
Старики доживали свой век в доме для престарелых, который создало «Русское общество». У общины не хватало денег даже на оплату труда православного священника. Архимандриту Алексею Черному, назначенному в 1959 году главой всех приходов Русской православной церкви за границей в Южной, Центральной и Восточной Африке, пришлось отбыть в Америку. С его отъездом общинная жизнь переместилась в «Русский дом» в Йоханнесбурге. Община продолжала находиться в лоне зарубежной церкви, но постоянного священника так и не обрела. Иногда богослужения совершались сербскими и греческими клириками.
В 1988 году верующие обратились в Московскую патриархию с просьбой о помощи в создании православной общины. И уже на следующий год в ЮАР для открытия там временного домового храма был направлен священник из Петербурга протоиерей Сергий Рассказовский. Приход, настоятелем которого его назначили, получил в небесные покровители преподобного Сергия Радонежского.
Весной 2000 года в пригороде Йоханнесбурга Миндранде на средства, собранные прихожанами и благотворителями, был приобретен участок земли для строительства православного храма. Собрали церковную утварь и иконы. В сентябре того же года в городскую управу подали проект здания будущей церкви, сделанный петербургским архитектором Юрием Кирсом, известным своим участием в реставрации собора в честь Владимирской иконы Божией Матери и часовни блаженной Ксении Петербуржской в Санкт-Петербурге.
В апреле 2001 года к Пасхе вышел первый в Южной Африке православный журнал на русском языке «Вестник», учрежденный приходом Сергия Радонежского и адресованный главным образом выходцам из России и сопредельных государств, проживающих ныне в ЮАР. В мае 2001 года к настоятелю обратились прихожане «Русского дома», принадлежавшего Русской православной церкви за границей с просьбой принять их в свою общину вместе с часовней и домом, находившимися в одном из самых престижных районов города.
Пятнадцатого декабря 2001 года по благословению предстоятелей двух поместных православных церквей – блаженнейшего папы и патриарха Александрийского и всей Африки Петра VII и святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Йоханнесбурге состоялась закладка первого на юге Африки русского православного храма. На церемонии присутствовало множество верующих. В основание храма торжественно заложили капсулу с памятной грамотой, в которой, в частности, сказано, что по благословению патриарха Александрийского и Московского «начинается создание русского православного храма в честь и память преподобного Сергия Радонежского». (Второго февраля 2003 г. в храме прошло первое богослужение. – Ред.)
Лики истории
Архимандрит Алексий (Черной Александр Николаевич, 1899–1985).
Род Чернай происходит от тевтонских рыцарей. Его дед переехал в Россию из Чехии, отец Николай Львович – действительный статский советник, председатель Ковенского окружного суда. С началом Первой мировой войны семья Чернай переезжает в г. Лугу, где их духовником становится протоиерей Анатолий Остроумов. В это же время Александр учился в одной из столичных гимназий и подиаконствовал у епископа Гдовского Вениамина (Казанского), будущего Петроградского митрополита и священномученика.
В 1918 г. А. Чернай вступил в Белое движение, службу проходил в формированиях генерала Юденича, в 5-м артиллерийском Георгиевском полку. Благодаря помощи архиепископа Литовского (Богоявленского) А. Чернай устраивается в Вильнюсе, затем переезжает в Каунас, женится в 1924 г. Имя жены Татьяна (1944 г.). По окончании Виленской духовной семинарии Александр Чернай был рукоположен в священный сан (1925 г.), служил на приходах в Литве, Сергиевский приход в Утяны, с 1931 г. – в г. Векшни. Пережил советскую и немецкую оккупации. Священник Александр Чернай возведен в сан протоиерея в 1943 г.
С 1944 г. о. Александр в эмиграции в Германии (гг. Эрфурт в Тюрингии, Наугейм, Ганау, Арользен, Гутенберг). Основал православную миссию в Наугейме в 1946 г. и ряд храмов в лагерях Ди-Пи. С 1948 г. проживал в г. Цинциннати, штат Огайо, США, где организовал православную миссию, помогал русским в переезде из европейских беженских лагерей в Америку. С 1950 г. – миссионер в г. Хьюстон, штат Техас. В 1957 г. протоиерей Александр принял монашество с именем Алексий и удостоен сана архимандрита.
В конце октября 1958 г. архимандрит Алексей (Черной) получил назначение на должность администратора русских православных общин в Южной Африке. Указ был подписан первоиерархом РПЦЗ, митрополитом Анастасией (Грибановским).
Русский приход, образованный в ЮАР за семь лет до этого и посвященный в честь святого князя Владимира, не имел собственного помещения – богослужения совершались в боковом приделе английского собора. В 1960 г. русским пришлось покинуть это помещение и временно воспользоваться гостеприимством пастора шведской протестантской церкви. Русская колония в Йоханнесбурге состояла приблизительно из 50 человек. В основном это были представители первой волны эмиграции.
Священнику предоставили небольшую квартирку в центре города. В одной из комнат на следующее же утро по прибытии архимандрит Алексий устроил часовню. С 1969 по 1975 г., дабы не обременять общину, архимандрит Алексий работал в представительстве британской библейской миссии и часть своего жалованья употреблял на нужды русского храма и общины.
В ЮАР русские эмигранты создали прекрасный хор, который, по отзыву прибывшего батюшки, не уступал в мастерстве лучшим русским церковным хорам в США.
В тесном контакте с русскими находилась более многочисленная сербская община – в основном это были люди, вынужденные эмигрировать в результате Второй мировой войны. В ЮАР имелась большая греческая община, церковной жизнью руководил экзарх митрополит Никодим. Архимандрит Алексий находился с ним в близком контакте, как и со сменившим его митрополитом Павлом. Дружеские отношения поддерживались с настоятелем греческого собора о. Кириллом.
В 1961 г. община арендовала у одного эмигранта литовского происхождения дом, в котором разместились русский храм в честь святого князя Владимира и квартира священника. В связи с этим поступила телеграмма со словами приветствия и благословения от митрополита Анастасия, что воодушевило русскую паству в ЮАР. Начались работы по оборудованию помещения для нужд православного богослужения, храм стал духовным оплотом для всех русских и сербов от мыса Доброй Надежды до Кении. Греческие иерархи Александрийского патриархата в ЮАР неоднократно совершали службы в русской церкви. Дважды посещавший ЮАР по случаю закладки, а затем освящения греческого собора в Претории Александрийский патриарх Николай IV также дважды совершал божественную литургию в русской церкви. В свою очередь, на торжества греческой колонии (около 40 000 человек в Йоханнесбурге) приглашался архимандрит Алексей с членами приходского совета. Русский священник совершал также богослужения в Кейптауне, где использовалась англиканская часовня в приюте для мальчиков, и в Претории, где проживало всего 4 русских, – в греческой церкви, англиканском, или католическом, храмах.
Поездки в отпуск в США архимандрит Алексий использовал для посещения других мест в Африке. Он специально делал остановки по пути следования. Таким образом, русский священник навещал свою паству в Родезии, Бельгийском Конго ив г. Найроби (Кения).
Возвратившись из Америки после совершения паломничества в Иерусалиме и Каире, батюшка имел остановку в Аддис-Абебе, где служил в русской церкви, устроенной на участке земли, подаренном женой абиссинского императора. Постоянного русского священника тогда в столице Эфиопии не имелось, поэтому для нескольких семей наших соотечественников богослужение, совершенное архимандритом, было истинным утешением. Далее архимандрит Алексий посетил г. Виндхук, столицу протектората Юго-Западной Африки.
В связи с сокращением русской общины, ухудшением здоровья и преклонным возрастом архимандрит Алексий в 1975 г. вернулся в США, где жили его дети. Последним местом служения до 1980 г. был приход св. Иоанна Кронштадского в Лос-Анджелесе. Далее он проживал в Сан-Диего, где оформил книгу своих мемуаров.

Архимандрит Алексий (Черпай Александр Николаевич)
* * *
Наверное, самый известный «русский южноафриканец» – это художник Владимир Григорьевич Третчиков. По мнению влиятельного южноафриканского журнала Leadership, Третчиков – самый знаменитый художник ЮАР. Он родился в 1913 году, после революции с родителями эмигрировал в Китай, а в 1946 году оказался в Кейптауне. В 1952 году передвижную выставку Третчикова в Кейптауне, Йоханнесбурге и Дурбане посетили более 100 тысяч человек. С тех пор выставки Владимира Третчикова в Южной Африке побивали все рекорды по сборам и посещаемости. Репродукции произведений Третчикова можно было приобрести во всех книжных и художественных магазинах Кейптауна. Его картины стали хорошо известны в США, Канаде, Англии. Впоследствии художник занялся изготовлением репродукций своих полотен, и этот бизнес принес ему немалый капитал. К 2001 г. Третчиков провел в разных странах (кроме России) 52 персональные выставки. Сейчас художник живет в фешенебельном пригороде Кейптауна Бишопс-Корт. Он до сих пор говорит по-английски с сильным русским акцентом, а по-русски говорит, постоянно сбиваясь на английский.
Другим популярным в ЮАР художником, одним из корифеев южноафриканской карикатуристики был Виктор Архипович Иванов (1909–1990). Сын донского казака, он обучался в кадетском корпусе в Югославии, выступал в хоре донских казаков Сергея Жарова. В 1936 г. во время гастролей хора в ЮАР Иванов решил остаться в этой стране. В 1930–1960-х годах он активно работал в различных южноафриканских изданиях и стал одним из самых известных карикатуристов этой страны. В 1946 г. художник составил и издал альбом своих работ, ранее опубликованных в разных газетах, – «Вторая мировая война в карикатурах». Кроме этого он писал картины, многие из которых были приобретены южноафриканскими музеями и галереями, а также выступал в оперном театре Претории, исполняя басовые партии. В 1960–1970-е годы В. А. Иванов был председателем «Общества русских эмигрантов» в ЮАР и регентом церкви св. Владимира в Йоханнесбурге, в 1968 г. стал одним из создателей «Русского дома», общинного центра выходцев из России в Йоханнесбурге.
В часовне при «Русском доме» Иванов расписал стены, а также написал иконы для домовой церкви св. Владимира в том же городе. Согласно завещанию, урну с прахом художника опустили на дно водохранилища, разлившегося на месте его родной станицы на Дону.
* * *
В судьбе Ксении Бельмас (1890–1981), этой удивительной женщины, создавшей школу пения в Дурбане, много загадочного. Она родилась в России и училась в Киевской консерватории. В годы революции ее родители погибли, и Ксения нелегально перебралась в Европу. Со сменой белья в чемодане, мелочью в одном кармане и рекомендательным письмом в другом юная особа отправилась покорять Париж. И ей это удалось.
За первые три месяца Бельмас дала 16 концертов. Она пела с ведущими оркестрами Франции. На Парижской выставке 1926 года певица дала 17 концертов в Гранд-Пале. После этого ошеломительного успеха ее пригласили в Гранд-опера: просили петь в «Фаусте», но она предпочла «Аиду» – и добилась своего. Это был невероятный взлет карьеры. Мадам Бельмас гастролировала в Германии (там было записано большинство ее пластинок), Польше, Скандинавии, Австралии, снова во Франции… Полгода выступала вместе со знаменитой балериной Анной Павловой. Но долгие международные гастроли не позволили ей получить французский паспорт – для этого певице нужно было несколько лет безвыездно прожить во Франции. Кочевая жизнь Ксении Бельмас закончилась в Южной Африке, где она с невероятным успехом выступила в 1934 году.
Перед Второй мировой войной она поселилась в Дурбане. Здесь она создала школу оперного пения Мадам Бельмас (так ее звали ученики и знакомые). В годы войны Ксения Бельмас активно участвовала в благотворительных концертах, сборы от которых направлялись на поддержку Советского Союза. После открытия «Русского дома» Бельмас стала одним из его членов и исправно платила членские взносы. Согласно завещанию, урна с ее прахом была захоронена на Байковом кладбище в Киеве.
* * *
Другой блестящей русской женщиной, обретшей новую родину под южноафриканским солнцем, была Евгения Петровна Ладыженская. Она родилась в 1893 году в Саратовской губернии в семье предводителя дворянства, воспитывалась в Институте благородных девиц в Петербурге. После революции семья бежала в Батум, где Евгения работала секретарем азербайджанского консула. Потом чередовались Константинополь, Берлин, Ницца. Она познакомилась с казацким офицером, который направлялся в Америку, чтобы приобрести нефтяную скважину в Техасе. Для этого требовались немалые деньги. Ладыженская отдала этому человеку все оставшиеся у нее фамильные драгоценности. Но корабль, на котором плыл офицер, пошел ко дну, а с ним и мечты Ладыженской о богатстве. Тогда она, как многие русские аристократы, открыла бутик, а потом и Дом моды для богатых американских туристов. Быстро преуспела, купила роскошный автомобиль и стала одной из первых женщин-автомобилисток Европы.
В Ницце Ладыженская дружила с такими знаменитостями, как Сомерсет Моэм, Сергей Дягилев, Иван Бунин и Ян Сибелиус. Она была молода, красива и любила приключения. Однажды, во время завтрака в шикарной лондонской гостинице «Савой», Евгения Петровна познакомилась с женой генерал-губернатора Южной Африки сэра Патрика Данкэна, уговорившей ее попытать счастье на краю света.
Оказавшись в Йоханнесбурге, Евгения Петровна снова занялась изготовлением модной одежды. Ее бизнес процветал, она еще больше разбогатела. Не было отбоя от клиентов, желавших заказать модные платья у русской дворянки. В Европе мастериц с такой биографией было много, а в Южной Африке она оказалась единственной. Ладыженская быстро овладела языком африкаанс и завела знакомства в среде тогдашних южноафриканских сановников. Среди ее друзей были премьер-министр Южно-Африканского Союза генерал Ян Смэтс и королева Греции Фредерика, которая в годы Второй мировой войны жила в Южной Африке со своей семьей.
Однако Ладыженская на этом не успокоилась. В 1941 году она закрыла процветающий Дом моды и купила плантацию в Восточном Трансваале. Но тут дела у нее пошли не столь успешно. Чернокожие африканцы, работавшие на ее ферме, решили убить свою хозяйку. Евгения Петровна была вынуждена посреди ночи босиком бежать с собственной плантации. Вскоре она окончательно разорилась. Пришлось вернуться в Йоханнесбург, где она начала преподавать русский язык в университете.
Ладыженская поселилась в «Русском доме», став его хранительницей. Там она принимала учеников, чувствовала себя хозяйкой и вновь была в центре всеобщего внимания и уважения. В конце жизни Евгений Петровна переехала в Кейптаун, где вела курсы русского языка для научных работников при местном университете, давала частные уроки, выполняла технические и юридические переводы.
* * *
Русские иммигранты были и среди крупных южноафриканских бизнесменов. Например, сестры Тумановы, приехавшие в ЮАС в 1951 г. из Италии и преуспевшие в производстве косметики.
Крупным русским бизнесменом в ЮАР в 1960–1970-х годах был Константин Михайлович Лащин, владелец компании по продаже автомобилей.
Нина Александровна Швецова в 1960–1970-е годы возглавляла одну из крупнейших в стране компаний по добыче асбеста.
Выпускник Петроградского института гражданских инженеров Михаил Сергеевич Свиридов был владельцем большой инженерной компании, существующей и по сей день.
Константин Константинович Владыкин в Южной Африке занимал пост директора нескольких важных горнодобывающих предприятий.
Михаил Дмитриевич Бибиков, старейшина русского дворянства в ЮАР, стал в этой стране первым, кто начал профессионально готовить собак-поводырей для слепых. Впоследствии он около двух десятилетий возглавлял PR-службу южноафриканского отделения компании IBM.
Русские эмигранты в ЮАР достигли успеха и в научной сфере.
Елизавета Григорьевна Кандыба-Фокскрофт основала в Университете Южной Африки первую в стране кафедру славистики, которую возглавляла около 20 лет.
Борис Иванович Балинский в 1960–1970-е годы занимал должность заведующего кафедрой зоологии в крупнейшем в стране вузе – Витватерсрандском университете.
Николай Константинович Мосолов, живший в Юго-Западной Африке, в то время фактически провинции ЮАР, был видным археологом и историком.
Доктор Юрий Стефанович фон Зоон, крупный энтомолог, многие годы работал в Трансваальском музее.
Список наших соотечественников, игравших важную роль в разных сферах жизни южноафриканского общества, будь то культура, образование, наука или бизнес, можно продолжить. Но даже приведенных примеров достаточно для иллюстрации того факта, что малочисленность и изолированность русской диаспоры ЮАР в период до конца 1980-х годов не помешала многим ее представителям добиться успеха в новых и непривычных для себя условиях и при этом не лишиться национальной идентичности, не раствориться в принимающем обществе. Эти люди, оставаясь русскими не только по происхождению, но и по своему самосознанию, тщательно оберегали свой язык, свою культуру, активно участвовали в делах русской общины. И, как это ни горько, они понимали, что передать «эстафету» своим детям им не удастся, потому что новое поколение, несмотря на усилия своих родителей, в большинстве случаев не ощущало своей принадлежности к России, к русской культуре.
Новые эмигранты из России стали появляться в ЮАР в 80-х годах. Туда потянулись прежде всего ученые и высококвалифицированные специалисты. Однако среди переселенцев оказалось немало и тех, кто решил заняться бизнесом. Сколько их сейчас в стране, точно неизвестно, статистические подсчеты отсутствуют, тем более что большинство вновь прибывших не получило еще южноафриканского гражданства. По оценкам посольства ЮАР в Москве, сегодня в этой стране проживают и имеют свой бизнес около 270 тысяч россиян. За эмигрантскими визами в консульский отдел посольства обращаются до восьмидесяти человек ежемесячно.
Новейшая иммиграция – очень пестрая. Немало прекрасных специалистов в различных отраслях науки и техники: математики, физики, микробиологи… А также артисты, режиссеры, музыканты, преподаватели балетной школы – люди с хорошей профессиональной подготовкой. Южноафриканские университеты держатся за новых сотрудников. Среди «новых русских», должно быть, есть и криминальные элементы. Как же без них? Хотя в печати упоминаний о русской мафии вроде бы пока не появлялось. Новейшие иммигранты очень активны. Умеют работать и хотят работать. Во всяком случае, большинство из них. Больше всего на виду действия Марка Семеновича Волошина. Статьи о нем можно найти во всех крупных газетах ЮАР – и сенсационные: что он купил четыре виллы в Клифтоне, самом фешенебельном районе Кейптауна, и выстроил на их месте мраморный дворец; и вполне деловые: что он построил завод солнечных батарей и может давать свет в африканские поселки, до сих пор живущие без электричества; что он разработал проект – как поставить самые современные российские двигатели на устаревшие южноафриканские самолеты; что, вслед за традициями российских меценатов, организовал Центр российских исследований и Русскую картинную галерею.
Новейшая иммиграция, как и все предыдущие, расселяется по городам. Но с Россией связана одна из самых известных ферм Южной Африки. Называется она «Старый нектар». Находится возле Стелленбоша, в часе езды от Кейптауна.
«Старый нектар» принадлежал генералу Кеннету фан дер Спаю – одному из первых южноафриканских летчиков. Выйдя в отставку после Второй мировой войны, генерал занялся самым мирным делом – выращиванием роз. И написал книги о том, как выращивать розы в Южной Африке и как выращивать розы в Южном полушарии. Умер он 26 мая 1991 года, не дожив нескольких месяцев до ста лет. Но пора сказать, при чем тут Россия.
Во время Гражданской войны подполковник фан дер Спай командовал летным отрядом в английских войсках, высадившихся в Архангельске. Под Вологдой попал в плен. Потом просидел почти год в Бутырках. Познакомился там и с Феликсом Юсуповым, убившим Распутина, и с министрами царского и Временного правительства. Воспоминания об этом он писал уже в старости, на этой ферме. Оказалось, что благодаря судьбе за тот тюремный год он повидал ряд интересных людей. Да и большевики относились к нему неплохо. Во всяком случае, никакой дискриминации по сравнению с другими арестантами он не испытывал.
– Мне очень хотелось познакомиться с этим человеком, – рассказывал Аполлон Давидсон. – Ия попал на его ферму, но, увы, лишь через несколько месяцев после его смерти. Вдова, Юна фан дер Спай, подарила мне копию дневника, который он вел в России. И букет роз, на который потом заглядывались все встречные.
С апреля 1994-го у одной из ферм, также под Стелленбошем, возникла прямая связь с Россией. Марк Волошин купил винодельческую ферму Хазендал, основанную в 1704 году. Почти полтораста гектаров. В доме, построенном в 1790-м, решено создать музей. С урожая 1996 года, после установки новейшего оборудования, ферма должна, как обещают, давать прекрасное вино. Крепкие напитки в Южной Африке уже давно носят русские имена. Не только «Смирнофф», «Толстой», «Граф Пушкин» (для пущей важности добавили Пушкину титул). Но все эти славные сорта появились не в Южной Африке и не в России. А вино Хазендал – исконно южноафриканское – изредка появляется в России.
…Сохраняют ли иммигранты какие-то связи друг с другом и со своей, как принято теперь говорить, исторической родиной? Формы этих связей менялись. В тридцатых-пятидесятых годах существовало общество «Друзья Советского Союза». Оно имело отделения во многих городах. Пик его активности приходился на годы Отечественной войны, когда СССР и британский доминион Южная Африка были союзниками по антигитлеровской коалиции. Возникло тогда и общество «Медицинская помощь России». В Россию отправлялись медикаменты, одежда, кровь для раненых и больных. Только с 1942 по июнь 1944 г. эти общества собрали у населения Южной Африки 700 тысяч фунтов стерлингов – по тем временам сумма немалая. Выходцы из России играли в этих обществах важную роль. Но с введением политики апартеида с конца сороковых, ассоциировать себя с Россией стало опасно. Конечно, среди русских эмигрантов были люди разных взглядов – от коммунистов до монархистов. Но власти с подозрением смотрели и на самых лояльных.
Поскольку между СССР и Южной Африкой десятилетиями не было не только дипломатических, но и торговых, общественных, культурных отношений, лица с южноафриканскими паспортами в Россию не допускались.
Так что не могли приехать и те, кто мечтал повидать родину отцов. Все это вело к ослаблению связей этих людей с Россией да и к разобщенности между ними. Но какие-то ниточки все же сохранились. Не было русского священника у православных Кейптауна и Йоханнесбурга – собирались на молебны у греческого или у сербского. Центр российских исследований, созданный в Кейптаунском университете в 1994 году, понемногу стал одной из точек притяжения. Когда мы устраивали «Русский вечер», собралось шестьдесят человек. Помогла нам их найти Мари Торрингтон. (Ее бабушка – Мусина-Пушкина, а мать – графиня Кочубей, но, в отличие от многих отпрысков знатных семей, Мари, кажется, и в голову не приходило этим кичиться.)
Впрочем, у русских в ЮАР есть свои законы и сложности. По мнению одного преуспевающего в ЮАР выходца из России, «Южная Африка – страна обывателей и снобов, где презирают тех, кто не уделяет внимания собственной респектабельности». Приехав на прием в машине чуть дешевле, чем в среднем у других гостей, можно быть уверенным, что никто с вами больше не захочет знаться. А если, приглашая к себе в гости, вы произносите название не самого престижного пригорода, где поселились экономии ради, не сомневайтесь: никто к вам не придет, а ваша «экономия» обернется крахом всего дела. Обосновавшись же в престижном районе, надо поддерживать быт своего дома на принятом у соседей уровне.
Согласитесь, возникают параллели с нынешней московской тусовкой предпринимателей. Конечно, русский человек может преуспеть везде, но современная Южная Африка уже перестала быть раем для иммигрантов.
* * *
Завершая страницы этой книги, надо еще раз сказать слова уважения и восхищения предками наших соотечественников, мужественными людьми. Попав в незнакомую среду, они врастали в нее, уважая и чтя обычаи страны, в которой оказались волей судьбы, изучали ее язык и местные наречия. Присутствие свое на древнем континенте они воспринимали как путешествие в прошлое, но при всей своей любви к этой земле тосковали по России, стремились донести на родину знания о своих удивительных открытиях и в то же время сохранить свою культуру.