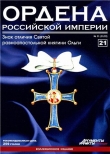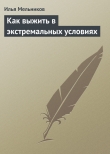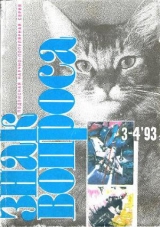
Текст книги "Знак вопроса 1993 № 3-4"
Автор книги: Николай Непомнящий
Соавторы: Юрий Росциус,Сергей Бузиновский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Юрий Владимирович Росциус
РОСЦИУС ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – инженер. Печатается с 1969 года. В отечественной и зарубежной печати опубликовал более 60 работ, посвященных выявлению, анализу достоверности, интерпретации феноменов, пока не нашедших объяснения.

Когда организм идет ва-банк?
К читателюВ новелле Карела Чапека «Голубая хризантема» рассказывается, как садовник одного князя увидел в руках юродивой дурочки-Клары, вечно заливавшейся блаженным смехом, среди пучка полевых цветов махровую хризантему необычного голубого цвета. Доложил князю, а тот приказал немедленно найти куст. Но Клара не смогла объяснить, где растут цветы. Князь привлек к поиску цветка полицейских, деревенских старост, учителей – все безуспешно!
В гневе князь оскорбил садовника, тот резко ответил светлейшему и вынужден был покинуть имение. Из окна железнодорожного вагона садовник с грустью смотрел на знакомый пейзаж, вдруг в палисаднике возле дома путевого обходчика он увидел какие-то голубые цветы. Сорвав стоп-кран и заплатив штраф, садовник добрался до палисадника путевого обходчика, где нашел два куста голубых хризантем.
Однако хозяин отказался продать цветы и потребовал, чтобы гость удалился. Уйти можно было только по путям, и хозяин, чтобы не быть свидетелем нарушения правил, куда-то отошел. Воспользовавшись его отсутствием, садовник выкопал куст. Уходя по рельсам, он неожиданно обнаружил надпись: «Прохода нет»!
Садовник понял, что никому не пришло в голову искать цветы там, где «Прохода нет». Только дурочка-Клара, не умея читать, презрела запрет!
Так появилась хризантема, названная в честь юродивой Клары, не ведавшей грамоты и не подозревавшей, что по путям ходить нельзя.
Действительно, как часто мы обращаем слишком много внимания на директивные надписи, запреты и окрики, исключая из рассмотрения области жизни, полные аромата неведомых тайн!
1. Лейтмотив жизни«Организм противоположен хаосу, разрушению и смерти, как сигнал шуму».
Норберт Винер
Несмотря на несомненное качественное отличие мертвой материи от живой, в реакции как первой, так и второй на внешнее воздействие можно усмотреть существенное сходство. Проявляется оно в форме своеобразного «упрямства» или «упорства». В самом деле, мы знаем, что в случае воздействия на физическое тело какой-то внешней силы реакция этого тела будет равна приложенной силе по величине и противонаправлена ей. Налицо неосознанное «старание» оставаться в прежнем состоянии. Другой закон механики гласит, что тело старается сохранить присущее ему текущее состояние покоя или движения до тех пор, пока некая внешняя сила не выведет его из этого состояния.
Живая материя не только несет в себе этот же консерватизм, но расширяет, развивает возможности, помогающие эффективно отстаивать «личные» интересы. Кроме присущей телам мертвой природы тенденции сохранения исходного состояния движения или покоя, организмы способны довольно успешно поддерживать на одном уровне температуру, давление внутренней среды и ряд других параметров. обеспечивающих нормальную жизнедеятельность организма. Эта способность именуется гомеостазисом (гомеостазом, греч. хомиос – подобный, одинаковый и стазис – статичность, неподвижность, постоянство), термином, нашедшим широкое применение в биологии, физиологии, социологии, кибернетике.
Итак, гомеостат – система, способная на протяжении существования поддерживать в пределах нормы заданные параметры. Однако поддержание даже самого важного для жизни организма параметра, равно как и их совокупности, представляется абсурдным и невозможным, если организм лишился жизни. Следовательно, главной задачей организма является сохранение жизни. И ради этой «сверхзадачи» организм способен на многое. Не следует понимать, однако, сказанное как оправдание любого аморального, противоестественного, противоправного проступка, совершенного ради сохранения собственной жизни. Здесь рассуждение идет лишь о биологическом аспекте, тогда как практически любой организм (тем более человеческий) существует в социуме – среде себе подобных.
Установив основную биологическую задачу организма, рассмотрим возможные пути и средства ее реализации на разных этапах развития живой материи.
Для эффективной защиты организма несомненно очень важна способность отличать материю, его составляющую, от материи, составляющей окружающую среду или другие, даже родственные организмы. Это самовыделение из окружающей среды, нередко именуемое свойством самости, сродни иммунитету и позволяет своевременно выявлять и отторгать чужеродную материю, по тем или иным причинам внедрившуюся в тело организма. Как и почему это происходит – еще не совсем ясно, но постичь тайны функционирования этого механизма необходимо, ибо именно здесь кроется причина отторжения органов, пересаженных для спасения жизни существа.
Мы уже говорили о сущности гомеостаза – поддержании всех существенно важных параметров организма в пределах жизнеобеспечивающей нормы. Общий рисунок происходящего при этом прост и ясен.
За время существования живой материи сформировалось большое количество естественных чувствительных образований, рецепторов, способных сигнализировать об отклонении контролируемого параметра (температуры, давления, химического состава и так далее) от нормы. Рецепторы, стоящие на страже внутренних параметров организма называются интерорецепторами, отвечают на замеченное отклонение от нормы, даже если это отклонение пока не гибельно для организма-носителя. При этом рецептор выдает сигнал неблагополучия, приводящий чаще всего к рефлекторному стремлению организма компенсировать замеченную «неполадку».
Устраняются же подобные «неполадки» в организме по-разному. [1]1
Эта тема мною детально освещена в работе «Протоэскулапы», опубликованной в журнале «Техника – молодежи», 1987, № 3.
[Закрыть]
Для примера возьмем простейший вариант: отсутствие пищи и воды приводит к появлению чувства голода, жажды, исчезающих после того, как организм получит нужное количество недостающего продукта или вещества. Вспомним также о том, что наш организм способен восстанавливать поврежденные ткани, вырабатывать иммунитет к определенным болезням, освобождаться от побочных продуктов жизнедеятельности. Существуют и другие средства индивидуальной внутренней защиты организма.
Борьба с «внешним врагом» также имеет множество рубежей обороны. Можно предположить, что формирование органов, способных защитить организм от гибели, происходило постепенно, они усложнялись по мере того, как усложняется сам организм. Поэтому есть смысл ранжировать органы-«защитники» по сложности, в предположении, что это одновременно и временная шкала зарождения той или иной защитной системы. Конечно, это лишь определение последовательности формирования средств внешней защиты.
Например, покровные ткани организма не только просто механически защищают тело. Они содержат много экстрарецепторов – внешних рецепторов, немедленно сигнализируя организму о приближающейся опасности: температурных, механических и прочих нежелательных воздействиях. Несомненно, возникшая на заре развития жизни способность такого рода настолько вошла с тех пор, как говорят, в плоть и кровь, что ответное реагирование на подобные воздействия производится автоматически, называется безусловным рефлексом и сводится к удалению тела от опасного объекта.
Однако скорость передачи импульсов по нервам ограничена. Она лежит в пределах от 0,5 м/с до 100–200 м/с и зависит от диаметра нервного волокна, возрастая с возрастанием его толщины. А посему, с учетом неизбежных затрат времени на передачу команды от рецептора на исполнительный орган (мышцу, группу мышц), такая контактная защита не избавляет организм от опасностей высокого потенциала, когда вредоносный объект содержит такую разрушительную энергию, что организм буквально «не успеет глазом моргнуть», как будет поврежден или уничтожен. Легко заметить, что древний мир как контактный способ защиты несовершенен, медлителен, не универсален.
Поэтому, наряду с описанными способами защиты, организмы пользуются, видимо, более поздними наработками биосистем. Ведь существуют и рецепторы дистанционного типа, реализованные в зрении, слухе и т. п., использующие некоторые вспомогательные, несомненно материальные, носители информации (звуковые волны в среде, фотоны, магнитные, статические, гравитационные поля и т. п. и т. д.), позволяющие подвергать непрестанному контролю некоторую зону безопасности вокруг организма. При этом особь получает информацию о присутствии в контролируемой зоне некоего потенциального носителя опасности задолго до того, как может возникнуть контакт, и, естественно, заранее начинает защищаться. Надежность дистантной защиты выше, чем контактной, организм получает некоторое дополнительное время для организации и реализации защитных средств. Здесь пространственная дистанция представляет собой буферную зону, на преодоление которой носителю опасности приходится тратить время. При этом выявляется странная связь времени и пространства, словно бы обладающих поразительной способностью взаимозамены, что, вероятно, может быть использовано (а мне кажется, и используется!) организмами для защиты.
Однако мы не рассмотрели еще один любопытный вариант дистантной защиты, существование которого подтверждается многими свидетельствами.
Мне не раз приходилось слышать о поразительной способности людей и животных заблаговременно узнавать о надвигающейся опасности, предваряющейся появлением странной мощной эмоции, настойчиво диктующей особи определенную, как потом оказывается спасительную, линию поведения. Человек, уступивший неодолимой силе внезапно пришедшего к нему наваждения, вскоре с удивлением отмечает, что избежал смерти только потому, что послушался «внутреннего голоса», а иное, на первый взгляд безопасное, поведение неминуемо привело бы к гибели.
Тридцать лет я бился над этим феноменом. И вот, наконец, в феврале 1989 года во втором номере журнала «Наука и религия» была опубликована моя работа «Тень грядущего», позже перепечатанная в болгарском еженедельнике «Параллели», а затем вошедшая отдельной главой в брошюру серии «Знак вопроса», 1989, № 11 «Последняя книга Сивиллы?».
В этих публикациях я предлагал установить, насколько реальна способность предчувствовать и избежать гибели. Для этого, писал я, необходимо статистически обработать данные о загрузке пассажирского сухопутного, воздушного и водного транспорта в дни аварий и в обычные дни, а также больничные листы и заявления об отгулах и отпусках работников горнорудной и химической промышленности, пребывающих в зонах потенциальной опасности. Откликов я не получил. Позже, в брошюре А. Горбовского «Пророки? Прозорливцы?» (серия «Знак вопроса», 1991, № 1) я наткнулся на следующее сообщение:
«Американский математик В. Кокс собрал большой статистический материал о поездах, которые потерпели крушение, и о числе пассажиров в них. Число пассажиров он сопоставил с тем, сколько следовало их в подобных же поездах с разрывом в 7, 14, 21 и 28 дней до крушения. Исследование, которое охватывало несколько лет, выявило, что в поездах, которым предстояло потерпеть аварию, число пассажиров всякий раз оказывалось меньше, чем обычно. Статистическая значимость и устойчивость этой тенденции могла бы быть объяснена случайностью с вероятностью 1:100».
Таким образом, высказанное мною в начале 1989 года предположение через два года столь неожиданно авторитетно было подтверждено.
По моим представлениям, сущность защиты такого рода сводится к тому, что разрушение неживых материальных тел на первых порах выражается в форме деструкции вещества на молекулярном уровне и в постепенном накоплении числа «разрушенных» частиц. Какое-то время процесс идет скрыто, невидимо, но сопровождается перераспределением энергии, что, естественно, отражается на ближайшем от разрушающегося объекта пространстве. Вероятно, именно эти энергетические аномалии вблизи готовых рухнуть объектов улавливаются организмами, формирующими на их основе эмоционально-указательный сигнал спасительного поведения!
Я настаиваю на том, что можно и нужно пытаться создать систему технологического обнаружения подобных аномалий, которая поможет избежать жертв и материального ущерба от разрушения плотин, мостов, противоселевых и противолавинных заграждений, дамб и прочих дорогостоящих сооружений. Кроме того, подобная система позволит получать информацию о приближающихся цунами и землетрясениях. Это нужно сделать. Это можно сделать.
Что же касается рассмотренных выше способов защиты организма от внешних воздействий, то можно заметить следующее.
Контактная защита весьма напоминает способ познания мира и его опасностей ребенком, который тянется к огню и отдергивает руку лишь тогда, когда ощутит боль.
Следующий рассмотренный нами способ, основанный на дистантном выявлении энергетических аномалий вблизи разрушающихся объектов, можно считать более зрелым. Но защита эта, видимо, может быть организована и без участия головного мозга. И только позже, вероятно, возник способ дистантно-пространственной защиты, основанный на деятельности головного мозга, позволяющей отождествлять замеченное в контролируемой зоне с теми или иными опасностями, уже встречавшимися в жизни, с накопленным опытом.
Теперь можно перейти к рассмотрению более сложных видов защиты, в том числе использующих несомненное взаимопроникновение, связь между временем и пространством. Выскажем предположение о возможности существования такого способа защиты, когда организм и опасность разделяются не пространством, а временным интервалом.
Такая защита вовсе не является невероятной. Ведь окружающий нас материальный мир отнюдь не хаотичен. Все возникающие в нем ситуации можно рассматривать как сочетания совокупностей трех основных компонент: жестко детерминированной, предсказуемой однозначно; вероятностной, предсказуемой с любой заданной точностью; случайной, очевидно непредсказуемой, но, как правило, незначительной по величине.
Итак, любая будущая реальная ситуация окружающего нас материального мира может быть сведена к сумме трех названных компонент в различном процентном содержании. При этом следует оговорить, что изначальное существование случайности в подлунном мире привело к тому, что организмы, склонные к наведению порядка, запоминанию, систематизации, недурно научились вырабатывать линию поведения, в значительной мере снижающую вероятность пагубного воздействия случайности на конечный результат любого предстоящего дела.
Почему это оказывается возможным? В реальной жизни это исполнимо, очевидно, потому, что уже реализовавшаяся случайность может быть учтена, скорректирована, нейтрализована, поскольку реальные процессы достаточно протяженны во времени.
Что же касается такой упреждающей временной защиты, то я представляю ее в следующем виде [2]2
Сущность происходящего при этом была изложена мною в ряде работ, опубликованных как в периодической печати, так и в ДСП. В том числе: «Техника – молодежи», 1982, № 1, 4, «Предвидеть, чтобы избежать».
[Закрыть]:
1. Узел отбора информации как из окружающей среды, так и от организма.
2. Узел получения на основе собранной информации и знания причинно-следственных связей вероятностного прогноза на будущее.
3. Узел выработки защитной стратегии.
4. Узлы проведения выработанной стратегии в жизнь.
5. Коммуникации, связывающие узлы в систему.
6. Сам защищаемый организм, содержащий перечисленные узлы «на довольствии».
Мы рассмотрим с вами несколько естественно сформировавшихся за миллионы лет существования живой материи способов индивидуальной защиты организмов. И пусть они не всегда четко представлялись в деталях, в большей же своей части они известны, описаны, признаны.
Однако не вызывает сомнения, что даже чрезвычайно высокая надежность как признанных, так и лишь предполагаемых мною защитных механизмов биосистем не дает стопроцентной гарантии сохранения жизни особи. Причин тому несколько. Так, например, возможны неудачи из-за:
а) ограниченной чувствительности системы зашиты;
б) ограниченной скорости системы защиты;
в) ограниченных компенсаторных возможностей системы и организма;
г) нарушения функционирования системы (болезни и расстройства);
д) непредсказуемости опасности (велика случайная компонента);
е) волевого выключения механизма защиты по разным причинам.
Легко заметить, что механизмы индивидуальной защиты организма работают с некоторым «перекрытием», взаимно подстраховывая друг друга. В случае отказа одной системы другая помогает ей, и общий результат может быть спасителен. Однако сбои все же возможны.
Как же быть тогда организму? Почему бы не представить, что в арсенале биосистем существует и некая аварийная защита (алармзащита). Ведь в смертельно опасной ситуации кроме защищаемого организма участвует и материальная среда, пространство и время. И нельзя не согласиться с тем, что человечество даже сегодня весьма плохо осведомлено о свойствах времени и пространства, их вероятной связи и возможностях.
Я полагаю, что на время, пространство и материю несомненно можно воздействовать и, следовательно, можно представить себе направленное искусственное (волевое) воздействие организма третьего вида: не на сам разрушающий фактор и не на объект разрушения, а на окружающую среду, ее параметры.
Да, это только предположение, но ведь мы так мало знаем о времени, о пространстве, о воздействии на них. Кстати, и о человеке мы знаем пока… маловато.
Почему бы, например, не предположить, что в ходе эволюции организмы не наткнулись на возможность прямого воздействия мозга на окружающую среду, материальные объекты, воздействия без посредников?
Можно ли найти какую-то реальную рациональную основу в изложенных выше рассуждениях? Где, собственно, искать подтверждающие высказанную полубредовую идею факты? В наших архивах?
2. Информационная руда…«Каждое слово есть представитель понятия, бывшего в народе; что было выражено словом, то и было в жизни, чего не было в жизни, для того и не было слова».
И. И. Срезневский
Высказывание Владимира Маяковского о сотнях тонн словесной руды не является преувеличением роли и значения слова. Мудрость народа, вся его многотысячелетняя история, масса не ускользнувших от глаз бесчисленных поколений фактов, явлений, феноменов укладывается в узкие рамки слов, идеом, летучих фраз, пословиц и поговорок, косвенно свидетельствующих о частотной распространенности явлений, нашедших свое отражение в устной, а затем и в письменной речи. Ничто не проходит бесследно.
Язык, таким образом, несет в себе статистически обработанную информацию обо всем, с чем приходилось встречаться человечеству в жизни.
Ушедшие в небытие поколения людей заготовили впрок концентрат информационного сырья, словесной руды, который мы, к сожалению, все еще игнорируем, не используем в полной мере, и расплачиваемся за свое невнимание потерями времени, запозданиями в постижении мира и в развитии научных представлений. А ведь это ужасно, ибо время является наиболее невосполнимым фактором.
Поясним эту мысль примером. Трудно сказать, как давно появились в языке словосочетания, отражающие подмеченную людьми вариабельность скорости течения времени. Мы часто пользуемся выражениями типа: «Время течет…», «Время тянется…», «Время остановилось…», «Время пустилось вскачь…», «Время бежит…», указывающими, что люди подметили некую странность течения времени. Причем в ряде высказываний указывается на существование связи отмечаемых наблюдателями вариаций скорости течения времени с настроением человека, его эмоциональным состоянием. Например: «Счастливые часов не наблюдают», «Время ожидания тянется», а люди, пережившие опасность, нередко свидетельствуют, что в момент наступления опасности время для них словно бы остановилось.
Что это? Болтовня, фантазии? Что же происходит на самом деле? Независимое и властное время, в объятиях которого покорно пребывает окружающий нас материальный мир и мы сами, текущее невозмутимо степенно и размеренно, неужто действительно, подобно непоседливому мальчишке, то скачет на одной ножке, а то вдруг завороженно останавливается, словно зачарованное либо испуганное чем-то вокруг происходящим? Что говорит об этом наука?
Действительно, что же говорит об этом наука?
Не знаю, удивит ли вас то обстоятельство, что наука с этим…согласна. Что подобные шалости времени ей известны, что они действительно однозначно, напрямую связаны с эмоциональным состоянием человека, совпадая с ним не только по знаку, но и по амплитуде эмоции, если так можно выразиться. Кстати, сильнее страха смерти, видимо, нет эмоциональной стрессовой нагрузки. И тогда, именно в экстремальных ситуациях смертельного риска и должны наблюдаться наиболее парадоксальные проявления такого рода. Но, к сожалению, ученые занялись этой проблемой позже, чем народ установил реальность подобных явлений.
Ныне о подобного рода странностях в специальной литературе можно прочесть следующее:
«Точными экспериментальными исследованиями ныне установлено, что человек, испытывающий положительные эмоции, недооценивает временные интервалы, т. е. субъективное течение времени у него убыстряется; при отрицательных же эмоциональных переживаниях временные промежутки переоцениваются, т. е. наблюдается субъективное замедление времени!»
Итак, ученые полагают, что наблюдаемые вариации протяженности временных интервалов имеют субъективный характер, являются ошибками восприятия. Каковы же они, эти ошибки? Быть может, наблюдаемые эффекты безобидны, способны вызвать улыбку, рассмешить? Но, к сожалению, последствия бывают весьма серьезны. Порой указанная недооценка временного интервала влечет за собой гибель людей. Так, например:
«Во время полета по маршруту загорелся самолет. В машине находились, кроме пилота, еще два человека. Исход создавшейся ситуации: летчик катапультировался, остальные члены экипажа погибли, хотя в их распоряжении также были катапультные установки. При расследовании катастрофы выяснилось, что пилот (командир корабля) перед катапультированием подал сигнал оставить самолет, однако, по его заявлению, не получил ответа, хотя ждал несколько минут. Фактически же промежуток времени между моментом отдачи команды и моментом катапультирования составлял всего несколько секунд. Остальные члены экипажа за этот промежуток времени не смогли подготовиться к катапультированию, так как для осуществления его требовалось провести несколько рабочих операций. Переоценка длительности временного интервала здесь совершенно очевидна. Доля секунды субъективно были восприняты как минуты, что и явилось причиной гибели двух человек экипажа» [3]3
Леонов А. А., Лебедев В. И. Психологическая особенность деятельности космонавтов.
[Закрыть].
Однако не все так просто. Ведь отмечаются не только вариации временных интервалов, интерпретируемые исследователями как субъективные. Порой заявления лиц, переживших подобные ситуации, содержат интересные штрихи, например, в них упоминается о способности выполнять рабочие операции в громадных количествах в парадоксально малое время. Приведем такой случай. «При испытании самолета „Лавочкин-5“ мотор пошел в „разнос“. В довершение всего откуда-то из-под капота выбило длинный язык пламени, хищно облизнувший фонарь кабины. Снизу, из-под ножных педалей, в кабину пополз едкий синий дым.
Час от часу не легче – пожар в воздухе! Одно из худших происшествий, которые могут произойти на крохотном островке из дерева и металла, болтающемся где-то между небом и землей и несущем в своих баках сотни литров бензина.
Очередной авиационный „цирк“ развернулся во всей своей красе!
…Как всегда в острых ситуациях, дрогнул, сдвинулся с места и пошел по какому-то странному „двойному“ счету масштаб времени. Каждая секунда обрела способность неограниченно – сколько потребуется – расширяться: так много успевает сделать человек в подобных положениях. Кажется, ход времени почти остановился!»
Сказанное – не литературный прием. Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель Марк Галлай – автор книги «Испытание в небе», фрагмент которой был приведен, не грешит «красными словами» – он документально точен!
Многие пилоты свидетельствуют, что в сходных ситуациях они успевали в минимальные сроки проделать гигантский объем работ, в обычном масштабе времени просто невыполнимый! Но не только о возможности исполнения большого объема двигательных операций свидетельствуют люди, пережившие смертельную опасность.
Я располагаю письмом, которое приведу почти полностью, без исправления стиля, орфографии и пунктуации с целью сохранения колорита и информативности.
«Здравствуйте!.. Заранее простите меня, я не очень грамотный. В 1977 году со мной случилось нечто непонятное. Я работал заведующим мастерской, нужно было снять с комбайна мотор, подвалили к комбайну снег, а по ходу движения мотора, с правой стороны, положили швеллер, а с левой стороны положили доску пятидесятку. Не успел я отойти из-под доски, как ребята пустили мотор, доска хряснула и я увидел мотор, падающий на меня боком (вес двигателя ремонтируемого комбайна „Колос“ порядка 900 кг. – Ю. Р.).
Во мне рост 180 см, поднятыми над головой руками (на всю длину рук) я укладывал вышеназванные детали, двигатель, когда я его увидел, был примерно сантиметрах в 50.
И потом все остановилось. Я оказался внизу, а двигатель потихоньку падает, а я от него сторонюсь, вот проплывает (!!! – Ю. Р.) крышка клапанов, выхлопной коллектор проходит впритирку от моей правой ноги, потихоньку входит в снег, из-под него поднимается снежная пыль. Швеллер, который лежал на правой стороне, перелетел на левую и сбил у меня с головы шапку, никакой боли не причинив.
После я при ребятах складывался, не получается (следственный эксперимент. – Ю. Р.) уж очень мои габариты не вписываются между двигателем и швеллером. Я только следил, как потихоньку падает двигатель, а я сторонюсь от него (!! – Ю. Р.). Инвалид Отечественной войны, рождения 1917 года, Гладышев Дмитрий Алексеевич. Тамбовская область. Старое Сабурово».
Если полагать, что наблюдаемый эффект вариации временных интервалов носит субъективный характер, то удивления достойны приведенные заявления лиц, в которых благоприятный исход ситуации, по оценке рассказчиков, определялся именно благотворным масштабом времени, позволившим произвести большой объем рабочих операций либо скорректировать положение тела относительно быстро перемещающихся в опасной близости масс, несущих смерть.
Как же объяснить множество сходных описаний, свидетельствующих об «удлинении» времени в экстремальных ситуациях?
Полагать, что стимулируемые страхом заявители проявили чудеса расторопности, многократно (против обычного!) увеличив скорость проводимых работ или положение тела, видимо, нельзя. Это не согласуется ни с опытом человечества, ни с результатами скрупулезных исследований ученых по выявлению скрытых возможностей организмов для их использования в «большом» спорте. Можно допустить прирост скорости движения максимум на 5–7% за счет гормональной стимуляции организма в режиме стресса. Однако этого явно недостаточно, поскольку в ряде случаев наблюдалось нечто совсем невероятное.
Так, участник Великой Отечественной войны, офицер Федор Николаевич Филатов из города Балашова (Саратовской области) пережил на фронте удивительные мгновения. И снова – ощущение пережито в критической ситуации смертельной опасности.
В бою снаряд упал рядом, и время словно замедлило свой неутомимый бег. «Я четко видел (и никогда не забуду!), – пишет Ф. Н. Филатов, – как таял снег вокруг раскаленной болванки, как по стальной поверхности зазмеились огненные трещины, как медленно начали отделяться и плавно подниматься осколки. Все это происходило бесшумно (!? – Ю. Р.), словно в немом кино… И тут все обрело привычный ритм. Яростно взметнулся столб взрыва, рявкнуло, будто доской ударило по ушам, и я потерял сознание» («Техника – молодежи», 1980, № 3, с.57).
Свидетельство поистине уникально, ибо визуально зафиксированы процессы, обычно не поддающиеся зрительному восприятию из-за кратковременности и чрезвычайно большой скорости перемещения тел, ведь разлет осколков оболочек происходит со скоростью в несколько сотен метров в секунду.
Однако факты существуют вне нашей воли и сознания. Они не нуждаются в наших разрешительных санкциях. Не несут они и ответственности за наше недомыслие, незнание, глупость. Не нам решать, что возможно, а что – нет! Мы обязаны лишь, как послушные ученики, запомнить это и подобные свидетельства и искать ответ. Иного пути нет!
Парадоксальная бесшумность наблюдаемых в состоянии стресса ситуаций (либо невосприятие шумов в этом состоянии?) отмечается и другими свидетелями. Так, в словесном комментарии к документальному кинофильму «Штрафники» Герой Советского Союза, вице-президент Академии наук республики Азербайджан Зия Мусаевич Буниятов, в годы Великой Отечественной войны командовавший подразделениями штрафников, свидетельствует, что во время рукопашного боя… схватка происходит в полной тишине. В ответ на мою просьбу письменно подтвердить сообщение, Зия Мусаевич пишет:
«Рукопашный бой – явление настолько экстраординарное, что об этом стоит писать специальное исследование. Знаете, писать об этом не очень-то просто. Я сам был в таком бою два раза. Первый раз я ни черта не разобрал, все было как в замедленной киносъемке. И тогда я решил, что если снова окажусь в таком бою, то буду специально, так сказать, обозревать происходящее, хотя и могут запросто шпокнуть…
Итак, наступление, атака. Не верьте никому, кто будет говорить, что он ходил в атаку запросто…
С какого-то времени я стал следить за поведением солдат перед наступлением или атакой, и я уже мог определить по глазам даже, жилец он или нет.
Когда подается сигнал на атаку, состояние в момент выброса из окопа… точно такое, каким оно бывает, когда самолет заваливается в воздушную яму, т. е. кишки подпирают к горлу и где-то в районе селезенки становится жутко холодно. Ведь стреляют же!
Но как только вылез, заорав что-то вроде „За мной!“, вокруг все становится тихо, т. е. для меня тихо. Я все вижу и многих вижу, вижу, как рвутся снаряды и мины, как падают люди, но кругом… тишина!..
Знаете, во время атаки становишься увертливее, проворнее, ловчее и силы прибавляются. Через забор можешь перемахнуть, довольно высокий, без особого труда, через ров, канаву.
Наверное, этот инстинкт самосохранения от природы».
Отсутствие шумов и другие парадоксальные сопутствующие эффекты отмечает и В. М. Медведев из Севастополя. Он пишет в письме: «В 1973 году я работал на заводе вместе со своим братом. Работали мы на большом сверлильном станке (марку не помню), сверлили в стальных плитах 300 x 300 x 20 см отверстия D32. Станок работал со скоростью 260 об/мин. Я стоял справа от станка у штурвала, а брат подставлял плиты. Он находился прямо перед станком слева от меня и работал в рукавицах, хотя я и предупредил его, что это опасно. И вот в какой-то момент, когда брат подставлял очередную плиту, я вдруг увидел, как он слегка коснулся сверла тыльной стороной правой руки. Сверло каким-то непостижимым образом как бы приклеилось к рукавице и медленно-медленно стало наматывать рукавицу. Брат попытался правым плечом надавить кнопку „грибок“, но промахнулся. Сверло продолжало медленно вращаться и выворачивать ему руку. Тогда он попытался надавить на грибок левой рукой, но уже не дотянулся, поскольку его начало затаскивать под станок. И я стою и все это спокойно наблюдаю. Я еще подумал: „надо было сразу левой рукой, а не плечом“. Потом медленно поднял руку и надавил на кнопку. Сразу ворвался шум и грохот цеха, а ушел он как-то незаметно (выделено подчеркиванием автором письма. – Ю. Р.), а рука у него потом распухла и сильно болела. Я еще тогда подумал, что, для того чтобы оторвать руку на таком диаметре сверла, достаточно 1, ну максимум 2 оборота, а ведь, когда я нажал на кнопку, сверло провернулось примерно на 1/2, я это хорошо видел. Если посчитать, то это заняло примерно 1/8 – 1/9 секунды, а субъективно длилось секунд 25–30».