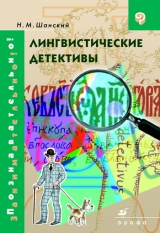
Текст книги "Лингвистические детективы"
Автор книги: Николай Шанский
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Слова и словесные сообщества – в замедленном чтении
Что было у Плюшкина

Вряд ли найдется среди вас хоть один, кто бы не помнил посещение Чичиковым Плюшкина. Это место в «Мертвых душах» удивительно выразительно и живописно. Оно написано так, что сразу же соглашаешься с Н. В.Гоголем: «Нет слова, которое было бы так замашисто и бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово». Однако далеко не все слова в этой шестой главе первого тома принадлежат сейчас к русскому лексическому ядру, хорошо нам знакомому и известному. Многие из них давно переместились на словарную периферию и носителями современного русского языка поэтому забыты. По большей части это либо слова, имеющие сейчас иные значения (в языкознании они называются лексико-семантическими архаизмами), либо устаревшие слова, отражающие ушедший в прошлое быт. Все они, как и иные архаические факты языка, серьезно мешают нам понимать замашистое и меткое гоголевское слово, а с ним и то, чем доверительно делится писатель. Взять хотя бы отрывок, живописно повествующий, что на самом деле было у выглядевшего словно нищий Степана Плюшкина. Ведь это был очень богатый помещик. Но обратимся к тексту.

Чичиков и Плюшкин. Иллюстрация художника А. Лаптева к поэме П. В. Гоголя «Мертвые души». 1953 г.
У этого помещика была тысяча с лишком душ, и попробовал бы кто найти у кого другого столько хлеба зерном, мукою и просто в кладях, у кого бы кладовые, амбары и сушилы загромождены были таким множеством холстов, сукон, овчин выделанных и сыромятных, высушенными рыбами и всякой овощью, или губиной. Заглянул бы кто-нибудь к нему на рабочий двор, где наготовлено было на запас всякого дерева и посуды, никогда не потреблявшейся, – ему бы показалось, уж не попал ли он как-нибудь в Москву на щепной двор, куда ежедневно отправляются расторопные тещи и свекрухи, с кухарками позади, делать свои хозяйственные запасы, и где горами белеет всякое дерево – шитое, точеное, лаженое и плетеное: бочки, пересеки, ушаты, лагуныʼ, жбаны с рыльцами и без рылец, побратимы, лукошки, мыкольники, куда бабы кладут свои мочки и прочий дрязг, коробья из тонкой гнутой осины, бураки из плетеной берестки и много всего, что идет на потребу богатой и бедной Руси. На что бы, казалось, нужна была Плюшкину такая гибель подобных изделий? во всю жизнь не пришлось бы их употребить даже на два таких имения, какие были у него, – но ему и этого казалось мало.
Мы хорошо видим, что у Плюшкина всего было много: и крепостных, и имущества, и продуктов («во всю жизнь не пришлось бы их употребить даже на два таких имения, какие были у него»), но вот, что именно у него имелось, мы представляем себе весьма смутно, и картина его богатства, нарисованная Гоголем, подернута довольно густым «языковым туманом».
Загадочно выглядят даже такие слова, как овощь, кладь, шитое, точеное, побратимы, мочки, бураки, гибель, не говоря уже о существительных сушилы, губина, пересеки, лагуны, мыкольники, коробья, дрязг и фразеологическом обороте щепной двор.
Но обратимся к перечисленным словам. Первая группа слов относится к лексико-семантическим архаизмам. Они присутствуют и в нашей речи, но называют сейчас не совсем то или совсем не то, что именовал ими Гоголь.
Правда, подлинно коварным здесь является лишь слово… овощь.
Все остальные выступают в таких «словесных компаниях», что (пусть не зная, что они означают) мы сразу же понимаем их омонимичность одинаково звучащим словам нашего словаря. В силу этого при медленном чтении их инородность осознается нами так же, как и инородность слов второй группы (сушилы и т. д.).
В чем же языковое «коварство» слова овощь? Это не его морфологическая странность для нас как существительного женского рода (сейчас оно принадлежит к словам мужского рода и в единственном числе почти не употребляется).
Коварно это слово своим более широким, чем в настоящее время, значением. Оно называет (если, конечно, запятая в отрывке «…и всякой овощью, или губиной» поставлена писателем!) не только огородные плоды и зелень, но и лесные грибы и ягоды. В таком амплуа выступает тогда и диалектное слово губина (указанное значение зарегистрировано соответствующими словарями).
Каким большим лингвистическим весом тут обладает, как видим, маленькая запятая!
Стоит только ее убрать, и все меняется. Союз или из пояснительного союза становится разделительным, слово губина из уточнения превращается в однородный существительному овощь член предложения, и соответственно слово овощь уже, равно как и существительное губина, будет выступать перед нами с другим значением. Названная пара перестанет быть синонимической, и составлявшие ее слова по языковым нормам будут уже использоваться как лексические единицы, обозначающие «близкие», но разные предметы одного тематического класса: слово овощь – «огородные плоды и зелень» (как и сейчас в литературной речи), а слово губина – «грибы» (как и сейчас в некоторых русских диалектах). Ведь объединять синонимы разделительным союзом или – явная и грубая смысловая и стилистическая ошибка.
Но последуем далее за перечисленными словами. Вот здесь их истинное смысловое «лицо». Оказывается, что кладь – не «поклажа, груз», а «скирд»; шитое – не шитое (платье, костюм), а «деревянные изделия из сбитых (!) частей»; точеное – не точеное (лезвие, лицо и т. д.), а «деревянные изделия, выделанные на токарном станке»; побратимы – не названные братья или близкие (как братья!) друзья, а «большие деревянные сосуды вроде чугунка», что слово мочки никакого отношения к ушам не имеет и обозначает «нитки или пряжа», слово бураки – вовсе не название свеклы (ведь у Гоголя они «из плетеной берестки»), а «корзиночки, туески», существительное гибель – уже и не существительное, а неопределенно-количественное слово со значением «много» (ср. жуть комаров, бездна вещей, тьма народу, пропасть воды и т. д.).
Как видим, много различий в значении, казалось бы, самых привычных для нас слов гоголевского художественного текста.
Нисколько не меньше мешают понимать нам сказанное Гоголем и такие устаревшие слова, которых в современной лексической системе русского литературного языка нет вовсе. Неясность этих слов видна сразу, но от того не легче: все равно надо лезть в толковые словари (или в 17-томный академический «Словарь современного русского литературного языка», или в «Толковый словарь…» В. И. Даля), чтобы узнать, «что это за «лингвистические новости». Словари дают нам на наш вопрос ответ совершенно определенный. Слово сушилы (в старой форме именительный падеж множественного числа с окончанием – ы вместо – а, ср. у Пушкина: домы, селы, ветрилы) является не чем иным, как обозначением всем знакомых и привычных сеновала, чердака.
Прилагательное сыромятные (овчины) указывает, что овчины – из недубленой кожи. Слово пересеки значит «кадка из распиленной напополам бочки». Слово лагуны называет стоячие кадки с раздвижной крышкой. Существительное мыкольники – это название небольших открытых коробочек. Жбаны (с рыльцами и без рылец) – это «кувшины с ножками и без них», берестка – «берестяная кора», а коробья – «сундуки», щепной двор – «место, где продаются изделия, изготовленные из древесины» (ср. монетный двор, печатный двор, гостиный двор, постоялый двор и т. д.).
Что же касается слова дрязг (оно сразу же, конечно, и не случайно напоминает слово дрязги – «мелкие ссоры»), то оно в этом отрывке имеет значение «мелочь», а не более частотное – «хлам, мусор».
Наше путешествие по трудным местам приведенного выше отрывка «Мертвых душ» подошло к концу. Не осталось ли у вас впечатления, что мы все время продирались сквозь словесную чащу?
Загадочный AgN03
У всех вас (это несомненно) прочно сохранился в памяти драматический разговор Базарова с его отцом после возвращения Евгения Васильевича от уездного врача, у которого он анатомировал умершего крестьянина. Вот он:
Дня три спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня?
– Есть; на что тебе?
– Нужно… ранку прижечь.
– Кому?
– Себе.
– Как себе! Зачем же это? Какая это ранка? Где она?
– Вот тут, на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь – откуда тифозного мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся.
– Ну?
– Ну, вот я и попросил уездного врача; ну, и порезался. Василий Иванович вдруг побледнел весь и, ни слова не говоря, бросился в кабинет, откуда тотчас же вернулся с кусочком адского камня в руке.
Сразу же возникает вопрос: что просил Базаров у отца, что тот ему дал?
Впрочем, приведем еще два предложения из их диалога:
– Как ты полагаешь, Евгений, не лучше ли нам прижечь железом?
– Это бы раньше надо сделать; а теперь по-настоящему и адский камень не нужен. Если я заразился, так уж теперь поздно.
Итак, Василий Иванович дал сыну, чтобы им прижечь ранку, адский камень.
Что же это за лекарственный препарат?
Ответить на данный вопрос можно только тогда, когда вы обратитесь к «Большому толковому словарю русского языка» (БТС: СПб., 1998) или к кому-нибудь из благородного цеха медиков. Такое обстоятельство связано с тем, что медицинская терминология, как и всякая другая, относится к словарной периферии литературного языка и хорошо известна только специалистам. Тем более что здесь мы сталкиваемся с архаическим термином, рядом с которым ныне употребляется синоним более частотный. Адский камень – название азотнокислого серебра, т. е. ляписа.
Наверняка вам хочется узнать, почему нитрат серебра (ляпис) называется адским камнем. Скорее всего за свой черный цвет, вызывавший ассоциации с тьмой кромешной. Вообще-то, устойчивое словосочетание адский камень является фразеологической калькой латинского выражения lapis infer-nalis (lapis, – idis – «камень», infernum – «ад», – alis = – ский). Обратили внимание на латинское слово? Да-да! В качестве отдельного слова как заимствование из латинского языка оно в образе ляпис чаще всего сейчас и называет азотнокислое серебро. А в качестве составной части все еще «светится» в прилагательном лапидарный – буквально «высеченный на камне» (а значит, и краткий!).
Как видим, прилагательное адский в обороте адский камень – совсем иное, нежели в сочетаниях адская (= «очень тяжелая») работа, адская (= «очень сильная») жара, адская (= «ужасная») дорога, адский (= «коварный») замысел и т. д.
Водомет и водомёт
Одно слово водомет нам всем хорошо знакомо, хотя мы его не находим даже на страницах первого тома академического четырехтомного «Словаря русского языка», вышедшего в 1981 г.
Оно постоянно употребляется нами, когда речь идет о тушении пожаров, а также иногда встречается на газетной полосе в сообщениях о демонстрациях трудящихся, студентов в защиту своих прав и свобод, коль скоро в корреспонденции говорится о странах «свободного» мира. В качестве примера приведем заметку 80-х гг. «Из водометов по демонстрации»:
Тогда к демонстрантам подъехали темно-зеленые машины с водометами… Таким образом, водометы, считавшиеся ранее вспомогательными средствами полиции, превратились в поражающее оружие с широким сектором действия. Этот случай заставит многих задуматься над вопросом, чего стоят разглагольствования о правах человека, в том числе о праве на демонстрации в ФРГ, под дулами усовершенствованных мощных водометов западно-германской полиции.
(«Известия», 6 июля 1984 г.)
Существительное водомет обозначает здесь приспособление для разгона демонстрантов струей воды. Это слово появилось как неточная словообразовательная калька немецкого Wasserwerfer (Wasser – «вода», werf(en) – «мет(ать)», – er – суффикс действующего предмета) с оглядкой на уже существовавшие в русском языке названия различных видов автоматического орудия с опорной основой – мет (ср. пулемет, миномет, огнемет и др.). Как свидетельствует «Большой немецко-русский словарь», составленный под руководством О. И. Москальской (М., 1969. Т. 2. С. 576), оно в конце 50-х гг. было уже известно.
Но перейдем к другому водомету. Раскроем сборник стихов А. А. Фета и обратимся к «Фантазии»:
Расписные раковины блещут
В переливах чудной позолоты,
До луны жемчужной пеной мещут
И алмазной пылью водометы.
Здесь нас поджидает совсем иной водомет. Слово водомет в приводимом отрывке выступает в качестве устаревшего названия… фонтана. Правда, значение «фонтан» у нашего существительного четко в пределах процитированного четверостишия не вырисовывается; необходимо, чтобы не ошибиться, взять текст в целом.
Поэт в своей художественной фантазии сознательно прибегает к гиперболе. Фонтаны у него мечут жемчужной пеной и алмазной пылью аж… до луны. И изображаемая картина от этого становится еще более выразительной и зримой.
Вспомните аналогичные строки в «Руслане и Людмиле» А. С.Пушкина:
Летят алмазные фонтаны
С веселым шумом к облакам;
в «Демоне» М. Ю. Лермонтова:
Гарема брызжущий фонтан
Ни разу жаркою порою
Своей жемчужною росою
Не омывал подобный стан!
Слово водомет, вместо нейтрального синонима фонтан, Фет использует как одно из средств создания поэтичности. Оно хорошо согласуется со всем своим языковым окружением, включая старославянскую форму мещут (вместо русской мечут), используемую в поэзии XIX в. как поэтическая вольность, для рифмовки (ср. у Пушкина в поэме «Анджело»: «Анджело бледнеет и трепещет и взоры дикие на Изабелу мещет»).
Заметим, что наше слово отмечается и у Пушкина, но его отношение к существительному водомет другое – ироническое и отрицательное. В письме к брату из Одессы 13 июня 1824 г. Пушкин пишет: «На каком основании начал свои действия дедушка Шишков? Не запретил ли он Бахчисарайский фонтан из уважения к святыне Академического словаря и неблазно составленному слову водомет? Шутки в сторону, ожидаю добра для литературы вообще и посылаю ему лобзание яко Иуда-Арзамасец, но яко Разбойник-Романтик».
На слово водомет он смотрел как на ненужного русского дублера привычного для него итальянизма фонтан, подобного неологизмам известного литературного деятеля адмирала А. С. Шишкова тихогромы – «фортепиано», мокроступы – «галоши» и т. д.
Добавим здесь к слову, что Пушкин в данном случае ошибался: слово водомет, как и, между прочим, слово фонтан, в словарях отмечалось уже в 1780–1782 гг.
Попутно два слова о двух словах из приведенных примеров Фета и Пушкина; без краткого комментария поэтов можно понять неправильно. Так, ошибочно будет восприятие слова чудный у Фета и Пушкина как современного: в его стихотворении оно значит не «очень хороший, замечательный, великолепный», а «достойный удивления, необычайный», т. е. имеет значение, которое как одно из значений свойственно сейчас прилагательному чудесный. Будет просто непонятно соответствующее место письма Пушкина, если мы не будем знать, что ныне исчезнувшее из обихода слово неблазно значит «правильно».
Оба слова на паритетных началах в пределах одного стихотворения мы находим у Ф. И. Тютчева в «Фонтане», где они располагаются в разных строфах и выполняют различные роли (слово фонтан употребляется в прямом, а слово водомет в переносном смысле). Распределение этих синонимов в поэтическом тексте и их различное употребление оказывается не только стилистически оправданным, но удивительно красочным и выразительным:
Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится;
Как пламенеет, как дробится
Его на солнце влажный дым.
Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной —
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осужден.
О смертной мысли водомет,
О водомет неистощимый!
Какой закон непостижимый
Тебя стремит, тебя мятет?
Как жадно к небу рвешься ты!..
Но длань незримо-роковая,
Твой луч упорный преломляя,
Свергает в брызгах с высоты.
В этом стихотворении, кроме отмеченной пары, наше внимание привлекает еще несколько слов. Кратко прокомментируем их. Глаголы ниспасть – «упасть», свергает – «сбрасывает вниз», стремит – «увлекает» и мятет – «беспокоит», деепричастие преломляя – «переламывая», существительное длань – «рука» (исходно – «ладонь»), прилагательное заветная (здесь «обусловленная») использованы поэтом как лексический материал высокого слога для придания сообщаемому оттенка патетичности и взволнованности. Яркая поэтическая фраза
Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной —
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осужден —
в научном отношении, между прочим, безукоризненна, так как выше определенной («заветной», по выражению Тютчева) высоты фонтан подняться не может, каким бы мощным ни был напор воды.
Сопоставляя бьющий фонтан с полетом «смертной мысли», т. е. мысли человека, Тютчев хотел подчеркнуть ограниченность, по его мнению, познавательных возможностей людей, их зависимость от какой-то неведомой, но все решающей силы. Даже стремление к знаниям для него – «закон непостижимый».
В поле нашего зрения слово экран
В нашем современном языковом сознании слово экран тесно привязано к кино– и телеискусству. Это существительное употребляется, как правило (не будем касаться его технического значения – «устройство для отражения, поглощения или преобразования различного вида энергии), для обозначения либо киноискусства (ср. голубой экран – «телевидение»), либо полотна, на котором показываются фильмы или диапозитивы.
Но так было не всегда. Слово экран появилось значительно раньше кино и указанных технических приспособлений. И вот этому яркий пример из романа «Идиот» Ф. М. Достоевского. Читаем:
Она была внове, и уже принято было приглашать ее на изысканные вечера, в пышнейшем костюме, причесанную как на выставку, и сажать как прелестную картину для того, чтобы скрасить вечер точно так же, как иные добывают для своих вечеров у знакомых, на один раз, картину, вазу, статую и экран.
В приведенном контексте слово экран несет ныне уже устаревшее, архаическое значение – «ширма, передвижной щит от жара или света». Именно с таким значением это слово и вошло впервые в русский язык в конце XVIII в. из французского языка, в котором ecran является переработкой нем. Schranke – «решетка, ограда».
С современными значениями слово экран было нами заимствовано из того же французского языка уже в XX в.
О прилагательном пресловутый
В настоящее время это прилагательное имеет несомненную и яркую отрицательную окраску. Оно обозначает сейчас «имеющий сомнительную известность, вызывающий различные толки, нашумевший». Ранее же оно было «положительным словом» и выступало как синоним прилагательных знаменитый, известный. Такую смысловую метаморфозу (не такую уж редкую) необходимо всегда иметь в виду в тех случаях, когда перед нами – художественное произведение прошлого. Пусть поэтому вас не удивляет сочетание пресловутый Дунай у Ф. И. Тютчева в стихотворении «Там, где горы, убегая…»:
Там, где горы, убегая,
В светлой тянутся дали,
Пресловутого Дуная
Льются вечные струи…
В этом сочетании никакого пренебрежения или иронии к знаменитой реке нет. Пресловутого Дуная значит «знаменитого Дуная».
Изменение положительных слов в отрицательные иллюстрирует также и родственное нашему слову по корню ославить – «опозорить, распространить о ком-либо дурную славу» (от слава). Вспомните также глагол честить (сейчас «ругать»), имевший значение «прославлять, воздавать почести, оказывать кому-либо уважение». Возникновение у слов прямо противоположного значения – одна из закономерностей изменения значений слов и фразеологизмов (ср. скатертью дорога – исходно пожелание хорошего пути, т. е. гладкого, как скатерть < дъскатерть – «стол с гладкой (вытертой) крышкой»).
О слове риза у Пушкина и особенно у Лермонтова
Сейчас ризу можно увидеть лишь в церкви или музеях. Ведь для нас риза – это только «верхняя одежда священника, надеваемая им для богослужения». Поэтому о слове риза не стоило бы и говорить, если бы не некоторые обстоятельства его бытования в поэтическом языке XIX в. Интересны особенности его употребления в стихах Пушкина и Лермонтова, которые используют это существительное хотя и в близких, но все же разных значениях, ныне, однако, прочно и всеми забытых. Воскрешать их в нашей памяти совершенно необходимо, коль скоро нам хочется действительно понять, как говорил В. Брюсов, «потаенный смысл слов» в сложной и многоцветной стихотворной речи.
Со словом риза у Пушкина мы встречаемся в стихотворении «Арион», написанном 16 июля 1827 г. (несомненно, в связи с годовщиной казни руководителей декабристов 13 июля 1 826 г.). Себя поэт иносказательно изобразил в нем в облике героя древнегреческого мифа Ариона, спасенного от гибели дельфином, очарованным его чудесным пением. В заключительной части стихотворения Пушкин подтверждает свою верность свободолюбивым идеалам:
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.
Смысловую нагрузку (причем идеологической значимости) в этом четверостишии несут лишь первые две строчки. Остальные две строчки, образующие присоединительную конструкцию с и, воспринимаются как чисто версификационный «довесок», с информативной точки зрения избыточный и необходимый лишь для соблюдения строфического порядка. Именно здесь и появляется перед нами слово риза. Оно явно не современной семантики. Чтобы сделать этот вывод, достаточно вспомнить, что у Ариона, мифического певца языческой Древней Греции, одежды христианского священника (да к тому же для совершения богослужения) просто не могло быть: это было бы явным анахронизмом. Каково же значение существительного риза в этом контексте? Такое же, какое оно когда-то имело, – «одежда». Пушкин употребил здесь это слово в том архаическом значении, которым оно в начале XIX в. еще обладало (ср. народную загадку о кочанной капусте: Антипка низок, на нем сто ризок) и которое ему было свойственно, вероятно, с самого своего рождения (ср. др. – рус. ризы кожаны, сънискахъ тъкмо ризоу строуньноу, в ризу ко-рабленическую облекся и т. д.; серб. – хорв. риза «одежда»; болг. риза «рубаха» и т. д.). Заметим, что по своему происхождению слово риза скорее всего является производным от той же основы, что и резать, подобно тому как существительное рубъ (откуда – рубаха, рубище) – от рубить. Таким образом, риза влажная у Пушкина значит «мокрая одежда».
Не ризой оказывается риза и у Лермонтова в стихотворении «На севере диком стоит одиноко…», очень вольном, но от этого не менее чудесном переводе гейневской миниатюры «Ein Fichtenbaum steht einsam»:
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она…
Неточно понимают слово риза в этом контексте не только многие рядовые читатели, но и Л. В. Щерба. По поводу двух строк разбираемого стихотворения он пишет: снег сыпучий «…лежит мягко и может лишь содействовать впечатлению волшебной сказки, вводимому словами И дремлет, качаясь и усугубленному сверкающей, очевидно, на солнце, ризой (выделено нами. – Н. Ш.), в которую превратилось Decke. Лермонтова не смущает ни ветер, который предполагается его же вставкой качаясь и от которого снег должен был бы облететь, ни сосна, на которой сыпучий снег никак не держится, – ему нужен красивый поэтический образ, уничтожающий трагедию немецкого оригинала…» (см.: Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. С. 100–101). Оставим в стороне красивые, но, мягко выражаясь, малодоказательные и ничего не говорящие слова Л. В. Щербы о том, что сыпучий снег «может содействовать впечатлению волшебной сказки», что это впечатление «усугубляется ризой», что поэту требуется лишь образ, который бы уничтожил трагедию немецкого оригинала. Зададим, не смущаясь, лишь один вопрос: где Л. В. Щерба в стихотворении увидел солнце (а отсюда – и сверкающую ризу) и услышал ветер, «от которого снег должен был бы облетать»? У Лермонтова их нет, они домыслены ученым. О том, почему следует предполагать «мороз и солнце», ничего не сообщается.
О наличии ветра в открывающейся нашему взору картине, по мнению Л. В. Щербы, говорит «вставка слова качаясь», а также «место действия» (на голой вершине «предположить ветер более чем естественно»). Однако поэт описывал совсем другую картину.

Иллюстрация художника И. И. Шишкина к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Сосна». 1891 г.
Это станет ясным, как только мы перестанем фантазировать, приписывая словам риза и сыпучий те значения, которых они в стихотворении не имеют.
При легком ветерке (он не раскачивает сосну, а лишь покачивает ее) идет (сыплется) сильный (сыпучий) снег, отчего сосна стоит вся в снегу, покрытая им, «как ризой», т. е. как покрывалом.
Последнее значение («покрывало, саван») у существительного риза отмечается в самых ранних древнерусских памятниках. Ср. в «Остромировом евангелии»: Обиста е (тело) ризами съ ароматы, где слово риза передает др. – греч. othonion «полотно, покрывало».
Таким образом, нашему взору (вспомните известную картину И. И. Шишкина) представляется совершенно реальная картина (одинокая, вся в снегу), а не «красивый поэтический образ, уничтожающий трагедию немецкого оригинала», как полагает Л. В. Щерба. Трагедию влюбленных (в немецком оригинале) уничтожают (в переводе Лермонтова) не строки И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим Одета, как ризой, она, передающие гейневские слова Ihn schläfert, mit weisser Decke Umhüllen ihn Eis und Schnee, а замена нем. Fichtenbaum «сосна» мужского рода женским родом рус. сосна, о чем верно, кстати, пишет выше – вслед за А. А. Потебней и К. Б. Бархиным – и сам Л. В. Щерба в указанной работе. Впрочем, если говорить о сути, вряд ли одиночество, изображенное русским поэтом, менее трагично, нежели судьба влюбленных (которым суждено «жить розно и в разлуке умереть») у Гейне.
Очень субъективно также утверждение Л. В. Щербы, что лермонтовский текст написан «в эпическом, сказочном тоне и, по-видимому, совершенно сознательно создает благодушное настроение» и выступает как намеренная «замена трагического тона оригинала красивой романтикой».
А сейчас вернемся к ризе. Отмеченное выше значение «покрывало, покров» у существительного риза встречается у поэтов – предшественников М. Ю. Лермонтова – нередко даже в пределах фразеологических оборотов перифрастического характера: Уже простерлася над понтом риза ночи (Херасков); Подземной бури завыванье Под страшной ризой темноты (Полежаев) и т. д. С такой же семантикой находим мы слово риза и у поэтов более поздних периодов, коль скоро в их индивидуально-авторском слоге нашли отражение элементы стихотворной речи первой половины XIX в.








