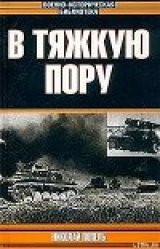
Текст книги "В тяжкую пору"
Автор книги: Николай Попель
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Нельзя останавливаться, нельзя терять внезапность. Пушки бьют неприцельно, на шум моторов.
Сытник еще не подошел. Но все равно не останавливаться. В наушниках слышу привычное васильевское: «жать, жать…», «темпы, темпы!».
С двумя машинами я отрываюсь от колонны. Прежде чем развиднелось, надо заткнуть глотки фашистской артиллерии. Иначе Сытнику и Петрову несдобровать.
Идем на вспышки. Скорость максимальная. Коровкин хочет обойтись без снарядов. Уповает на гусеницы и пулеметы.
Пулеметы начинают работать с короткой дистанции. Вряд ли возможно точное попадание. Но пушки замолчали. Вероятно, прислуга разбежалась от неожиданности, попряталась в ровиках. Вдавливаем стволы и колеса орудий в землю.
На помощь разгромленной нами вражеской батарее приходит соседняя.
Танк вздрагивает от снарядов, рвущихся на его бортовой броне. Мельчайшие осколки стали впиваться в лица.
Находящийся со мной в одной машине Оксен пробует повернуть башню. Заклинена. Вдобавок перебита и гусеница. Танк отлично видимой целью замер в двух-трех сотнях метров от фашистской батареи.
– Выбрасывай дымовую шашку! – кричу Коровкину.
В который уже раз прибегаем мы к этой незамысловатой хитрости. И опять удача: едва увидев дым, противник прекратил огонь.
Оксен хочет открыть верхний люк. Я хватаю его за руку. И в ту же секунду тра-та-та-та. Пулеметные пули барабанят по броне.
Немцы рассуждают просто: танк загорелся, значит, сейчас выскочит экипаж: вот и пожалуйте под свинцовый душ.
Все, что было дальше, вспоминается, словно в бреду. В пелене кровавого тумана встают отдельные эпизоды, сцены. Как бы я ни хотел, не смогу последовательно изложить это продолжавшееся весь день ни с чем не сравнимое побоище…
Понятия не имею, сколько времени мы сидели в танке. Батарея умолкла. Около нас остановился КВ. Коровкин, Оксен и Головкин стали менять траки. Условились: как только исправят гусеницы, идут на командный пункт. Я показал на карте точку у дороги и перебрался в КВ.
И надо же так, в машине опять встречаюсь с кинооператорами. Вид у них на этот раз был не столь лихой, как прежде. Операторы, кажется, понимали, какие уникальные кадры им предстоит снимать. Но Ковальчук все еще пробовал по инерции шутить.
На командном пункте, окруженном дюжиной танков разных систем с помятой броней, перебитыми гусеницами и обрубленными пушками, застал Курепина и Новикова. Спрашиваю об обстановке.
– Васильев пошел с Волковым и Сытником вперед.
– У Сытника все подтянулись? Почти все.
– Где Петров?
– Ждем с минуты на минуту. Самая большая опасность – артиллерия. Целый дивизион лупит во фланг.
– Пусть танки, которые здесь стоят и у которых исправны пушки, бьют по фашистским батареям. Демаскируем КП – черт с ним. Все равно сейчас будем сниматься.
Потом я повернулся к старшему батальонному комиссару Новикову:
– Собирайте под метелку всех штабников, писарей, безмашинных танкистов, кто попадется, – будем атаковать артдивизион. А то – беды не оберешься.
Новиков со старшим политруком Харченко и прокурором дивизии Смирновым собрали десант, разбили его на группы. Тут подошла моя «тридцатьчетверка». Что за вид? У пушки разорванный, погнутый ствол, на бортах десятки черно-красных вмятин. Коровкин докладывает:
– Оба пулемета вышли из строя, триплексы побиты…
Я только махнул рукой и повел пехоту в тыл гитлеровскому дивизиону. Три группы – Новикова, Харченко, Оксена. Каждая должна захватить по батарее.
Идем через болото, проваливаемся. В вытянутых руках над головами винтовки, пистолеты, гранаты. У некоторых в зубах кинжалы от СВТ.
Грязные, страшные, как болотные черти, врываемся на огневые позиции немцев, украшенные березками и старательно укрытые сверху пестрыми маскировочными сетками.
150-миллиметровые гаубицы не развернешь в одно мгновенье. Рвутся гранаты, гремят выстрелы. Кое-где дело доходит до рукопашной.
Мы выходим победителями: все три батареи с исправными орудиями, с запасами маслянисто поблескивающих снарядов – наши. Сказочное богатство! Но этого мало.
– Товарищу Оксену со своей группой захватить штаб дивизиона, а главное тягу, тягу – любой ценой.
Бойцы быстро осваивают немецкие гаубицы. Новиков командует дивизионом. Военюрист Смирнов, служивший наводчиком во времена гражданской войны, становится за старшего на одной из батарей.
В лесу, куда скрылась группа Оксена, стрельба, пулеметные очереди. Плохой признак. У наших пулеметов не было.
Вскоре появляются красноармейцы. Один опирается на винтовку, троих несут товарищи. Шествие замыкает Оксен. Без фуражки. Блестит на солнце белая лысина. В руках по пистолету.
– Не вышло… Нарвались… Два пулемета… Оксен сплевывает кровью.
– Что с тобой?
– Ничего… Было дело под Полтавой… Вместе с Оксеном возвращаюсь на командный пункт. Толстяк Петров, отдуваясь и вытирая грязным платком красное потное лицо, докладывает Курепину. Заметив меня, сует платок в карман и начинает сначала.
Его танки на подходе. Некоторые едва тянутся. Немцы бомбят Птычу и высоту 278,4. Наших там нет. Не дождавшись конца доклада, я обращаюсь к Курепину.
– Где Васильев?
– Неизвестно.
– Связь?
– Не отвечает. Подхожу к КВ.
– Товарищ Ковальчук, прошу прощения, но танк придется уступить мне. Ничего не попишешь. Таковы обстоятельства. Держитесь с командным пунктом. Подполковник Курепин в случае чего поможет.
Кинооператоры с несвойственной им безропотностью вылезают из машины. Вытаскивают свои камеры. Бойкий на язык Ковальчук молчит.
Удивительное зрелище открывается мне, когда танк выходит на плато. В первый момент кажется, будто справа и слева горит лес. Черный дым обволакивает деревья, кусты, задевая за ветки, медленно ползет в небо.
Останавливаемся у подбитой «тридцатьчетверки». Бледный худой лейтенант с лицом и руками, перепачканными маслом, объясняет:
– То горят танки. Шестнадцатая непромокаемая. Машины стояли на опушке, а экипажи дрыхнули в лесу. Мы били с короткой дистанции. Снаряд – танк, снаряд танк… Майор Сытник пошел вперед.
Связываюсь по рации с Сытником. В наушниках знакомый голос:
– Дали Гитлеру. Нехай посчитает, скильки танков в лесу горят.
– Где Васильев?
– Не знаю. Небось с Волковым.
На открытом поросшем густой травой поле все чаще встают черные фонтаны.
КВ по диагонали пересекает поле и нагоняет колонну Волкова.
Но Волков тоже не знает, где Васильев и Немцев. Он видел, как танк комдива пошел в атаку, как взял правее, в сторону Сытника. Сначала слышал по радио Васильева, но потом голос комдива умолк.
Тем временем из лесу появляются фашистские машины. Значит, враг уже сориентировался и вводит в бой резервы. Теперь нас может выручить только скорость. Но не бросать же на произвол судьбы машины Петрова!
В небе проплывает «костыль». За ним спустя минут пять – эскадрилья бомбардировщиков. Она еще не отбомбилась, когда из-за леса вышла вторая, потом третья… шестая… Мы потеряли счет. Исчезла граница между полем и лесом. Исчезла дорога. Исчез горизонт…
Но связь с Сытником и Волковым работала. Прямой наводкой бил по немецким танкам гаубичный дивизион, которым командовал Новиков.
Курепин вовремя подтянул командный пункт вперед, поближе к своим танкам. У него осталась одна санитарная машина и три штабные.
Полковые и дивизионные штабники осаждают меня – что делать с документами?
Подбегает Оксен:
– Сзади, на опушке, наши танки.
Я поднимаю к глазам бинокль. Неужели возможно такое? Неужели наконец-то Рябышев прорвался к нам?
Но почему танки не устремляются на помощь, почему медлят, неторопливо разворачиваются перед лесом?
И прежде, чем я увидел кресты, понял, это немцы. Они не спешат атаковать, ждут основные силы. К чему спешить, куда мы денемся?
Командный пункт переходит к лесу, под защиту дивизиона Новикова. Туда же постепенно стягиваются танки Петрова, изуродованные, с израсходованными моторесурсами.
Еще часа два назад, когда я говорил с Сытником, фашистские машины не охватывали нас железной клешней, не зажимали мертвой хваткой, и небо еще было чисто. Горели на опушках десятки немецких машин и, возможно, мы могли вырваться. Но для этого надо было пожертвовать тихоходной группой Петрова. Иными словами: ради возможного собственного спасения и спасения части сил предать товарищей, бросить их на верную гибель… Нет, на такой шаг я не мог пойти и поныне считаю, что поступил правильно.
…Когда очередная бомбежка кончилась, со всех сторон на нас рванулись в атаку Рz.III и Рz.IV. Сосчитать их было нельзя. Может быть, две сотни, может быть – три.
Факелом заметалась по полю одна наша «тридцатьчетверка». На КВ навалилось сразу десятка полтора Рz.IV.
Расстреливаем немецкие машины в упор. Кончились снаряды, пошли на таран.
Запылала, как костер, машина Волкова. Он с трудом выбрался из нее. Раненая нога отказывалась служить, Волков упал и потерял сознание. Вслед за ним из открытого люка горящего танка не появился никто.
Сытник в горячке боя вырвался на КВ вперед. Протаранил несколько Рz.III. Машина превратилась в бесформенную груду металла. Он стал отходить с экипажем в чащу кустарника.
Сочная трава вокруг пожелтела. Дым цепляется за нее. Несмолкаемый грохот наполняет воздух, перекатывается по лесу. Не разберешь, где наши танки, где фашистские. Кругом черные стальные коробки, из которых вырываются языки пламени.
Спасибо Новикову и его пушкарям. Они как могли прикрывали КП и подтянувшиеся горе-машины Петрова.
Но гитлеровцы уже дали знать своей авиации, что артдивизион в руках у русских. И вот завыли, падая на огневые позиции, пикирующие бомбардировщики. Десятка полтора артиллеристов убито и ранено. Три гаубицы изуродованы.
Я подбежал к оглушенному Новикову, крикнул на ухо что есть силы:
– Прикрывай наш отход, потом – орудия в воздух и отходи с людьми к месту сбора. Понял?
Новиков кивнул головой. Расслышал или сам догадался – не знаю. Больше я его не видел…
Солнце, огромное, красное, не спеша клонилось к западу. Неужели уже закат! Мы деремся с предрассветного часа. У людей как бы атрофировались нервы, заглушен инстинкт самосохранения. Иные совсем не реагируют ни на бомбы, ни на снаряды. Вылезают из танков, выпрыгивают из окопов, не склоняя голову, идут вперед, пока не свалит пуля или осколок…
Окрашенные алым цветом – то ли от пожаров, то ли от заходящего солнца – мы двинулись дальше. Горстка покореженных, еле тянущихся танков, санитарка, три штабные машины. На танках и рядом с ними – остатки десанта и лишившиеся машин танкисты.
До леса нас преследовали пули и снаряды. Но как только вошли в чащу, огонь стал слабее. Фашистские танки не увязались за нами. И при очевидном многократном превосходстве гитлеровцы остерегались нас.
Я приказал построить личный состав.
За этот день люди всего насмотрелись. Они не удивились бы, если бы из-за кустов поднялся в атаку немецкий полк. Но строиться? Зачем это нужно? Не свихнулся ли бригадный комиссар?
Однако это не было каким-то чудачеством. Я не сомневался, что фашисты на ночь глядя не полезут в лес. Задерживая колонну, я ничем не рисковал. Но выигрывал многое. Чем дольше мы здесь простоим, тем больше людей к нам подойдет. По лесу в поисках своих, несомненно, бродили еще десятки бойцов. Кроме того, все должны понять: хотя мы уже не группировка, не дивизия, даже не полк, а только небольшое подразделение Красной Армии, на нас распространяются все ее уставы, ее дисциплина, ее порядки.
Строились медленно, неохотно, преодолевая невероятное утомление и безразличие.
Я подозвал Оксена. Он без фуражки. Лысина за день порозовела. Тяжелые, набрякшие веки прикрывают исподлобья глядящие миндалевидные глаза.
– Надо найти местного жителя, проводника.
Оксен секунду молчит, потом вытягивается, нарочито громко произносит «есть!» и поворачивается, как курсант на занятиях по строевой подготовке.
А бойцы все еще строились.
Я стоял сбоку, смотрел и ждал.
Наконец, с грехом пополам построение закончилось. Медленно, ничего не говоря, всматриваясь в лица, я прошел вдоль шеренги. Кто бы поверил, что недавно это были молодые, здоровые, жизнерадостные люди… Иные стояли с закрытыми глазами, неподвижные, апатичные. У других – истерически возбужденные лица.
На левом фланге увидел знакомую нескладную долговязую фигуру. Сержант слабо улыбнулся, показав длинные зубы, и полушепотом доложил:
– Тимашевский.
Кивнул ему и пошел обратно. Кто-то не выдержал:
– Чего резину тянуть? Выводи, пока все не полегли.
Я не ответил на этот выкрик.
Из леса показалась группа бойцов. Капитан обратился ко мне:
– Товарищ бригадный комиссар, разрешите встать в строй.
– Становитесь.
Все молча смотрели, как пристраивались прибывшие.
Я вышел на середину.
– Кто мне верит и будет безоговорочно выполнять присягу – стоять на месте. Кто не верит – два шага вперед. Строй не шевельнулся. Выждал некоторое время и заговорил опять:
– Держу вас здесь не ради собственной прихоти. Видели: только что явились пятнадцать человек. А сколько еще наших бродит по лесу? Что же, прикажете бросить их? Повторяю: кто не желает ждать, два шага вперед. Шкурники нам не нужны. Подумайте, потом будет поздно. Потом за невыполнение приказа – расстрел на месте. Пусть каждый решает сейчас. Я жду.
Из строя так ни один и не вышел. Я скомандовал:
– Вольно. Садись…
А люди из леса все подходили и подходили. Группу недавних артиллеристов привел старший политрук Харченко. Лицо его заливала кровь. Зажимая ладонью рану на щеке, он доложил:
– Старший батальонный комиссар Новиков погиб под фашистским танком. Дрался до конца.
Часа через полтора, когда нас стало вдвое больше, чем вошло в лес, появился Оксен с тремя разведчиками. Они вели старика и парнишку лет семнадцати.
– Отец и сын, – докладывал Оксен, – чехи, из Белогрудки. Встретил в лесу.
Старик держался свободно, не испытывая ни малейшего страха.
– Товарищ начальник, прошу отпустить меня. Надо жену разыскать.
В городской речи слегка давал себя знать непривычный акцент.
– Мы с вами ничего худого не сделаем, отпустим. Но вы прежде помогите нам. Расскажите про этот лес.
– Лес как лес. Мало хоженый. Есть места совсем глухие – кручи, овраги.
– Вот и ведите нас в самое глухое место, в самый глубокий овраг.
В моем распоряжении только десятиверстка. Да и то лист скоро кончится. В нашем корпусе не было карт. Мы не собирались отступать.
Старик сел в мою «тридцатьчетверку». Сын – в другую машину вместе с Оксеном. В танки же были погружены штабные сейфы.
Колесные машины вывели из строя и столкнули в овраг. Отряд разбили на роты, назначили замыкающих.
Я приготовился к длительному переходу. Но мы прошли километра три, и старик предупредил:
– Сейчас будет круча – не приведи бог. Танки-то ваши, не знаю, не перевернулись бы…
Вероятно, в обычных условиях, да еще если бы видеть степень крутизны, я бы не пустил боевые машины. Но тогда была ночь. Ночь после такого дня!..
– Ничего, отец, наши танки пройдут.
Коровкин сел за рычаги управления. Головкин вылез наружу и примостился слева на крыле. Деревья удерживали танки от падения. Но это была настоящая эквилибристика. Головкин свалился с крыла, и машина прижала его к дереву. С трудом удалось затормозить. Механик-водитель потерял сознание.
Спуская танки на дно глубокого оврага, я, конечно, допустил ошибку. Никак не мог расстаться с ними, не верил, что они больше нам не пригодятся…
Перевалило за полночь, когда мы достигли дна. Темень, сырость. Бойцы валятся в густую осоку. Кто-то бормочет:
– Переход Суворова через Альпы.
Как ложатся, так и засыпают. Но не всем отдыхать этой ночью. Я зову командиров, политработников, коммунистов.
Надо идти обратно, собирать раненых и оружие, снимать с танков пулеметы, прихватить диски, немецкие винтовки, пистолеты, автоматы.
Какая сила нужна теперь, чтобы заставить людей подняться наверх и проделать вторично этот путь!
– Надо, товарищи, понимаете, надо! – убеждаю я. – Нам трудно. Но во сколько раз тяжелее раненым, оставленным в кустах… Самое главное сейчас взаимовыручка, самое страшное преступление – бросить товарища… Или мы только на плакатах писали, что человек «самый ценный капитал…». И без оружия отряду нельзя. Нам еще драться и драться…
Уходят с группами Харченко, Петров, другие командиры…
Я чувствую под ногами камень и опускаюсь на него. Сжимаю руками налившуюся гудящим свинцом голову.
Что ждет нас? Где Сытник, Волков, Васильев, Немцев?
И какова все-таки судьба корпуса?
5
В тот час на дне глухого, заросшего осокой оврага я мог строить любые предположения о судьбе своего корпуса. Отвергать одни, принимать другие, чтобы и их отвергнуть. Но сейчас, много лет спустя, я узнал о его злоключениях все до мельчайших подробностей. Прежде чем продолжать свой невеселый рассказ о нашей дубненской группировке, в течение суток ставшей небольшим отрядом, нужно хотя бы кратко рассказать о событиях, происходивших по ту сторону охватившего нас вражеского кольца.
…Сосредоточение дивизий Мишанина и Герасимова в районе Ситно затянулось. Противник бросался с воздуха на их и без того измотанные части, преследовал танками, засыпал снарядами. Особенно трудно приходилось дивизии Мишанина. После ночной бомбежки в Бродах оглушенный, контуженный, едва говоривший Мишанин не в состоянии был командовать. Но он наотрез отказался ехать в госпиталь и не вылезал из танка. Полковник Нестеров суетился, кричал, отдавал приказания, потом отменял их. Сбывалась его мечта, он вступал в командование дивизией. Но, во-первых, прежний комдив не спешил уступать должность, а, во-вторых, обстановка складывалась так, что трудно было рассчитывать на лавровые венки, зато очень легко вовсе не в переносном смысле потерять голову. Короче говоря, дивизия по существу осталась без командира.
Первым к Ситно подтянулся полк Плешакова. С минуты на минуту должны были подойти остальные части Герасимова. Да и мишанинские полки постепенно стягивались к лесу вдоль левого берега Сытеньки.
Рябышев видел: проход на Дубно еще свободен, медлить нельзя. Полк Плешакова (впереди стрелковый батальон и артдивизион) двинулся по следам нашей подвижной группы.
И тут случилось то, чего не ждали ни мы, ни противник. Колонна следовавших с северо-запада гитлеровцев вклини лась между головным батальоном и остальными подразделениями полка.
Второй батальон с ходу наскочил на вражеское охранение. Завязалась перестрелка. Гитлеровские войска все подходили и подходили. Часть их стала в оборону по правому берегу Пляшевки, часть – продолжала марш к Дубно.
Наши попробовали прорваться на Вербу. Не тут-то было. Пришлось развернуть артиллерию. Но и немцы подтянули батареи. Завязался огневой бой.
Вечером 28 июня над Ситно кометой пролетел подбитый самолет. Нельзя было разобрать, наш ли, вражеский ли. Самолет врезался в деревья и развалился на пылающие куски.
Тут только все заметили стремительно спускавшийся парашют.
Рябышев подъехал к лежащему без сознания летчику. Тело и одежда обгорели, изо рта тонкими струйками, пузырясь, бежала кровь.
Летчик с трудом открыл глаза, увидел генеральские петлицы Дмитрия Ивановича.
– Вы комкор?
– Да.
Летчик снова потерял сознание. Вызвали врача. Тот сделал укол. Младший лейтенант прошептал:
– Вез приказ… Уничтожил… Общее наступление отменено…
Обескровленное лицо летчика перекосилось. Наступила агония. Дмитрий Иванович так и не узнал содержания приказа, новую задачу, поставленную штабом фронта перед корпусом. Решил на свой страх и риск по-прежнему пробиваться к Дубно.
Но гитлеровцы осуществили свой замысел. Суть его стала очевидной, когда в непосредственной близости от командного пункта корпуса затрещали немецкие автоматы. Противник решил обойти наши части с тыла. Бомбовые удары не прекращались, не стихали фашистские батареи. Зенитная артиллерия корпуса была подавлена. Бомба угодила в колонну с боеприпасами.
Тогда Рябышев понял: пути на Дубно нет. Корпусу угрожает полное окружение. И пока еще кольцо не стало сплошным, не стабилизировалось, надо выводить полки на Броды и занять там жесткую оборону.
Дмитрий Иванович взял несколько танков, посадил на машины мотопехоту и сам возглавил прорыв. Вместе с ним шел КВ Мишанина.
Немцы открыли исступленный огонь. Но Рябышев не давал остановиться. Наши танки смяли вражеские пушки. Мотопехота расширяла проход. В этот момент танк Мишанина загорелся. Генерал не спеша вылез из горящей машины. Ни слова не говоря, один, с пистолетом, пошел поднимать залегшую пехоту. Раздалась очередь, и Мишанин так же молча опустился на землю.
Рябышев не покидал горловину, ждал, пока ее минуют замыкавшие движение полки Герасимова. Только поздней ночью, когда последний взвод миновал «ворота», Рябышев сел на «эмку» и помчался к Бродам. По пути он натыкался на бредущих толпами бойцов, горящие машины, лежащих в кюветах раненых. Рубеж, предназначенный дивизии Нестерова, никто не занимал.
Какие-то неприкаянные красноармейцы сказали, что мотопехота покатила на юг, вроде бы к Тернополю. Комкор повернул на южное шоссе и километрах в двадцати нагнал хвост растянувшейся колонны. Никто ничего не знал. Нестерова и Вилкова не видели. Рябышев попытался остановить машины. Из кабины полуторки сонный голос спокойно произнес:
– Какой там еще комкор? Наш генерал – предатель. К фашистам утек.
Дмитрий Иванович рванул ручку кабины, схватил говорившего за портупею, выволок наружу.
– Я ваш комкор.
Не засовывая пистолет в кобуру, Рябышев двигался вдоль колонны, останавливая роты, батальоны, приказывая занимать оборону фронтом на северо-запад. В эту ночь он так и не нашел ни Нестерова, ни Вилкова, и мудрено было их найти. Нестеров убедил снова потерявшего под ногами почву Вилкова ехать в штаб фронта. А когда прибыли в Тернополь, стал внушать, что ему Вилкову, как замполиту, сподручнее доложить начальству о гибели дивизии и разгроме корпуса.
Накануне вечером в Тернополь приехал из Сочи начальник штаба нашего корпуса полковник Катков. Случайно он наскочил на броневик, возле которого стоял Нестеров.
– Как вы сюда попали?
Нестеров безнадежно махнул рукой.
– Все погибло, корпуса нет!
Катков, подобно многим другим, не испытывал особого доверия к Нестерову. Он придирчиво расспросил полковника и утром доложил свои соображения командующему фронтом. Тот тем временем получил по радио донесение от Рябышева: прощу разрешить вывести части из боя.
Командующий приказал Каткову отправить Нестерова и Вилкова обратно в корпус, который становился фронтовым резервом и должен был располагаться в лесу западнее Тернополя.
Утром Дмитрия Ивановича вызвали к рации. В наушниках надрывался чей-то голос:
– Я – Попель, я – Попель… Сообщи обстановку и месторасположение штаба корпуса.
Со мной вступал в связь более ловкий разведчик. Здесь же гитлеровцы работали совсем грубо. Они сразу потребовали координаты КП и обстановку. Эта наглость их выдала.
– Ты мне сначала доложи обстановку, – попросил Дмитрий Иванович.
Не подготовленный к такому вопросу разведчик ничего умнее не придумал, как вступить с Рябышевым в спор.
– Нет, ты сперва.
Чтобы не оставалось никаких сомнений, Дмитрии Иванович спросил:
– Скажи, как зовут мою собаку и где она сейчас?
Охотничий пес Дмитрия Ивановича «Дружок» незадолго до войны был отравлен кем-то. Фашистский провокатор не мог знать этого, и радиоразговор закончился.
Мысль о дубненской группе не покидала Дмитрия Ивановича. Но корпус находился уже в таком состоянии, что реальной помощи оказать нам не мог. Он сам нуждался в пей. Необходимо было победить апатию, которая овладевала войсками.
От Каткова я приехавшего с ним вместе представителя штаба фронта Рябышев узнал о ночном бегстве Нестерова и Вилкова в Тернополь, об их докладе. Вероятно, следовало принять сразу же суровые меры, отстранить паникеров от командования. Но Дмитрий Иванович этого не сделал. Почему?
– Да знаешь ли, кадров не хватало, надеялся – выправятся. Специально заниматься ими не было ни времени, ни сил. Пожурил крепко, пригрозил судом, объяснял впоследствии Рябышев.
В штабе фронта, куда вызвали комкора, царили нервозность и неуверенность. Он доехал до Военного совета, ни разу никем не остановленный. Но стоило Дмитрию Ивановичу на улице закурить, к нему бросились со всех сторон, подняли шум.
Штаб готовился к передислокации. В суете и всеобщей спешке на ходу отдавались сбивчивые приказания, которые зачастую через десять минут отменялись. Вдогонку за первым офицером связи мчался второй.
Рябышев пытался разузнать о судьбе дубненской группировки, выяснить, помогает ли ей авиация, но добиться вразумительного ответа не мог.
Штаб фронта отходил в Проскуров. Туда же надлежало следовать и корпусу.
С тяжелым чувством возвращался Рябышев. Ему казалось, что штаб фронта охватывает не всю обстановку, иные части и соединения во многом предоставлены сами себе. Это было тем более обидно, что вариант фашистского наступления из района Сокальского выступа не столь уж оригинален и неожиданен. Такой именно вариант предусматривался на состоявшихся незадолго до войны штабных учениях…
Фронт возглавлял генерал-полковник Кирпонос. В Финляндии отличилась его дивизия, генерал удостоился звания Героя Советского Союза и вскоре оказался во главе крупнейшего военного округа. Безупречно смелый и решительный человек, он еще не созрел для такого поста. Об этом мы не раз говорили между собой, говорили спокойно, не усматривая здесь в мирное время большой беды, забывая, что приграничный округ с началом боевых действий развернется во фронт…
Марш на Проскуров дался не легко. Немецкая авиация не утихомиривалась ни днем, ни ночью. Боев не было, а корпус все терял и терял людей, машины, орудия.
У Золочева слева – гора, справа – болото, а впереди на дороге рвутся грузовики с боеприпасами. Механик-водитель КВ, в котором следовал Дмитрий Иванович, посмотрел по сторонам, почесал затылок.
– Эх, товарищ комкор, была не была. Закрывайте люк… И тяжелый КВ на предельной скорости врезался в горящие и рвущиеся машины. Путь был проложен.
Однажды вечером Рябышев заметил группу людей. Подошел. Услышал голос Вилкова. Полковой комиссар горячо ораторствовал.
– Пора понять, товарищи, что мы находимся в окружении. Одесса занята противником. Генерал Кирпонос – изменник и предатель. Надежда только на самих себя…
– Откуда у вас такие сведения? – крикнул взбешенный Рябышев.
Командиры обернулись. Но Вилков не растерялся.
– Полковник Нестеров недавно разговаривал с одним летчиком…
– Повторяете зады фашистской пропаганды. Какой вы… политработник!
На следующий день Дмитрий Иванович снесся с Военным советом и отправил Вилкова в его распоряжение.
Я и поныне думаю, что Вилков был субъективно честный и нетрусливый человек. Но малосамостоятельный, духовно нестойкий. Война выбила его из привычной колеи, и, чтобы вернуться на нее, ему нужна была чья-то поддержка.
Когда Дмитрий Иванович вызвал к себе Нестерова и с пристрастием стал допрашивать его, откуда тот взял свои «но вости» об Одессе и Кирпоносе, Евгений Дмитриевич оскорбился:
– Распространение сплетен – не мое амплуа…
Стоит ли сейчас, ведя речь о делах минувших дней, когда нужно сказать столько хорошего о людях светлой души и великой самоотверженности, вспоминать о Евгении Дмитриевиче Нестерове и ему подобных? Думается, что стоит. Объясняя наши неудачи в первые дни войны, мы не можем сбрасывать со счета и растерянность фронтового штаба, и блудливую трусость людей типа Нестерова.
Прошли многие годы, но и сейчас, вспоминая Нестерова, я неизменно вижу его самодовольно восседающим в кресле комдива или трусливо околачивающимся в тылах. Конечно, не весь Евгений Дмитриевич в этих поступках. Это, если можно так выразиться, его «минутные слабости». Он сложнее и тоньше. У него гибкий подвижный ум, он образованный командир с хорошо подвешенным языком. Нестеров говорит свободно, без шпаргалок, воспламеняясь от собственных слов, пересыпает речь латинскими пословицами и французскими изречениями. Когда я слушал Нестерова, мне всегда казалось, что так самозабвенно ораторствовали, наверное, провинциальные Цицероны в начале нынешнего века. Кстати, если память не изменяет, Нестеров – сын адвоката то ли из Самары, то ли из Саратова.
Но не красноречие, конечно, главное в Нестерове. Главное – честолюбие, безумное, ненасытное честолюбие. Почему не он, интеллигентный, умный, образованный, командует дивизией, корпусом, армией и даже округом? Чем он хуже тех, кто занимает высокие посты, пользуется правами и благами, ему недоступными?
У Нестерова был, пожалуй, самый длинный послужной список. Он долго не задерживался ни в одной части. Получив очередное повышение по службе, сразу же начинал хлопотать о переводе, чтобы подняться на новую ступеньку. Если застревал на должности, добивался смены части в надежде на продвижение.
С той же страстностью, с какой Нестеров до войны жаждал сделать карьеру, во время войны он хотел выжить, уцелеть.
Этот инстинкт убогого человечишки, особенно на первых порах, оказался сильнее честолюбия. Потому-то Нестеров столь опрометчиво поступил у Стрыя и в лесу севернее Брод. По той же причине перепуганный примчался в Тернополь. Впоследствии, надо полагать, он научился маскировать свою трусость. Евгений Дмитриевич – великий мастер мимикрии.
Много лет я ничего не слыхал о Нестерове, да и не интересовался им. Лишь два года назад жарким июльским днем встретил его на Крещатике. Круглый животик оттопыривал отутюженный китель, прядка аккуратно расчесанных реденьких волос свешивалась на лоб. В руках большой желтый портфель. Нестеров тоже увидел меня, но не пожелал узнать.
Между прочим, точно такая же встреча с Нестеровым произошла и у Дмитрия Ивановича. Его тоже не узнал спешивший генерал с портфелем…
…На пути из Тернополя в Проскуров к корпусу присоединилась колонна, которую мы отправили из-под Дубно. На развилке дорог Рябышев увидел заросшего, запыленного, будто ставшего ниже ростом Плешакова, который о чем-то расспрашивал регулировщика.
После рассказа Плешакова у Дмитрия Ивановича почти не осталось сомнений в моей гибели и гибели остатков группы. Ведь мы прорывались, рассчитывая соединиться с корпусом, а корпус был уже далеко…
В Проскурове, в комнате с зашторенными окнами, Рябышева принял Кирпонос. Откинувшись на спинку стула, закрыв глаза, он, не перебивая, выслушал доклад комкора. Прощаясь, сказал:
– Зайдите к Пуркаеву, получите задачу.
Начальник штаба фронта генерал Пуркаев познакомил Дмитрия Ивановича с обстановкой: Ровно занято, противник рвется на Киев.
Для Рябышева это не было новостью. Удивило Дмитрия Ивановича другое – штаб опять перемещался, на этот раз в Житомир. Корпусу предстояло сосредоточиваться в районе Казатина.








