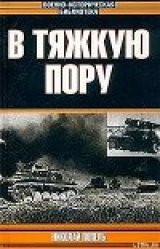
Текст книги "В тяжкую пору"
Автор книги: Николай Попель
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)
Попель Николай Кириллович
В тяжкую пору
От автора
В этих воспоминаниях я стремился рассказать о подлинных фронтовых событиях самого тяжкого для нас периода Великой Отечественной войны. В ту пору было не до дневников; в уцелевших записных книжках сохранились лишь отрывочные заметки.
Работая над книгой, приходилось рыться в памяти, поднимать архивные документы, расспрашивать товарищей. Так восстанавливались картины 1941–1942 годов, облик и подвиги людей, принявших первые удары сильного, хорошо технически оснащенного врага. Многих из моих тогдашних товарищей по оружию ныне нет в живых. Они погибли смертью героев, отстаивая свободу и независимость социалистического Отечества, закладывая фундамент нашей великой победы в войне. Долг тех, кто прошел четырехлетний путь боев, состоит, в частности, и в том, чтобы свято беречь память о павших героях, рассказывать об их славной жизни и бессмертных делах новым поколениям советских людей.
При написании мемуаров особенно большую помощь оказали мне генерал-лейтенант запаса Д.И. Рябышев, полковник запаса А.П. Сытник, полковник запаса П.И. Волков, подполковник запаса Г.Д. Крупа. Выражаю им свою глубокую признательность. От души благодарю также работников учета кадров, финансово-пенсионного отдела и архива Министерства обороны, которые немало потрудились, разыскивая семьи погибших бойцов, офицеров и генералов.
Разумеется, не все и не всех удалось припомнить. Буду искренне благодарен читателям, особенно бывшим боевым соратникам, за всевозможные советы и замечания, постараюсь максимально использовать их.
Имена участников описываемых в книге событий, за исключением нескольких, подлинные.
Час пробил
1
Прошли годы и годы, однако в памяти живы события и встречи тех давно минувших дней…
Над танкодромом от зари до зари не рассеивается пыль. Подшитый утром подворотничок к обеду становится черным. На поле строятся и перестраиваются в боевые порядки новенькие, недавно поступившие к нам на вооружение Т-34.
Учения, стрельбы, разборы, совещания, инструктажи, политзанятия… Все это составляет военную службу мирного времени. Всем этим я обязан заниматься, так как являюсь заместителем командира механизированного корпуса по политической части и начальником отдела политической пропаганды. В приказах название моей должности едва умещается в полторы строки, и, как уверяет комкор, длиннее его нет во всей Красной Армии…
Мы стояли тогда в недавно лишь освобожденной Западной Украине. До Сана, по левому берегу которого вышагивали германские пограничники, было рукой подать. В этом заключалось некоторое своеобразие.
Помню, еще в августе сорокового года я вместе с бригадным комиссаром Сергеевым ехал однажды в Станислав. По пути, в небольшом районном городишке Калуше, увидели на лотке арбузы. Мы вышли из машины и встали в очередь.
Вдруг появляется хорошенькая девушка с длинными, как тогда было модно в этих краях, локонами.
Шепнула что-то продавцу, сама отобрала три кавуна, поднося каждый к уху, проверила – хрустит ли – и дала нам. Сергеев, подхватив арбузы, пошел к машине, я стал расплачиваться.
– Неужели товарищ комиссар не узнает меня? – кокетливо улыбнулась девушка.
Я пожал плечами. Она назвалась машинисткой райкома партии и сказала, что не однажды видела меня у секретаря…
Когда уже показался Станислав, Сергеев неожиданно спросил:
– Хороша?
Хотя прошло уже около часа после покупки арбузов, я понял, о ком речь, и ответил утвердительно:
– Хороша.
А месяца через три узнал, что «красотка» стала женой офицера гаубичного полка, стоявшего в Калуше. Теперь я видел ее не только в райкоме, но и в Доме Красной Армии. Она умела одеваться и слыла среди командирских жен, усвоивших лексикон западных областей, «элегантской». На вечерах держалась скромно, но непринужденно» Много танцевала, шутила. Вокруг нее всегда толпились командиры. Молодой муж сиял, вызывая зависть холостяков.
Безоблачная жизнь молодоженов прервалась неожиданно. В июне 1941 года к нам поступило сообщение, что на северной окраине Калуша, в сараях со старым сеном, должны встретиться местные вожаки бандеровцев. Под утро банда была накрыта. Двое погибли при перестрелке. Трое попали в плен. В том числе калушская «красотка». Она представляла на нелегальном сборище бандеровское руководство. Подобная история выглядела бы очень эффектной в детективном романе или на киноэкране. Но в жизни мы ощутили ее, как удар в спину. Связи бандеровцев с германской разведкой в ту пору уже не были секретом. Значит, досье с надписью «8-й механизированный корпус», хранившиеся в штабных сейфах по ту сторону Сана, пополнились новыми данными.
Хорошо запомнились и другие характерные детали того времени. Что ни день, военные самолеты Германии «по ошибке» пролетали над нами. Еще ранней весной к нам в Дрогобыч явились одетые в гражданское платье немцы с мандатами организации по розыску останков и могил германских военнослужащих. И не надо было обладать особой проницательностью, чтобы разглядеть военную выправку этих «штатских гробокопателей» и понять действительные цели их предприятия…
В субботу 21 июня сорок первого года в гарнизонном Доме Красной Армии, как и обычно, состоялся вечер. Приехал из округа красноармейский ансамбль песни и пляски. Я едва успел забежать домой, переодеться. Когда входил в зал, концерт уже начался. Со сцены неслась походная танкистская:
Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны…
Я слушал песню, оглядывая зал, где сидели «наши люди», вспоминая встречи последних дней.
Эти дни мне пришлось провести в одной из дивизий корпуса'. Лишь неделю назад ее танковый парк, состоявший из устаревших машин Т-26, БТ, Т-28, Т-35, пополнился новыми – шестью КВ и десятью Т-34. Со дня на день должно было произойти полное обновление материальной части.
Дивизия переформировывалась. Вместе с заместителем комдива, черноволосым и черноглазым полковым комиссаром Немцовым, человеком немногословным и не склонным к скоропалительным решениям, мы сидели в маленькой комнате, а на столе, рядом с чернильницей в виде танковой башни, лежала стопка «личных дел». В кабинет по очереди входили политработники, перемещавшиеся с одной должности на другую. Были и новички, только что окончившие военно-политическое училище.
Перед нами проходили разные люди.
Бывалые службисты – участники боев за Перекоп и Каховку, политработники среднего поколения, побывавшие недавно в Финляндии и Монголии, привычно и четко отвечали на вопросы. Сохраняя положенную субординацией почтительность, они в то же время оценивающе присматривались к нам. Всем своим видом как бы говорили: «Ну что ж, что ты меня спрашиваешь? Мне тоже интересно, под чьим началом буду служить, и я кое-что пойму по твоим вопросам и репликам. Не впервой».
Молодежи подобные сложности были еще не доступны. Младшие политруки самозабвенно печатали «подход» и «отход», отвечали громко, заученно, смущались, когда их спрашивали о семейном положении. Глядя на такого румяного выпускника, нетрудно было себе представить, с каким трепетом прикалывались на петлицы первые «кубики» и пришивались на рукава алые звездочки политработника.
Выйдя из кабинета, новички просили у писаря листок бумаги и тут же, в комнате общей части, писали письма: сообщали свой новый адрес и, «соблюдая военную тайну», давали понять, что попали в замечательное соединение.
А дивизия и впрямь была незаурядная. Она держала первое место в бронетанковых силах и потому участвовала в московских парадах. Командовал ею полковник Васильев, награжденный за героизм, проявленный в боях, орденами Ленина и Красной Звезды.
Васильев был командиром новой формации. Он закончил военную академию и уже прошел неплохую школу службы и сражений. Когда к нам стали прибывать первые КВ и Т-34, полковник Васильев вместе с полковым комиссаром Немцовым демонстрировали их на дивизионном танкодроме.
Васильеву и Немцеву как-то все удавалось. На все у них хватало времени. Иногда субботним вечером успевали даже подскочить на премьеру во Львов.
Перед отъездом из дивизии я побывал на стадионе, где репетировался намеченный на завтра, 22 июня, спортивный праздник. Небольшая группа красноармейцев хлопотала у специальных щитов – расклеивала на них плакаты. На поле выходили гимнасты, акробаты, гиревики.
Под впечатлением, оставленным у меня людьми этой дивизии и их делами, я пришел на концерт окружного ансамбля. Глядя на то, что происходило на сцене, часто ловил себя на мысли, что у Васильева можно, пожалуй, найти исполнителей не слабее. А концерт был вовсе недурен. На «бис» повторялись пляски, песни подхватывались зрительным залом.
После концерта, по хлебосольной армейской традиции, мы с командиром корпуса генерал-лейтенантом Дмитрием Ива новичем Рябышевым пригласили участников ансамбля на ужин. Домой я вернулся лишь в третьем часу. И хотя уже наступило воскресенье, за мной еще была субботняя задолженность – не успел принять ванну.
Ждать, пока наберется вода, не хотелось. Встал под душ. Теплые струи смывали усталость. Голова работала ясно, и мысли все время возвращались к одному: что сейчас происходит на том берегу Сана?
Нет, то не было предчувствием. Сколько раз позже я слыхал об этой рубежной ночи: «сердце подсказывало», «душа чуяла». У меня ни сердце, ни душа ничего не подсказывали. Просто я, как и многие старшие начальники приграничных соединений, знал фактов больше, чем мог объяснить. Поэтому-то днем, возвращаясь из дивизии Васильева, сделал небольшой крюк и заехал во Львов. Там стоял штаб соседней общевойсковой армии, которой командовал мой друг еще со времен Финляндии генерал-лейтенант Иван Николаевич Музыченко.
Повод для визита был – предстояло уточнить некоторые детали, связанные с недавними учениями. Но и я, и Иван Николаевич понимали, что приезд мой вызван не этим.
– Ну ладно, давай о деле, – прервал меня Музыченко. Прямой, открытый, из комиссаров гражданской войны, он не признавал околичностей, презирал дипломатические ухищрения в служебных, а еще более – в личных отношениях.
Я сообщил о споре, недавно вспыхнувшем между Рябышевым и начальником штаба армии, которой мы были подчинены, полковником Варенниковым. Рябышев, показывая нанесенные на карту всё прибывающие германские дивизии, сказал, что Гитлер готовит войну. Варенников безапелляционно возразил:
– Ручаюсь – еще год войны не будет, даю руку на отсечение…
На стороне Рябышева были многие факты. Не только сосредоточение гитлеровских войск, но и подозрительные нарушения нашего воздушного пространства немецкой авиацией, все большая наглость фашистской разведки, оживление бандеровцев. Варенников же ссылался на сообщение ТАСС.
Концентрацию гитлеровских дивизий у наших границ объяснял распространенной в ту пору версией, будто немцы отводят сюда на отдых свои войска из Франции. На это Рябышев резонно возражал:
– А после чего им отдыхать?
Варенников кипятился: мы, мол, судим о мировых событиях только по обстановке в полосе своего корпуса, не имея никаких данных о том, что делается вдоль всей советско-германской границы…
Когда я рассказал об этом, Иван Николаевич встал из-за стола, подошел к стене и отдернул шторку.
– Думаю, что прав Рябышев, а не Варенников. В полосе нашей армии – тоже концентрация немецких войск. Да еще какая!
Музыченко больше не садился. Он ходил по кабинету. Резким движением то отдергивал шторку, прикрывавшую карту, то задергивал ее.
– У Рябышева, по-моему, верный нюх. Я тоже, на свой риск и страх, кое-что маракую. Тут намечались окружные сборы артиллеристов. Убедил начальство проводить армейские и приказал своим не сосредоточивать артиллерию в одном месте, а выводить полки на полигон поочередно. Да и пехотку, между нами говоря, я из казарм пересадил в УРы. Начальству об этом не спешу докладывать. Как бы не окрестили паникером…
…Резкий настойчивый стук в ванную прервал мои размышления.
– Тебя к телефону.
Жена молча смотрела, как я прошел по комнате, поднял трубку.
– Товарищ бригадный комиссар, докладывает оперативный дежурный. Командир корпуса просит вас явиться в штаб. Высылаю машину.
– Ну что? – не выдержала жена.
– Ничего особенного, Дмитрий Иванович зовет в «богадельню».
Наш штаб размещался в здании бывшей богадельни, и эта шутка, как мне казалось, должна была успокоить жену.
Откровенно говоря, я и впрямь полагал, что «ничего особенного» не произошло. Ночные вызовы – не такая уж редкость для нашего брата…
Рябышев встретил меня так, будто мы и не расставались после ужина. Деловито сообщил, что минут пятнадцать назад звонил командарм генерал-лейтенант Костенко и передал, чтобы мы «были готовы и ждали приказа».
– Что сие означает, не ведаю, – добавил Рябышев. – Но все-таки дал команду «В ружье», приказал частям выйти в свои районы.
В каждом шаге и решении Рябышева чувствовался опытный, знающий что почем солдат. Дмитрия Ивановича не слишком трогала показная, парадная сторона службы. Он все прикидывал на войну. Однако, как и некоторые его сверстники, пользовался, случалось, старым аршином.
Убежденный кавалерист, он вначале не скрывал своего презрения к танкам. «Не казачье это дело. Вони да грохоту больше, чем толку. В 39-м году, между прочим, танки ваши отстали от моих лошадок».
Я горячо и небезуспешно обращал Рябышева в танковую веру. Но на Рябышева влияло, конечно, не только мое красноречие. Вдумчивый и добросовестный командир, Дмитрий Иванович в конечном счете не мог не полюбить могучую, покорную человеческому разуму и умелой руке технику. В один прекрасный день, когда командиры в присутствии семей и гостей соревновались на танкодроме в искусстве вождения машин, он обогнал меня, а потом поддевал:
– Надо владеть техникой, милый мой…
«Милый мой» – моя поговорка. И если суровый, сдержанный Дмитрий Иванович начинал пользоваться ею, я понимал, что этим самым он желает выразить свое доброе ко мне чувство или перейти со служебного тона на товарищеский. Так было и сейчас.
– Будем, милый мой, ждать приказа, – сказал Рябышев. Вызванные по тревоге штабные командиры занимали места за столами. Рядом ставили чемоданы с НЗ, как их называли иногда дома, «тревожные чемоданы»: два комплекта белья, бритвенный прибор и небольшой запас продуктов – минимум, который позволяет отправиться на войну, не заходя больше домой.
Штабники ворчали. В самом деле, что может быть неприятнее тревоги накануне воскресенья. День испорчен, планы, которые исподволь составлялись в семье всю неделю, сломаны. Как тут не ворчать! Кто-то уныло сострил:
– Концерт продолжается.
– Нет, – возразил другой, – это начался уже спортивный праздник: бег с чемоданом по пересеченной местности.
Все казалось обычным. Ни Рябышев, ни я, ни еще в меньшей мере кто-нибудь из штабных не предполагал, что это война.
Может показаться странным: накануне я заезжал к Музыченко, чтобы подтвердить правильность наших с командиром предположений, Рябышев своей властью еще три дня назад вывел часть полков из казарм в район сосредоточения, и все-таки мы не предполагали, что война уже начинается.
Нам хорошо было известно, что по всему округу идет напряженное формирование и переформирование частей, что штаб округа уже двое суток назад переехал из Киева в Тернополь. Но между всеми этими фактами, больше того, между не покидавшей никого из нас последние годы уверенностью, что война с Гитлером неизбежна, и самой войной, как наступающей реальностью, была пропасть.
В какой-то мере это объяснялось тем, что наш корпус не был еще готов к боям. Мы не закончили переформирование, не успели получить полностью новую технику. У нас отсутствовали ремонтные средства и запасные части. Могла ли наша мысль примириться с началом войны в столь невыгодных для нас условиях!
Но, могла или не могла, а в 4:30 позвонил начальник штаба армии Варенников (тот самый, что давал «руку на отсечение») и сообщил, что германские войска по всей границе ведут артиллерийский огонь, расстреливают прямой наводкой Перемышль, местами переходят границу. Но тут же предупредил:
– На провокации не поддаваться, по германским самолетам огонь не открывать. Ждать приказа.
И именно в этот момент до нашего слуха донесся тяжелый, прерывисто-надрывный гул моторов.
Все выскочили на улицу. Уже рассветало. «Двадцать второе июня, самый длинный день», – мелькнуло в сознании.
Поднималось солнце, и навстречу ему летели тяжело груженные бомбардировщики Гитлера. Они развернулись над городом и пошли на снижение. Кресты на крыльях, известные нам по альбомам опознавательных знаков и схемам, были видны простым глазом. Видны были и черные точки, отрывавшиеся от самолетов.
Бомбили прицельно: железнодорожную станцию, подъездные пути, нефтеперегонный завод и наши казармы. (Фашистская разведка не знала, что они опустели несколько дней назад). Отбомбившись, не спеша сделали круг над городом. Чего им было спешить – ни одного нашего истребителя, ни одного выстрела зениток!
За первой волной вражеских самолетов появилась вторая. Теперь бомбардировке подвергся центр города, кварталы, где жили командирские семьи.
Рябышев схватил меня за руку:
– Пойдем!
На ходу бросил оперативному дежурному:
– Соединить с зенитной бригадой.
Закрыл за собой дверь кабинета и, не говоря ни слова, посмотрел мне в глаза. Мы уже были знакомы больше года. Отношения между нами определялись короткой и емкой формулой: душа в душу. Нам не нужно было долго объясняться.
Я молча кивнул головой. Рябышев положил руку на трубку, секунду помедлил и подал команду:
– Открыть огонь по самолетам противника.
Мы замерли у окна, напряженно прислушиваясь. В грохот бомб вклинились разрывы зениток. И только тут для нас стало совершенно ясно: началась война!
Бомбежка продолжалась сравнительно недолго. Наша зенитная артиллерия пришлась, видно, не по вкусу немецким летчикам (потом выяснилось, что, хотя зенитчики стреляли не особенно удачно, четыре самолета они все же сбили).
Мы с Рябышевым вышли в коридор. Здесь стояли командиры и политработники управления корпуса, которые всего лишь несколько минут назад невесело перешучивались по поводу еще одной ночной тревоги, испортившей воскресный день. Теперь они молчали, сосредоточенные, взволнованные, суровые. Смотрели на меня и Рябышева, ждали нашего слова. Но мы знали примерно столько же, сколько и они. У нас даже приказа не было.
Однако я почувствовал, что должен, обязан сказать им хотя бы несколько слов от имени партии, которой они беззаветно верили, к которой обращались с надеждой и упованием. У меня не было времени на то, чтобы собраться с мыслями. Но я был подготовлен к этой речи всей своей жизнью армейского коммуниста, с молодых лет усвоившего, что империализм никогда не примирится с потерей одной шестой земной тверди, что фашизм был и остался самым яростным врагом моей социалистической Родины.
Только я кончил, ко мне наклонился оперативный дежурный и шепотом доложил:
– Звонила ваша дочь. Говорит, неподалеку от них упала бомба. Я объяснил ей, что это маневры.
Ничего не оставалось, как поблагодарить капитана за наивную и бессмысленную ложь.
Все мы были охвачены в тот момент тревогой за семьи. И очень скоро семьи сами заявили о себе.
2
По снова ставшим тихими утренним улицам, окутанным пылью и дымом недавней бомбежки, бежали женщины, старики, ребятишки. Едва одетые, многие в ночных рубашках, окровавленные, обезумевшие от неожиданного бомбового грохота, они устремились к штабу.
Я с трудом узнал в толпе Надежду Савельевну Крестовскую – жену военинженера 3 ранга. На вечерах самодеятельности, она, красивая, знающая себе цену, в платье до пола, легко и уверенно взбегала на сцену, кивала старшине-аккомпаниатору и пела алябьевского «Соловья»… Теперь Надежда Савельевна была растрепана, из-под халата торчала рубашка, на руках у нее полуголая девочка лет трех с откинутой назад черноволосой головкой. Я тихо спросил:
– Ранена?
– Убита.
Кровь детей и женщин – первая кровь, какую я увидел в эту войну…
Надо было немедленно организовать помощь. Поручил секретарю парткомиссии старшему батальонному комиссару Погодину и инструктору отдела политической пропаганды стар шему политруку Сорокину заняться командирскими семьями. Для потерявших кров решили устроить общежитие в Доме Красной Армии. Раненых направили в госпиталь.
Но каждое дело – для нас это было пока что непривычно – наталкивалось на сотни непредвиденных препятствий. Госпиталь, оказывается, сам пострадал от бомбежки. Среди больных и персонала – раненые, убитые.
А к штабу все подходили и подходили женщины. То один, то другой командир выскакивал на улицу…
Связь штаба с дивизиями и отдельными частями была нарушена – фашистские бомбы порвали телефонные и телеграфные провода. Послали нарочных. И тут выяснилось, что вокруг Дрогобыча, а также в самом городе орудуют гитлеровские парашютисты, переодетые в красноармейскую форму.
Вскоре начальник разведки корпуса майор Оксен доложил, что несколько таких диверсантов поймано.
– Я поинтересовался, – сообщил Оксен, – что они знают о нашем корпусе. Оказывается, немало. Можно ждать любых провокаций. Надо, чтобы люди имели это в виду.
К словам Оксена, опытного разведчика, в прошлом питерского рабочего, я привык прислушиваться.
Тем временем связисты восстановили проводные линии. Сведения, полученные по радио и подтвержденные потом офицерами связи, помогали составить общее представление. Части корпуса от бомбежки почти не пострадали. Но были жертвы среди командирских семей.
Кто-то из женщин произнес слово «эвакуация». Его подхватили. Многие командиры не прочь были бы отправить семьи из приграничной зоны.
Мы понимали этих людей. Но согласиться с ними не имели ни права, ни основания. Кроме того, у нас с Рябышевым не было твердого убеждения в необходимости эвакуации. Эшелоны с семьями могли подвергнуться бомбардировке и на станции, и в пути. Здесь же, на месте, мы, несомненно, наладим противовоздушную оборону. С минуты на минуту – кто в этом сомневался? появятся наши «ястребки». Дней через пяток, через неделю, а крайнем случае через две, отразив атаки врага, мы сами перейдем в наступление…
Несправедлив будет тот, кто упрекнет нас в розовеньком бодрячестве. Мы верили в свои силы, в свое оружие.
Нам было известно, что численность войск по ту сторону Сана больше, чем по эту. Но, во-первых, мы считали, и совершенно справедливо, что не только численность решает успех сражения. Во-вторых, мы оперировали лишь теми сведениями о противнике, какими располагали. А они, как потом выяснилось, были далеко не полными. В частности, мы не знали о соединениях, которые имперский штаб подвел к границе в самые последние дни и часы. Мы слабо представляли себе состав и мощь немецких танковых группировок, боевые свойства и возможности вражеских танков.
…Прибежал начальник ДКА:
– Что делать?
Сколько раз в течение дня слышал я этот вопрос. В нем звучали уверенность в себе и готовность исполнить свой воинский долг. Но кое у кого проскальзывали и нотки растерянности.
За Дом Красной Армии я не тревожился. Как ни трудно было, но его энергичный начальник вместе с Погодиным и Сорокиным организовали в нем убежище для потерявших кров. А вот начальник гарнизонного Военторга настолько потерялся, что от него ничего нельзя было добиться. Он все время повторял одну и ту же фразу: «Прикажите вывезти склады». Я ему такого приказа, конечно, не дал. Обязал продолжать торговлю и развернуть полевую столовую для штаба.
Явился начальник ансамбля, потом – начфин, потом…
Я чувствовал, что лихорадочная текучка может захлестнуть с утра, и не нащупаешь главного.
Решил съездить в обком. По дороге заскочил домой. Прямо перед домом воронка. Вбегаю на второй этаж. Двери настежь. Навстречу бросается Лиза, старшая дочка.
– Живы?
– Живы. Только вот мама что-то нездорова. Жена, бледная, лежит на диване. Слышит плохо, с трудом говорит. Контузия.
– Ходить можешь? Виновато улыбается:
– Могу, наверно.
– Отправляйтесь в подвал. Там и обосновывайтесь. Тебе, Лиза, командовать.
Забегая вперед, хочу похвастаться: десятилетняя Лиза и впрямь «командовала». Не страшась бомбежек, бегала в магазин за хлебом, носила воду.
Я прошел по ставшим такими непривычными комнатам. Под ногами хрустело стекло. Воздушная волна вырвала оконные рамы, и куски их валялись на полу.
Опускаясь вниз, зашел в квартиры политработников Вахрушева и Чепиги. Посоветовал их семьям тоже перебираться в подвал.
– А как насчет эвакуации?
Я отрицательно покачал головой…
В обкоме обстановка напоминала наш штаб. Хлопали двери, сновали люди. Никто не шел потихоньку, вразвалку.
С секретарем обкома говорил считанные минуты. Знал он не многим больше нас. По ВЧ ему сообщили, что бомбардировке подверглись Киев, Львов и другие города Украины.
Тут же решили, что милиция и наркомвнудельцы вместе с нашими частями займутся ликвидацией диверсионных банд. Передал обкомовцам все, что узнал от Оксена. Обсудили меры борьбы с пожарами. Согласовали организацию местной ПВО.
В мирное время мы, армейцы, все время дорожили контактом с обкомом. И теперь без такого контакта я тоже не мыслил свою работу.
– Семьи эвакуируете? – спросил секретарь.
– Нет.
– Ну, и мы нет…
Когда возвратился из обкома, настроение у меня было лучше, чем когда ехал туда. Я осязаемо почувствовал единство наших устремлений. Невольно представил себе, как в эти часы во всех партийных комитетах, от первичной организации до ЦК, склоняются над картами люди и принимают решения.
Партия поднимала народ. И народ шел за ней, исполненный достоинства и веры, готовый грудью и кровью защитить завоеванное, добытое, взращенное.
Коротко доложил о разговоре в обкоме Рябышеву. Он выслушал, ни о чем не спросил. Потом сказал:
– Приказа еще нет. Вызвал командиров частей и заместителей по политчасти. Заслушаем.
Наконец, ровно в десять часов, представитель оперативного отдела штаба армии привез приказ: корпусу к исходу 22 июня сосредоточиться в лесу западнее Самбора. Частям предстоял марш на 70–80 километров, теперь вызванным к нам командирам и политработникам можно было ставить определенные задачи.
Пока шло совещание, я присматривался к замполитам, старался понять, что происходит в душе у каждого. Я неплохо, как мне казалось, знал этих людей, их возможности, склонности. Но знал по дням мирной службы, когда бомба или пуля не могли помешать выполнению самого сложного задания, а «убитые» на учениях дымили папиросами, лежа под деревцем и вызывая зависть живых.
Теперь вступал в действие новый фактор. Снаряд не признает субординации, не считается с должностями и званиями. Броня танков у начальствующего состава ни на миллиметр не толще обычной.
Короче говоря, меня в этот час больше всего интересовала личная смелость политработников. Она представлялась мне высшим проявлением их политической зрелости.
Я посмотрел на полкового комиссара Лисичкина. По его виду нельзя было предположить, что несколько часов назад началась война. Гладко выбрит (когда успел?), гимнастерка отутюжена, симметричные складки упираются в пуговки нагрудных карманов, над левым карманом, в розетке, – орден Красного Знамени. Лисичкин, как всегда, деловито сосредоточен. Одинаково внимательно слушает то, что говорит начальство, и то, о чем ведут речь другие замполиты.
Лишь один человек показался мне странно рассеянным, сверх меры возбужденным. Я едва узнавал обычно подтянутого или, как у нас в армии говорят, «выдержанного» Вилкова. «Эко, брат, тебя взбудоражило, – думал я, поглядывая на сидящего в углу полкового комиссара. – И карандаш ты зачем-то сточил уже наполовину, и на окна почему-то поглядываешь все время».
После совещания я подошел к Вилкову.
– Кажется, вы хотели о чем-то спросить?
– Нет, не собирался… Что же, все ясно. И вдруг как-то беспомощно добавил:
– Страшная это штука – бомбежка. Меньше всего хотелось читать Вилкову нотации, оглушать его громкими словами. Я понимал: надо тактично приобод рить человека, привести подходящий «случай из жизни». Но такой случай сразу не подвертывался. Единственное, что пришло на ум – эпизод из действий 11-й танковой бригады в Монголии. Бригада на марше неожиданно попала под удар с воздуха. Наших истребителей вызвать не успели. Однако люди не растерялись. Отразили налет своими средствами и почти не понесли потерь.
– Об этом стоит рассказать бойцам, – посоветовал я. – Очень важно не дать противнику запугать наших людей.
Вилков согласно кивнул.
А в том, что бомбежка – «страшная штука», мне самому пришлось вскоре убедиться.
На нашем совещании отсутствовали полковник Васильев и полковой комиссар Немцев. Приказ для их дивизии передали по радио и послали в пакете – нарочным на броневике. Кроме того, я должен был подтвердить его устно. Во избежание всяких неожиданностей, мы дублировали связь. Заодно я собирался совершить с этой дивизией и марш.
Моя «эмка» и штабной броневичок, не отставая друг от друга, мчались по разбитой проселочной дороге. Но вражеские самолеты держали под наблюдением все коммуникации и рокады. Нас вскоре заметили и стали преследовать. Езда превратилась в сумасшедшую гонку. Шофер резко тормозил, неожиданно сворачивал в сторону, петлял по полю.
И тут я впервые за это утро увидел наш истребитель И-16. Но больно было смотреть, как этот один-единственный «ишачок» самозабвенно бросился на десять – двенадцать немецких истребителей и буквально через мгновение, оставляя хвост пламени и дыма, рухнул на землю.
Где вся наша авиация? Почему бездействует?
Музыченко накануне рассказывал, что в авиаполку, базировавшемся во Львове, шла замена боевой техники. Старые машины сдали, а новых получили пока что лишь пятнадцать – для освоения. Неужели в таком же положении и другие авиаполки? Часа через полтора, когда я прочитал у Немцова на слух записанное правительственное радиосообщение, мне стало несколько яснее. Как видно, многие самолеты были уничтожены на аэродромах. Тем более, что аэродромы эти часто оборудовались в непосредственной близости к границе. В этом принимали участие и люди из нашего корпуса. Помнится, еще тогда Рябышев ворчал:
– На кой шут под самым носом у Гитлера делать аэродром?
Прибыв на место, я с радостью узнал, что дивизия Васильева, рассредоточенная в лесу, совсем не пострадала от бомбежек. Но командиры беспокоились за семьи, оставшиеся в военном городке. Они видели, как на городок пикировали бомбардировщики и взмывали вверх, словно подброшенные тугими, черными клубами.
Каждую минуту ко мне кто-нибудь обращался с вопросом: что творится в городке? Я хорошо понимал тревогу командиров, которым предстояло вот-вот идти в бой. Но помочь им не мог. Я не заезжал в городок и теперь очень жалел об этом.








