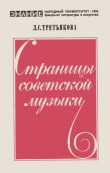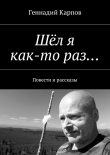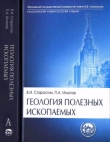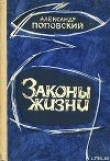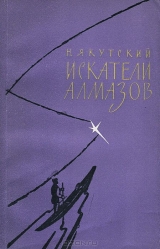
Текст книги "Искатели алмазов"
Автор книги: Николай Золотарёв-Якутский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
3. Квадрат Е-12
Большая жизнь лежала за плечами. Невозможно было узнать в маленьком сухоньком старичке с седой бородкой клинышком, в черной академической шапочке прежнего румяного, русоволосого приват-доцента Великанова, Владимир Иванович имел взрослых внуков.
Революцию он принял без колебаний. «Бал кончился, – вспомнились ему слова учителя, – начинается работа». Много работы выпало на его долю в годы первых пятилеток. Он исколесил всю страну. Переваливал через горные кряжи, продирался сквозь дебри, никогда не видевшие человека. Он искал железную руду, медь, свинец, нефть. Он много сделал для своего народа и мог бы успокоиться: жизнь прожита не даром. Ученый мир высоко оценил его заслуги в области открытия новых месторождений. После войны его избрали академиком. Но беспокойство, странное, гнетущее беспокойство застряло в душе, словно заноза. Оно мучило его уже около полувека, с того памятного дня, когда он, самонадеянный юноша, приехав из Парижа со Всемирной выставки, произнес перед Федотовым клятвенные слова: «Я найду их!»
Иногда, в периоды особенного увлечения работой, беспокойство затухало, как бы пропадало совсем, но потом с новой силой овладевало душою ученого. Сибирские алмазы стали его главной жизненной задачей. Он говорил о них всюду, где была хоть какая-нибудь возможность, так что коллеги иногда подшучивали: «Вы, Владимир Иванович, уподобились Катону Старшему с его знаменитым «Карфаген должен быть разрушен», на что Великанов неизменно отвечал: «Но ведь Карфаген-то все же был разрушен».
Он торопился. Немного дней осталось ему ходить по земле, а так хотелось увидеть, подержать в руках алмазы, владевшие его воображением со времен далекой юности. Он много сделал для организации экспедиции к берегам Нижней Тунгуски.
Возраст не позволял ему принять и ней участие, но он добился, что возглавил экспедицию его ученик Федул Семенов, не менее учителя преданный идее открытия сибирских алмазов.
Тем временем Владимир Иванович занимался другим, не менее важным делом. Его включили в комиссию по составлению геологической карты Советского Союза. Дело это было новое и нелегкое. Требовалось изучить десятки тысяч аэрофотоснимков, определить геологическую структуру многих территорий, по которым еще не ступала нога человека. И все это для того, чтобы в конце концов установить возможность залегания полезных ископаемых.
Рассчитанная на двадцать лет работа комиссии подготовляла базу для будущих грандиозных пятилеток, семилеток, десятилеток, для грядущего коммунистического размаха народного хозяйства.
В распоряжении комиссии имелись аэрогеодезические предприятия, оснащенные новейшей техникой, специально оборудованными самолетами. Глаз фотообъектива проникал в самые отдаленные, труднодоступные районы страны. Горы, покрытые дремучими лесами, ледники, непроходимые ущелья, долины бурных рек, запечатленные на фотобумаге, покорно ложились на столы ученых.
Занятый неотложными делами, Владимир Иванович не переставал думать о далекой Амакинской экспедиция: «Дорогой друг Федул, как, чем помочь тебе? Промывка породы по берегам рек – занятие неблагодарное, много в нем от старозаветной кустарщины, а сколько энергии затрачивается попусту! Вы напоминаете слепца, который ползает под яблонями в поисках опавших плодов, в то время как тысячи спелых яблок висят над головой его.
Необходимо искать кимберлитовые трубки, эти своеобразные кладовые природы, хранящие в своих недрах огромные запасы созревших еще миллионы лет назад ценнейших плодов – алмазов. Найти их – значит устранить кустарщину, значит придать делу промышленный размах».
Владимир Иванович занялся в свободные часы изучением иностранных геологических карт. Особый интерес у него вызвали аэрофотоснимки алмазоносных районов Конго. Рассматривая их, он пришел к неожиданному и многообещающему выводу: кимберлитовые трубки, то есть жерла древних вулканов, можно определить по их очертаниям на местности.
Через день после того как он сделал это открытие, из Якутского аэрогеодезического пункта в его лабораторию поступила планшетка квадрата Е-12 с координатами широты и долготы. Владимир Иванович сверил координаты по карте: планшетка заключала в себе снимки участка речки Далдын, что в бассейне Вилюя.
Волнуясь, он скомандовал лаборанту:
– Пленки Е-12 немедленно в стереоскоп.
Лаборант, худощавый молодой человек с соломенно-желтыми волосами, начал возиться около стереоскопа. «Господи, как он медленно!» – поморщился Владимир Иванович и, по-молодому сорвавшись с места, принялся спускать черные шторы на окнах.
– Владимир Иванович, да я сам… – начал было лаборант.
– Дождешься вас, – сварливо отозвался академик, с азартом дергая непослушные шнурки.
В лаборатории наступила абсолютная темнота. Но вот в стереоскопе вспыхнули сильные лампы. На экране, занимающем целую стену, появился увеличенный в несколько сот раз кадр пленки: берег реки, покрытая кустарником местность.
– Увеличьте еще.
Кадр расширился. У Владимира Ивановича было такое ощущение, словно он парит над этой местностью, постепенно опускаясь до высоты птичьего полета. Вот уже хорошо стали видны отдельные деревья, кустики ерника и даже кочки.
Он долго всматривался в очертания рельефа. Сильные лампы стереоскопа нагрели воздух, в лаборатории сделалось жарко.
– Дайте второй кадр.
Изучение второго кадра длилось долго. Но сколько ни всматривался в него академик, ничего, даже намеков на овальные очертания кратера, обнаружить не удалось. Третий и четвертый кадры также не принесли ничего утешительного.
Но лишь поставили пятый, Владимир Иванович стремительно сорвался с места, подбежал к экрану.
– Смотрите! – воскликнул он, обращаясь к лаборанту. – Разве это не напоминает круг?!
На экране – участок лесотундры. Кочки, чахлые деревца, кустарники… Едва заметная, прерывистая неровность. После того как Великанов соединил участки кругообразным движением руки, она действительно стала напоминать кольцо.
– Ну, что скажете?
– Н-не знаю, Владимир Иванович. Вроде и верно, похоже на кольцо…
Великанов отошел от экрана.
– Теперь, друг мой, вот о чем я вас попрошу. Принесите-ка аэрофотопленку окрестностей селения Кимберли в Бельгийском Конго…
Через несколько минут лаборант вернулся с нужной пленкой, заправил ее в стереоскоп. На экране появился пустынный ландшафт, лишенный всякой растительности. В правом нижнем углу прерывистая кольцеобразная неровность.
– Ну, что я вам говорил, разве не то же самое?! – торжествующе потирая руки, воскликнул академик. – Поставьте для наглядности оба кадра рядом.
На экране два участка земной поверхности: лесотундра и знойная тропическая пустыня. Кольцо на первом кадре выражено менее четко, но оно несомненно есть.
– Видите, почти одинаковые очертания. Тут кольцо и тут кольцо… Что вы скажете на это?
Лаборант коротко усмехнулся:
– Владимир Иванович, зачем вам понадобились эти кольца?
– Как?! Да ведь это кимберлитовые трубки!
– А что такое кимберлитовые трубки?
Владимир Иванович приложил ладонь ко лбу, засмеялся:
– Совсем забыл… Ведь вы не геолог. Тут, видите ли, дело касается алмазов. В Бельгийском Конго, как, впрочем, и в других местах, их добывали из песка и галечника по берегам рек. Считали, что там они и образуются. Промывая галечник и двигаясь вверх по течению небольшой речушки, старатели дошли до селения Кимберли. Выше него по реке не было найдено ни одного кристалла. Вернулись к селению и в окрестностях его наткнулись на голубоватую породу. Попробовали промывать – обнаружили алмазы. По имени селения назвали голубоватую породу кимберлитом. Оказалось, что кимберлит уходит глубоко в землю этакими круглыми столбами, сужающимися внизу и расширяющимися кверху в виде воронки. Исследования показали, что воронки эти не что иное, как жерла древних вулканов. Очертания их можно увидеть на местности, в чем мы с вами и убедились. А заполняющий их кимберлит – масса, некогда поднявшаяся из недр земли и застывшая. В ней-то и образовались алмазы, эти сгущенные и затвердевшие под воздействием страшного давления капельки углерода. Стало быть, кимберлитовые трубки и есть коренные месторождения алмазов. И не исключено, что сегодня мы с вами открыли одно из таких месторождений на нашей северной речке Далдын.
Лаборант ошеломленно смотрел на Великанова.
– Неужели… сейчас вот… мы открыли… алмазы?..
– Именно, молодой человек. Надеюсь, вы понимаете, как это важно? Завтра я приглашу сюда кое-кого из членов коллегии Министерства геологии, так что подготовьте все к демонстраций, чтобы, знаете, без лишней беготни. А сейчас просмотрим оставшиеся пленки…
Людно было в лаборатории на следующий день Наверное, самый захватывающий фильм никогда не смотрелся с таким интересом, нетерпением и напряженным вниманием, как эти неподвижные снимки сибирской лесотундры. Академик Великанов с указкой в руке стоял у экрана, давал пояснения. То и дело слышались возражения, вспыхивали споры. Просмотр длился четыре часа. Когда, наконец, погасли лампы стереоскопа, члены коллегии, вытирая платками раскрасневшиеся от духоты лица, перешли в кабинет Великанова. Здесь было вынесено решение: командировать Владимира Ивановича на Вилюй, в Амакинскую экспедицию для исследования квадрата В-12.
4. Овал
С аэродрома Владимира Ивановича повезли прямо в контору. Здесь в кабинете Семенова был приготовлен завтрак, на столе сиял пышущий жаром самовар.
Выпили по стопке разведенного спирта, и Великанов, с веселым лукавством кося глазами на Федула Николаевича, спросил:
– Ну-с, много нашли алмазов?
Семенов замялся: кровь прилила к его лицу, махнул рукой: не стоит, мол, об этом говорить.
За него ответил Белкин:
– Алмазов не видать. И сами не знаем, сколько сотен километров нами исхожено, сколько галечника промыто и переворочено, сколько пролито пота, сколько нашей крови выпито комарами. А в результате несколько крошечных кристалликов, которые не могут идти в счет.
– Почему не могут? – весело возразил Великанов. – Если вы находите на поле сосновую шишку, то, стало быть, где-то поблизости должна расти сосна, с которой эта шишка упала. Нашли где нибудь на Мархе?
– Нашли, – как-то не совсем уверенно отозвался Федул Николаевич. Ему непонятна была веселость Великанова. «Издевается, что ли? Да нет, на Владимира Ивановича это непохоже».
– Отлично, – похвалил академик. – На Далдыне искали?
– В верховьях Мархи? Нет, не успели туда добраться.
– Прекрасно. – Великанов довольно потер ладонь о ладонь. – Прекрасно!
Семенов и Белкин недоуменно переглянулись. Что тут прекрасного?
Владимир Иванович придвинул к себе чашку с чаем, с хитроватым прищуром взглянул на одного, на другого.
– Н-ну-c, я вижу, мой оптимизм действует вам на нервы. Тогда слушайте…
И он рассказал о планшетке Е-12.
Все это было настолько неожиданным, удивительным и даже парадоксальным, что Федул Николаевич сначала растерялся. Помешал чай вилкой, поднес ее ко рту, заменив свою оплошность, потянулся за чайной ложкой, но на полпути раздумал, махнул рукой. Подумать только, они здесь, у себя, можно сказать, под боком не сумели найти коренного месторождения, а Великанов обнаружил его в Москве, за тысячи километров отсюда, хотя такие поиски вовсе не входили в его прямые обязанности. Удивительные сюрпризы преподносит жизнь!
– Если бы не вы рассказали, Владимир Иванович, не поверил бы.
Великанов отодвинул табуретку, сгорбившись, поднялся. Только теперь Федул Николаевич заметил, что старик устал, что нелегко ему дался перелет из Москвы.
– Пойдемте ко мне, Владимир Иванович, вам отдохнуть надо.
– Хорошо. А сейчас свяжитесь с аэродромом. Завтра летим на Далдын, в квадрат Е-12.
Утро выдалось солнечное, погожее, без единого облачка на ясном небе. Воздух чистый, прозрачный, какой бывает только на Севере. Ни тумана, ни дымки.
Самолет ПО-2 взлетел с аэродрома и на небольшой высоте пошел вдоль Вилюя. Внизу мелькали елани, озера. На юго-восточных террасах поймы кое-где торчали стены полуразрушенных юрт – остатки юртовищ. Скоро на берегу Вилюя показался стройный ряд новых домов. Великанов набросал на клочке бумаги: «Какое селение видно внизу?» – и подал записку сидевшему рядом Семенову.
«Колхозный поселок», – ответил тот.
«Вот почему заброшено старое юртовище, – понял Владимир Иванович. – Якуты переселились в новый поселок и организовали колхоз».
Крестообразная тень самолета скользила по пашням, по лугам, утыканным стогами сена.
Впереди показалось большое селение. На окраине его – корпуса с длинной заводской трубой.
– Какое селение пролетаем? – крикнул Владимир Иванович в ухо Семенову.
– Эльгяй!
Великанов развел руками. Не может быть! В Эльгяй он заезжал в 1910 году, когда возвращался в Петербург. Деревянная церквушка, рядом три юрты – вот и весь поселок. А теперь… По улице, поднимая клубы пыли, катит легковая автомашина, около корпусов в ряд стоят, поблескивая гусеницами, трактора. Наверное, там расположена МТС… Да, неузнаваемо изменился когда-то дикий край. Если бы тогда, в 1910 году, Великанову сказали, что здесь будет через сорок лет, он счел бы это досужей фантазией…
Вилюй свернул в столону, самолет пересек плато, изрезанное лесистыми падями, вышел на Марху. Срезая изгибы реки, пролетели селение Малыкай и взяли курс строго на север. Лес все более редел, затем стали попадаться лишь редкие колки и отдельные деревца. Вступили в зону лесотундры.
От одинокой хижины, что прижалась к берегу Мархи, самолет круто свернул на запад. Пилот достал, из планшета листок бумаги и написал красным карандашом: «Вступаем в квадрат Е-12, наблюдайте!»
Пассажиры прильнули к окнам. Внизу – типичная лесотундра с ее желтыми редкими плешинами, болотами и кочками, далеко разбросанными куртинами низкорослых чахлых деревцев.
Самолет снижается до двухсот метров. Видны отдельные кочки, кустики, камни, упавшие деревья. Но овальных кратеров пока нет.
Владимир Иванович вспомнил, что аэрофотоснимки этой местности были сделаны с высоты 500 метров. Подал пилоту записку: «Поднимитесь до 500 метров». Земля начала уходить вниз Стрелка высотомера поползла по шкале и остановилась на пятистах.
Великанов не отрывал от земли глаз. С полукилометровой высоты была видна обширная площадь. На юге – тайга, на севере – травянистая равнина. Впереди показались неровности, напоминающие овал. По мере приближения овал проступал все более явственно. От напряжения у Владимира Ивановича выступили на глазах слезы. Он поспешно вытер их и подумал, что, может быть, овал возник в его воображении, может быть, он начал галлюцинировать. Он решил ничего не говорить пилоту и Федулу Николаевичу. Если они ничего не заметят, значит, действительно галлюцинация, Самолет лег на обратный курс. И снова внизу овал. Летчик передал записку: «Вижу что-то похожее на круг. А вы?» Не успел Великанов ответить, как Федул Николаевич тронул его за руку, кивком указал вниз и пальцем нарисовал в воздухе круг: дескать, вижу.
Душа старого ученого ликовала. Нашли! Он подал пилоту записку: «Домой!»
Самолет свернул на юг и через несколько часов приземлился на Сунтарском аэродроме. Как только затих шум мотора, пилот обернулся и протянул Великанову руку.
– Поздравляю вас. Я видел этот круг.
– Я тоже видел, Владимир Иванович, – возбужденно поблескивая глазами, сказал Семенов. – Кимберлитовая трубка существует.
– Во всяком случае, необходимо пощупать этот странный овал, – сказал Великанов, вылезая из самолета. – Первоочередная задача – найти посадочную площадку в квадрате Е-12. Немедленно отправимся туда с поисковой партией.
В тот вечер слова «Академик Великанов нашел кимберлитовую трубку» не сходили с уст участников экспедиции.
5. Хозяин болот
Через два дня летчик нашел ровную площадку близ горы Сарын и посадил на ней самолет. До речки Далдын отсюда путь не близкий, но пришлось с этим мириться. К горе Сарын начали забрасывать людей и технику. Первым самолетом летели Великанов, проводник Васильев, мастер Мефодий Трофимович и двое рабочих.
Через час после прибытия у подножия горы Сарын раскинулся лагерь. Застучали топоры, запылал костер, запахло дымом.
На следующий день прилетел Федул Николаевич с остальными работниками отряда. Около суток ушло на сборы, на подгонку снаряжения. С восходом солнца отряд тронулся в путь. Приходилось обходить болота, поэтому солнце оказывалось то спереди, то сзади, то справа, то слева. В полдень солнце скрылось за облаками. Теперь даже по компасу трудно было определить, в каком направлении шел отряд. Пришлось целиком положиться на опыт и особое «охотницкое» чутье проводника.
Александр Васильев часто останавливал отряд, а сам уходил вперед на разведку. По признакам, знакомым ему одному, по очертаниям кустарника, по преобладанию того или иного вида травы, по ее наклону он безошибочно угадывал сухие проходы среди болот и нужное направление.
Из одной такой разведки он вернулся промокший до витки: провалился в яму с холодной водой. Останавливаться на ночлег и разводить костер еще не пришло время, и Александр больше всего боялся, что из-за него может произойти непредвиденная задержка.
Вечером на привале он почувствовал озноб и не отходил от костра. Ночью разболелась голова, начался жар. Утром он поднялся наравне со всеми. Преодолевая слабость и стараясь скрыть ее от других, двинулся вперед. Стало как будто легче. Вскоре он вывел отряд к неширокой безымянной речке. Метрах в двухстах, на опушке низкорослого леса, над рекой стояла бревенчатая избушка, покрытая, подобно якутской юрте, шкурами. Избушка вдруг расплылась в глазах Александра, качнулась в одну сторону, потом в другую и начала переворачиваться. Подоспевшие товарищи подхватили Васильева на руки. Он был без сознания.
– В избу его! – распорядился Семенов.
Из избушки навстречу путникам вышел старик якут в заячьем малахае. У него было сухое, покрытое мелкой сеткой морщин лицо, вислые седые усы, жиденькая бородка; ввалившиеся глаза под седыми бровями смотрели не по-стариковски внимательно и остро.
– Мы к тебе в гости, отец. Пустишь? – с трудом подбирая якутские слова, сказал Федул Николаевич.
– Добро пожаловать, товарищи, – по-русски ответил старик.
Александра положили на широкую лавку, раздели. Его осмотрел фельдшер отряда.
– Жесточайшее воспаление легких, – сказал он.
– Сколько времени потребуется, чтобы поднять его на ноги? – спросил, Федул Николаевич.
– Недели две.
Начальник экспедиции помрачнел. Великанов взял его под руку, вывел на крыльцо.
– Надо искать какой-то выход, Федул Николаевич.
– Да, две недели мы ждать не можем. И как его угораздило заболеть?
Наступило молчание.
– Я вот о чем думаю, – заговорил наконец Великанов. – Не взять ли пока проводником старика? Вероятно, здешние места он знает неплохо.
– Так-то оно так, – в раздумье сказал Семенов, – но вы же понимаете, Владимир Иванович: мы избегаем брать в экспедицию случайных людей. Мы ищем алмазы.
Великанов улыбнулся.
– Что же, если у нас нет анкетных бланков, ничто не помешает нам устроить ему устную анкету.
Федул Николаевич сошел с крыльца, окинул взглядом избушку, словно ее внешний вид что-то мог сказать о характере, наклонностях и политических убеждениях хозяина.
– Ладно, – согласился он, – пойдемте устраивать анкету.
В избушке было тесно. Рабочие сидели прямо на полу (стол оказался мал, да и сидеть было не на чем), уплетали жаренную на рожнах рыбу, запивая ее чаем из почерневшего от времени чайника. Ели с аппетитом, похваливая кулинарные способности старого якута. Над глинобитной печкой сочилась паром мокрая обувь. Тепло, уютно казалось в избушке после ночевок под открытым небом.
Мефодий Трофимович, наливая четвертую кружку чая, обратился к хозяину:
– Спасибо за привет, дедушка! А мы ведь к амаке в гости наладились. Уж он-то, поди, не догадался бы нас хлебом-солью встретить. Давно тут живешь?
– Э-э, давно, – безучастно отозвался старик.
– Что же ты место такое неподходящее выбрал, болота кругом?
– В болотах дичи мною.
– Много и вся твоя. Верно? – поддакнул кто-го из рабочих. Все засмеялись.
– Выходит, ты, дедушка, вроде как хозяин здешних болот?
Едва заметная тень пробежала по лицу старика.
– Какой я хозяин? Ты пришел – тоже хозяин.
Семенов и Великанов сели к столу рядом со стариком.
– Давайте познакомимся, – сказал, протянув руку, Федул Николаевич. – Начальник экспедиции Семенов. А это ученый человек, академик Великанов.
– Павлов моя фамилия, – отозвался старик.
У Великанова дрогнуло лицо.
– Как вы сказали? Павлов?
– Так, начальник.
– А имя-отчество?
– Алексей Павлович.
– Жили на Большой Ботуобии?
– Жил.
– Батюшки, вот так встреча! Дорогой вы мой, вот не ожидал, не ожидал…
Они обнялись.
Старый академик почувствовал на глазах слезы, в горле першило. Далекой молодостью пахнуло на него. Весна 1910 года… Дорога на Мурбай… Каюр Дороппун… медвежье мясо… обширный двор старшины… путешествие на Чону…
– Дорогой вы мой… Живы! Я вот тоже еще попираю землю… Сколько лет прошло, боже мой!.. Как я вам рад!..
Павлов улыбался, большим пальцем вытирал уголки глаз.
– Я тоже рад, Владимир Иванович. Ты теперь большой начальник, во старая дружба, говорят, не ржавеет.
– Именно, именно, дорогой друг. Но как же я вас сразу не узнал?!
– Да ведь сколько годов прошло… Я тоже вот сплоховал.
Они стояли обнявшись, два старика, одни в новенькой телогрейке и огромных, похожих на ботфорты болотных сапогах, другой в синей ситцевой рубахе и мешковатых лосевых штанах. Окружившие их плотным кольцом рабочие улыбались задумчиво, словно каждый вспоминал свое.
На миг наступила тишина, и все услышали стон.
– Пришел в себя, – сказал фельдшер.
Владимир Иванович подошел к больному.
Александр увидел его, приподнялся, намереваясь встать, но тут же уронил голову на подушку. Лицо его пылало, дышал он учащенно, с хрипом. Разжал слипшиеся губы, слабо улыбнулся, сказал:
– Всю войну прошел, в болотах сутками лежал, через Днепр в ноябре переправлялся – сухого места не осталось. И даже насморка не подхватил. А тут… Черт знает что… – проговорил он, слаб» улыбнувшись.
Великанов положил руку ему на лоб.
– Лежите спокойно. Все будет хорошо.
– Как же теперь без меня?
– Об этом, товарищ Васильев, не беспокойтесь.
Через четверть часа Великанов, Семенов и Павлов уединились в тесном чуланчике, видимо служившем хозяину кладовой.
– У нас к вам, Алексей Павлович, важное дело, – начал Великанов. – Во-первых, хорошо ли вы знаете верховья Мархи?
– Как не звать! Тут что ни тропка, то я проложил. Кто лучше меня знает?
«Старик для экспедиции – находка, если, конечно, не хвастает», – подумал Семенов, а вслух сказал:
– Трудно все-то знать, одних речек да ручейков, поди-ка, больше сотни.
Старик усмехнулся снисходительно, как человек, услышавший лепет ребенка, и, не сходя с места, пошел перечислять ему все притоки, ущелья, сопки, пороги и водопады в радиусе пятидесяти-шестидесяти километров.
– Здорово! – восхищенно заулыбался Семенов. – Да ты, дорогой товарищ, просто ходячая географическая карга. Тогда вот что. У вас случилось несчастье. Видел больного парня? Это ваш проводник. Не мог бы ты, Алексей Павлович, поработать вместо него? Хороший оклад положим, обмундирование, питание. А?
– Я полностью присоединяюсь к просьбе Федула Николаевича, – сказал Великанов.
У старика под седыми бровями хитровато и умно блеснули узенькие щелочки глаз.
– Нанимаете, а, однако, не говорите, зачем в тайгу пришли.
Федул Николаевич насупился, любопытство старика ему не понравилось.
Павлов живо повернулся к Великанову.
– Опять за алмазами? А? Владимир Иванович?
Великанов никогда не был дипломатом, не умел уходить от прямо поставленных вопросов. Да и к чему, собственно, скрывать в данном случае?
– Да.
Старик опустил глаза, помолчал, потом сказал:
– Ну, что же… работать у вас буду. Когда вести?
Великанов смущенно погладил бороду.
– Алексей Павлович, мы вам вынуждены будем доверить государственную тайну. У нас сейчас нет возможности обставить это дело необходимыми формальностями, но вы дадите обязательство не разглашать ее. Понятно?
Павлов утвердительно кивнул.
– Прекрасно. Вы умеете читать карту?
Павлов опять кивнул. Лицо его оставалось равнодушным, и весь он, сидящий прямо и неподвижно, напоминал сейчас деревянного идола.
– Федул Николаевич, покажите карту.
Семенов достал из планшета, оставшегося у него еще с фронта, вчетверо сложенный лист, развернул. Под верхним обрезом карты стоял гриф: «секретно».
– Вот река Далдын, а вот точка. – Федул Николаевич ткнул пальцем в кружок, сделанный карандашом, – в которую мы должны прибыть. Доведете?
Павлов, не отвечая, склонился над картой. Он долго всматривался в кружочек, он запоминал. Река Далдын пересекает карту наискосок. Первая, вторая, третья, четвертая излучины… Внутри восьмой излучины заветный кружочек.
Павлов оторвал взгляд от карты и сказал:
– Доведу. Одна ночевка будет.
Вечером, укладываясь спать в чуланчике, Великанов говорил Федулу Николаевичу:
– Что ни говорите, батенька, а нам повезло, что мы встретили Павлова.