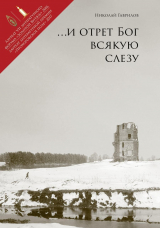
Текст книги "И отрет Бог всякую слезу"
Автор книги: Николай Гаврилов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
VI
Минск начали бомбить утром двадцать четвертого.
Около восьмидесяти немецких бомбардировщиков подлетели к Минску со стороны солнца. По всему городу был слышен тяжелый гул и непрерывные раскатистые звуки взрывов. Со стороны завода имени Мясниковича в небо поднимались огромные черные клубы дыма. Рушились, обваливались дома. Радио замолчало. Горел железнодорожный вокзал. Горели магазины, склады, детские садики. На улицах лежали убитые. Это был самый страшный для Минска день со времен его основания.
Руководство города не успело составить план эвакуации. За прошедшую ночь были отправлены только несколько битком набитых составов, остальные поезда остались на запасных путях. Возле одной из платформ горящего вокзала на рельсах лежали перевернутые, искореженные вагоны пассажирского поезда, в который должны были погрузить детей из детских домов. Дети до вокзала так и не доехали, все три автобуса горели сейчас на улице Советской. Возле одного из автобусов лежала мертвая женщина, заведующая воспитательной частью, из ее спины был вырван кусок мяса, а стеклянные глаза неподвижно смотрели на пролетающие над улицей самолеты. Какой-то случайный, безымянный парень, несмотря на близкие удары бомб, вытаскивал детей из горящих автобусов, и живых и мертвых, и на руках относил их в подвал стоящего рядом здания. Он не думал, что совершает первый в своей жизни подвиг, просто он не мог поступить иначе.
Так появлялись первые герои. Война мгновенно сорвала с людей все наносное, обнажая их суть. Теперь было уже не важно, кем ты был в прошлой жизни, какую маску носил в угоду обстоятельств, думая, что это и есть твое лицо. В подвале кроме этого парня находились и другие мужчины. Многие из них не считали себя трусами. Задним умом они тоже бы хотели выбежать под бомбы, спасать детей, если бы им дали время придти в себя. Но все они растерялись, а тот парень нет, словно всю жизнь готовил себя к этой минуте.
Первые часы город еще как-то сопротивлялся. Во время коротких передышек люди сносили раненых в ближайшие больницы и поликлиники, но скоро их некуда стало класть. В центральной поликлинике в коридорах вповалку лежали изувеченные люди, а растерянные, полностью осознающие свое бессилие участковые врачи закрывали руками уши, чтобы не слышать их криков. Какая-то женщина, безумная, растрепанная, в разорванном платье, пришла в поликлинику с мертвым годовалым ребенком на руках. Голова ребенка безвольно болталась, он был черным от крови и кирпичной пыли. Очевидно, женщина самостоятельно вытащила его из-под обломков рухнувшего здания. Ногти у нее были сорваны до мяса, глаза стеклянные, из ушей текла кровь. На нее кричали, но она ничего не слышала, и все пыталась показать ребенка пробегающим по коридорам врачам. Как призрак, она ходила по этажам поликлиники, заглядывая в каждый кабинет, ее безумные глаза умоляли, и невозможно ей было объяснить, что ее сын уже мертвый. Из-за лопнувших барабанных перепонок она ничего не слышала, да и не хотела слышать. Это страшно, когда родители переживают своих детей.
В конце концов, одна опытная, пожилая медсестра пожалела ее. Она ласково взяла из рук женщины мягкого, безвольного мальчика, покачала его, поговорила с ним, жестами объяснив матери, что пускай пока ребеночек побудет у них, что им надо сделать необходимые анализы, а завтра с утра пусть она приходит и забирает его обратно. Это подействовало, женщина с безумными глазами успокоилась.
Через минуту улицу, по которой она ушла, что-то шепча сама с собой, накрыло свистом падающих бомб и новой волной взрывов.
К вечеру улицы Советской и прилегающей к ней районов больше не существовало. Там остались только развалины, Возле разбитых магазинов валялись разбросанные и вспоротые мешки с мукой и сахаром, булки хлеба и кольца колбасы. Основная часть людей пряталась в подвалах, многих засыпало обломками. На предприятиях сегодня был обычный рабочий день, люди с утра ушли на работу, чтобы навсегда расстаться со своими семьями. На улице Комсомольской пятисоткилограммовая бомба пробила крышу многоквартирного жилого дома и взорвалась внутри. От дома осталась только фронтальная часть стены с почерневшими дырками окон. Возле рухнувшего дома, на совершенно пустой улице с визгом носилась комнатная собачка с поводком на шее, единственное живое существо, каким-то чудом сумевшее выбраться из-под завала.
Бомбардировка Минска продолжалась до самой полуночи.
Город горел. От такого удара городу было уже не оправиться.
Частный сектор почти не бомбили. Основными целями немецких летчиков были центр, железнодорожный узел, заводы и фабрики. На Сторожовке упало лишь несколько бомб. Одна из них свалила с фундамента старый бревенчатый дом, в котором никто не жил, другая разорвалась на улице возле Сашиного дома, выбив окна и срезав осколками телеграфный столб. Он продолжал висеть на обвисших проводах, не касаясь земли. Еще одна упала в переулке рядом с аптекой, но не взорвалась.
Саша с мамой и Иришкой, вместе с другими жильцами целый день просидел в подвале их дома. Отца с ними не было, отец ушел на завод еще до начала бомбежки. Мать Кости сидела рядом, неподвижно уставившись в какую-то точку на противоположной стене. Возле уголков ее рта четко обозначились скорбные складочки. Дневной свет просеивался в подвал сквозь отдушины, вырисовывая из полумрака мешки с картошкой и трубы в рваной стекловате. Где-то капала вода. Мать Кости сейчас думала только об одном; что может быть в эту самую минуту ее сын пришел домой, а дверь закрыта, и соседей тоже нет. Мысль об этом была настолько навязчива, что ей приходилось уговаривать себя не выйти из подвала. Все молчали, прислушиваясь к далекому, глухому рокоту взрывов.
В этот день слово «война» потеряла свое информативное значение, оно превратилось в реальность, и эта реальность оказалась страшной. Немцы не зря потратили столько бомб на гражданское население, страх волной шел впереди их войск, они победили город, еще не войдя в него.
Мама Саши переживала за отца, он представлялся ей лежащим где-нибудь на полу в пустом полуразрушенном цеху, придавленным балкой с обваленной крыши. Она пыталась унять воображение, отогнать всплывающие пред глазами картинки, но мыслям ведь не прикажешь, и теперь она искала в своем сердце полузабытого, не нужного с детства Бога, чтобы упросить Его помиловать семью. Саша несколько раз вставал, хотел выйти на улицу, попробовать пробраться на завод, но она тут же хватала сына за руку, безмолвно умоляя его глазами.
Лишь когда стемнело, Саша выбрался из подвала, дав матери клятвенное обещание не выходить за пределы двора.
Бомбардировка центра еще продолжалась. Город лежал в полной темноте, озаряемой красноватыми всполохами. Всполохи мигали в самых разных концах города, отзвуки взрывов сливались в один непрерывный тяжелый гул. Саша стоял в темном дворе и смотрел на вспыхивающее, ворчащее, мерцающее красным небо, какое бывает, наверное, только во время мировых катастроф. Все окраины и ближайшие деревни сейчас наблюдали за завораживающей своею жуткостью и величием панорамой гибнущего города.
Затем гул взрывов стих. Невидимые самолеты улетели, остались только отблески пожаров. Где-то в районе вокзала горело нефтехранилище. Высоко во мраке поднимался, вспыхивал, затем исчезал и вновь вспыхивал столб пламени. А сам город ослеп, исчез, растворился в темноте, на улицах не светился ни один фонарь, ни одно окно. Пусто, черно и тихо было вокруг. Через два часа в окнах кое-где зажглись свечи. Только когда обессиленные от ожидания жильцы стали один за другим покидать подвал, Саша уговорил маму отпустить его навстречу отцу. Мать уже не сопротивлялась, поддерживая рукой Иришку, она медленно поднялась в темную квартиру.
В этот страшный день растерялись многие семьи. Те, кто был на работе или на дачах за городом, возвращались ночью к своим домам, но домов больше не было. С этой ночи, и на много лет вперед, на уцелевших столбах и стенах забелели листки объявлений с именами пропавших мам, отцов, детей, бабушек и дедушек.
Улицы представляли собой сплошные завалы.
На углу Клары Цеткин и переулка Комаровки стоял пятиэтажный дом с маленькими балконами и арочным проходом во двор. Несколько прямых попаданий превратили этот дом в кучу битого кирпича, завалившего всю улицу. Дальше было уже не пройти. Теперь там горели костры, на верхушке кучи рылись какие-то люди, а на засыпанной обломками мостовой, касаясь друг друга, лежали два тела, – мальчика лет шести и женщины с раздавленной головой. Возле них сидел мужчина в окровавленной рубашке, в свете костра было видно, как он беззвучно раскачивается из стороны в сторону, закрыв лицо ладонями. Копающиеся на куче люди ему ничего не говорили, потому что нечего тут сказать. Все слова на свете сейчас лишние, и нужно лишь время, чтобы мужчина сам понял, как ему теперь с этим жить.
Саша не смог подняться по этой куче. Ему казалось, что он будет ступать по людям, лежащим сейчас под обломками. Нерешительно потоптавшись на месте, он повернулся и пошел обратно домой.
«Они бомбили двенадцать часов подряд. У них просто не могло быть такого количества самолетов, – с тоской думал он. – Непрерывно ведь бомбили…. Меняли в воздухе друг друга. Они заправлялись и загружались бомбами где-то рядом, на ближайших аэродромах. А значит, они уже совсем близко. Может быть, в ста километрах… Где же наша армия? Почему Минск остался беззащитным…?
– Папа вернулся? – с порога спросил он, зайдя в квартиру. Еще жила надежда, что они с отцом разминулись по пути.
– Нет, – ответила мать и заплакала.
VII
На следующий день все узнали, что армия оставляет Минск. Объездные дороги города заполнились частями отступающих с запада войск. Это был великий исход потерявших веру в себя людей.
В мареве солнца дрожал воздух над белорусскими полями, а по пыльным проселочным дорогам все шли, шли, и шли потоки солдат в защитных гимнастерках. Они шли молча, стараясь не смотреть в глаза стоящим на обочинах жителям. Тащили пушки, понуро бренчали походные кухни, среди толп медленно ехали штабные машины. Некоторые бойцы были ранены, забинтованы грязными окровавленными бинтами. Шаркали, топтали пыль многие сотни ног. Все было кончено. Армия уходила на восток.
– Бросаете нас, защитники, – кричали им жители окрестных деревень. – Свой народ немцу отдаете. Матерей и жен отдаете. Вояки сраные…
Уходящая армия несла c собой страх. Страх оказался заразен. Неизвестно, кто первый крикнул, что надо уходить вместе с войсками. Скорее всего, эта мысль пришла многим и сразу. Покатились слухи, разрастаясь как снежный ком. Говорили о немецком десанте, высадившемся в Заславле. И город тронулся. Открывались сброшенные на пол чемоданы, летели в них охапками нужные и ненужные вещи, хлопали дверки шкафов, вылетали ящики с буфетов, лихорадочно срывались и вязались в узлы занавески. Страх всегда заставляет бежать от опасности. Люди, которые утром раскапывали в развалинах тела своих родных и близких, сегодня днем хоронили их там же, под обломками, чтобы успеть уйти вместе со всеми.
Казалось, что уходят все, даже старухи, еще позавчера приросшие корнями к своим лавочкам. Многие сгибались под тяжестью чемоданов, еще не зная, что очень скоро им придется побросать вещи прямо на дороге, чтобы не отстать от остальных. Некоторые несли на руках грудных детей. Ощущение надвигающейся на город катастрофы ощущалось физически, на улицах властвовал страх, он прилипал как зараза.
Весь день в квартире Бортниковых царило тоскливое молчание. Ждали отца. Мама плакала. С утра Саша сбегал на завод, но ничего не выяснил. Завод был полностью разбомблен, некоторые цеха еще горели. Оставалось только ждать.
Саша не мог оставаться на одном месте, он все время вышагивал по комнате, на минуту замирая у окна, или присаживаясь на кровать, но тут же вставал, и снова начинал ходить взад-вперед, натыкаясь на углы шкафов и буфета. Никогда в жизни он не был так растерян. События сменяли друг друга слишком быстро, не давая возможности их осознать, и Саше казалось, что он постоянно находиться в каком-то затяжном сне. И как во сне, ему оставалось только наблюдать за происходящим со стороны. Отца не было, теперь ему самому надо было срочно принимать какое-то решение, но что мог решить семнадцатилетний мальчишка, когда терялись даже взрослые, сильные мужчины.
Судьба пришла ему на помощь в образе Семена Михайловича. Историк постучал в их дверь, вежливо поздоровался с мамой, а затем таинственным образом вызвал Сашу в коридор. Старик выглядел очень взволнованным.
– Я хотел поговорить с вами, Саша, – зашептал он, потирая подрагивающие руки, словно ему было холодно. – Не с вашей мамой, а именно с вами. Я хорошо знаю вашу семью. Я хотел вам предложить… В общем, ваш отец коммунист, и вам здесь лучше не оставаться. Вам лучше покинуть Минск.
– Мы не может уйти без отца, – удивленно ответил Саша.
– Да, да, я понимаю… – волнуясь, согласно закивал Семен Михайлович. – Но никто не знает, что будет в городе уже вечером …. Послушайте, Саша…. Через час за мной из Могилева заедет машина. На ней будут вывозить из города какую-то партийную документацию. Мой племянник устроил мне место в этой машине. С вещами, – старик на мгновение замялся, затем продолжил, четко, по делу. – Я хочу предложить вам с мамой и сестрой поехать вместо меня. Сестру мама усадит на колени, а вы займете место моих вещей. Это хорошее предложение. Думаю, что это может быть единственный шанс успеть покинуть город. Пешком с маленькой сестрой вы далеко не уйдете. Немцы двигаются быстрее…
Саша внимательно посмотрел на старика и с пронзительной ясностью увидел на его лице следы последних переживаний. Под глазами синели мешки, седые волосы потеряли свой благородный серебряный цвет, стали какими-то блеклыми, желтоватыми. Глаза казались выцветшими. Очевидно, решение далось Семену Михайловичу не просто.
– Но почему вы сами не хотите ехать? – тихо спросил он.
Семен Михайлович грустно улыбнулся:
– Я не глухой, я слышал, что Гитлер делает с евреями в Польше. Но…. Вы еще слишком молодой, Саша, чтобы это понять. У нас вот уже две тысячи лет как нет родины. Мы бездомные среди народов…. Но у меня родина есть. Здесь на городском кладбище лежат мои родители, моя жена. Я не хочу уходить от них. Это трудно объяснить…. Не думайте обо мне, Саша, принимайте мое предложение. Я один, мне шестьдесят семь лет, я могу себе позволить поступить, так как подсказывает мне моя совесть…. А вы уезжайте. Вы теперь старший. Спасайте свою мать и сестру….
Озвучив свое решение, старик говорил уже спокойно, даже устало. Есть люди, которые бегут от опасности, есть те, кто идет ей навстречу, но таких немного. Он же предпочел никуда не бежать, ждать ее в своей комнате с книгами, с чайником на примусе, со стареньким пледом, и пожелтевшими фотографиями на полке, на которых, остановив время, осталась его жизнь.
– Не беспокойтесь обо мне, Саша, – грустно повторил историк, – Это мой выбор. Я один. Уезжайте. Увозите свою семью.
И в этот момент Саша понял, как ему надо поступить. Предложение Семена Михайловича открывало возможности для самого правильного решения. Было, правда, ощущение какой-то нечестности по отношению к старику. Но Саша отогнал его от себя, интуитивно поняв, что иногда милость, это не только давать, но и принимать. От всей души поблагодарив доброго старика, он вернулся в свою комнату.
Теперь осталось только уговорить мать.
Вначале мама ничего не хотела слышать, поджимала губы, смотрела на сына как на предателя, который предлагает ей бросить отца. Потом снова плакала.
– Пойми, – убеждал ее Саша, – Такую возможность больше никто не подарит. Немцы идут! Ты никого не бросаешь, ты просто переезжаешь. У тебя же в Смоленске сестра, папа знает ее адрес, мы не растеряемся, мы наоборот соберемся там…. Мама! Подумай об Иришке…. Чем ты папе поможешь, если здесь останешься? Ему легче будет, если он будет знать, что вы в безопасности.
– Постой, – очнулась мать, – Ты что, хочешь остаться?
– Мама, на один день. На один день. Семен Михайлович сказал, что завтра еще будет машина, но там только одно место. Сегодня одно и завтра одно. Найду папу и сяду у него на колени, – вдохновенно врал Саша, стараясь не смотреть в испуганные глаза матери. – А если не найду, сбегаю к дяде Юре, к Воловичам, ко всем знакомым и оставлю у них записки со Смоленским адресом. Надо сделать все, что в наших силах. Есть же у него товарищи на заводе, с кем он был на заводе в тот день. Они должны что-то знать…. Мы должны использовать все шансы, чтобы его найти. Вы поедете первыми, а мы за вами. Сейчас не время плакать, мама. Главное, выбраться из Минска…. Вещи не надо брать, бери только самое ценное. От Могилева до Смоленска рукой подать, там вокруг наши, может быть, еще поезда ходят… Мама! Решайся! Другой такой возможности больше не будет.
– Нет. Мы будем ждать его здесь, – плакала мать.
Пришлось начинать все заново. Вскоре в комнату вновь постучался Семён Михайлович, сказал, что машина уже пришла и что ждать она не может.
– Мама! Всего один день! Если вы не уедете сейчас, мы не выберемся отсюда никогда. Может быть, папа ранен, может он не сможет идти пешком. А в следующую машину мы все не уместимся. Правда, Семен Михайлович…?! – повернулся к нему Саша.
Старик ничего не понял, но на всякий случай кивнул головой. И мама сдалась. В следующую минуту в комнате начались лихорадочные сборы. Полетели на пол ящики буфета. Саша торопливо одевал Иришку. Им маленьким хорошо, плыви как вода, куда направят взрослые. Главным было не дать опомнится маме. Пока они суетливо собирались, Семен Михайлович спустился во двор, – разговаривать с сопровождавшим грузовик военным.
– У меня документация. Речь шла только о вас, – орал вылезший из кабины задерганный военный, смотря на наручные часы. Семен Михайлович ему что-то объяснял. Кончилось тем, что военный в сильнейшем раздражении махнул рукой; мол «делайте, что хотите», и полез обратно в кабину. В кузове, на опечатанных ящиках, взгромоздив на колени чемоданы, уже сидело несколько человек. Одна женщина ехала с маленькой девочкой, ровесницей Ирины. Не давая никому придти в себя, Саша почти бегом подвел маму с сестрой к грузовику, подсадил мать на борт и быстро передал ей в руки Иришку. В следующий момент машина тронулась, навсегда оставляя в его памяти растерянные лица родных.
– Всего один день! Я обязательно найду папу. Ждите нас, – кричал Саша, побежав рядом с грузовиком. Затем машина вырулила из двора и, набирая скорость, скрылась за изгибом улицы. В тот момент Саша еще искренне верил в свои обещания.
Он не знал, да и откуда ему было знать, что сразу за Минском медленно едущий в толпе грузовик обстреляют немецкие самолеты, и водитель с простреленной головой повиснет на руле; что под Червенем дорогу перережут какие-то красноармейцы, странные красноармейцы, в новеньких гимнастерках и коротких немецких сапогах, говорящие по-русски с сильным акцентом; что военный, узнав о них, повернет машину в лес, где сожжет ее вместе документами, сам останется в лесу, а мама, Ириша и остальные пассажиры пойдут обратно в Минск.
Он не знал, что пройдет три дня, прежде чем они пробредут с детьми сорок километров до окружной дороги, но в Минск не пойдут, в Минске уже будут немцы. Минск опять будет гореть. Остальные попутчики разбредутся по ближайшим деревням, а мама с Иришкой, и вторая женщина с дочкой повернут на Ждановичи, к бабушке, маминой маме.
Всего этого Саша, конечно, не знал. Война скомкала, перетрясла, перетасовала судьбы людей, как колоду карт. Каждый следующий день, каждый следующий час таил в себе неведомое, и не надо было давать никаких обещаний, потому что это лишь слова, над которыми у человека нет власти; и да будет только «да» или «нет», а что сверх того, то от лукавого.
VIII
В ночь на двадцать шестое июня немцы высадили десант в районе Острошицкого городка. Десантники тут же захватили поле, пригодное для посадки самолетов. На этой площадке с самого утра, с интервалом десять-пятнадцать минут, началась высадка пехоты, тяжелого вооружения и легких танков. Вечером немецкие штурмовые отряды захватили станцию Смолевичи, перерезав Московское шоссе и прервав поток беженцев. Утром двадцать седьмого июня ими было перекрыто движение по Могилевскому шоссе в районе деревни Малое Стиклево.
Никто не понимал, да и потом не поймет, что творилось в эти дни в городе. К двадцать шестому в Минске не осталось ни одного руководителя высшего и среднего звена. Они уезжали тайно, а простых беженцев разворачивали назад заград. отряды, убеждая их не поддаваться панике и спокойно возвращаться в свои дома. Возле деревни Тростянец, какой-то низенький, усатый полковник, багровея, кричал, преграждая поток беженцев цепочкой солдат:
– Возвращайтесь в город. Минск никогда не сдадим. Вы слышите, – никогда!
А в это самое время в тихих переулках Опанского; держа автоматы на изготовке, уже передвигались немецкие солдаты штурмовых отрядов в серо-зеленых касках. Никто не понимал, что твориться в городе, каждый отдельный эпизод походил на мазок кисти на картине с очень близкого расстояния. Надо было отойти, собрать взглядом все мазки, чтобы увидеть полотно катастрофы целиком.
У Саши в поисках отца имелась только одна ниточка.
Как-то давно они заезжали к его товарищу, работавшему с ним в одном цеху. Сложность заключалась в том, что Саша не помнил его фамилии и адреса. Помнил только, что мужчина живет где-то в частном секторе в районе Татарских огородов, смутно вспоминался дом с белыми наличниками, и овчарка на цепи во дворе. Надо было обогнуть безлюдный парк с Комсомольским озером, и идти через всю Веселовку к Татарским огородам, в надежде, что память сама подскажет, куда ему идти дальше.
В переулках частного сектора суеты и паники чувствовалось гораздо меньше. Саша долго бродил по пустым улочкам, спрашивая изредка появляющихся за заборами людей о дяде Мише, или дяде Грише, работающим мастером на Кировском заводе. Люди пожимали плечами. Возле одного дома мужики выгружали с телеги товары из разграбленного магазина; по доскам они скатывали на землю бочку с растительным маслом, причем вид у них был самый довольный.
– Иди отсюда, парень, – коротко сказал один из мужиков, когда Саша обратился к ним с вопросом.
Только ближе к вечеру Саша нашел нужный ему дом. После длительных расспросов; «к кому», да «зачем», калитка открылась, и какая-то женщина провела его до крыльца мимо хрипящей от лая овчарки, но в дом не пригласила. Через минуту на крыльцо вышел тот самый дядя Миша.
– Говорят, всех коммунистов будут расстреливать, – словно извиняясь, сказал он, и Саша понял, что он тоже коммунист, и что он до смерти испуган.
Дядя Миша знал немногое. Когда началась бомбежка, все рабочие их цеха спрятались в подвале, заранее подготовленном под бомбоубежище. Но отца среди них не было, в составе отряда народной дружины он с самого утра ушел в город помогать раненым, и больше о них никто ничего не слышал. Может, они все погибли, заваленные осколками какого-нибудь здания, может, ушли вместе с отступающими войсками, а может, до сих пор патрулируют улицы. Можно, конечно, попробовать найти секретаря парторганизации, если он еще в городе, взять у него списки отряда, и пройтись по их адресам, но он, дядя Миша, помогать Саше сейчас не сможет. Ему надо оставаться дома. Так что пусть Саша сам, как-нибудь…
В словах дяди Миши читалась простая истина, – люди помогают друг другу, когда одному из них плохо, а всем остальным хорошо, тогда легко быть добрым, но вот когда плохо всем, тут уж каждый сам за себя.
Обратный путь на Сторожовку был безрадостным. Отца он не нашел, мать с сестренкой где-то в Могилеве, он в Минске, который вот-вот окажется отрезанным немцами. Меняющиеся с быстротой кадров в киноленте события раскидали их семью как по ветру, и если честно, Саша теперь совершенно не знал, что ему делать дальше.
В их квартире царил беспорядок быстрых сборов. Шкафы были открыты, ящики из комода вывернуты, на полу валялась брошенная впопыхах шубка Ириши. Без семьи комнаты оказались пустыми и чужыми. За окном наступали сумерки. Саша нашел на кухне кастрюлю с остатками толченой картошки, хлеб и луковицу. Ел при свете свечи. Электричества в городе не было. Надеялся, что вот-вот в коридоре хлопнет дверь, послышатся шаги и в комнату войдет живой и невредимый отец. Затем, не раздеваясь, задремал на родительской кровати.
Разбудил его звук боя. Отдавая по крышам эхом, где-то рядом длинно стучал пулемет. Отдернув занавеску, Саша напряженно вглядывался в темноту. Было видно, как пунктиры трассирующих пуль разделялись на красные светящиеся точки и медленно гасли в черноте неба. Затем пулемет умолк, еще какое-то время слышалось эхо одиночных выстрелов и коротких автоматных очередей. Вскоре смолкли и они. Бой длился всего несколько минут. Потом закипело в стороне Комаровки, там тоже застучало и замерцало красным, и тоже внезапно смолкло, словно оборвалось.
Такие короткие бои гремели в эту ночь по всем районам Минска. Более затяжной бой произошел еще вечером на площади Свободы, там сейчас горело два немецких бронетранспортера, а среди развалин обвалившегося кирпичного дома в разных позах неподвижно лежали девять красноармейцев, отстреливавшихся до последнего патрона.
В эту ночь немецкие армии группы «Центр» замкнули кольцо окружения, оставив в гигантском котле от Белостока до Минска почти полмиллиона советских солдат и офицеров. С тех пор кольцо окружения сжималось, как удав.
– «Они пришли», – думал Саша, прижавшись лбом к стеклу окна. – «Город уже их. Что же с нами будет…? Где папа, жив ли он? Где Костя? Тот мальчик, родители которого уехали в Гродно, тоже, наверное, сейчас сидит один в темной комнате, ждет шагов, ждет чуда…?
Утренний поступок уже не казался ему правильным. Поддался порыву, хотел подражать Семену Михайловичу, а на деле отправил мать и сестру одних на скитания в неизвестность. Мать, конечно, теперь с ума сходит. Он больше не заснул, ворочаясь до самого рассвета в скомканной постели. Рассвет застал его бледным, осунувшимся, но с твердо принятым решением. Как только забрезжил серый свет, он набил карманы кусками подсохшего хлеба, засунул под рубашку острый кухонный нож и, оставив квартиру открытой, вышел на улицу. Ему предстояло пройти триста пятьдесят километров до Смоленска, убедиться, что с мамой и сестрой все в порядке, затем записаться в добровольцы и, взяв в руки винтовку, отправиться на фронт.
Посмотрев в последний раз на свой дом с темными рядами окон, Саша повернулся и решительно зашагал по пустой улице в сторону выхода из города.








