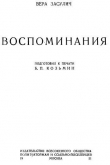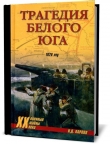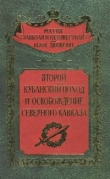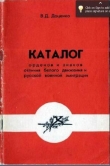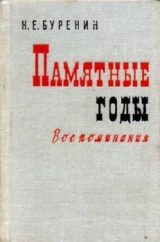
Текст книги "Памятные годы"
Автор книги: Николай Буренин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Резкая перемена произошла в жизни Александра Михайловича. Из профессионального революционера, жившего напряженной жизнью, полной приключений, ежеминутного риска, ему сразу надо было переключиться на роль беспечного богача, прожигающего жизнь за границей. Только что он спасался от русских шпиков – и вдруг Париж, богатый отель, свидание с царским консулом. Но отступать нельзя было. Князь Кугушев, выхоленный царский чиновник, принял богатого жениха вне очереди. Поигрывая золотым браслетом, он усадил Александра Михайловича в кресло в своем роскошном кабинете. Прежде всего он поинтересовался, знает ли Игнатьев Париж.
– Какие женщины! Какие лошади! Цветы! Пальчики оближете! Хотите, я буду вашим чичероне? Такие местечки покажу…
Александр Михайлович ответил, что все перечисленные соблазны его мало интересуют.
– Мне интересны музеи, театры, опера… Консул взял другой тон:
– А, понимаю, вы ме-це-нат, – протянул он. – Но почему вы женитесь на купчихе? – В тоне консула прозвучало презрение.
Очень хотелось Александру Михайловичу поколотить вылощенного князя, но надо было выдержать свою роль до конца. Жившие в Париже товарищи немедленно приняли участие в общем деле. Так, например, один из них, Саша Волковысский, ранее энергично работавший в боевой группе и бежавший от жандармов в Париж, взял на себя заботу приодеть “жениха”. Он повел его к лучшему портному.
Александру Михайловичу было неловко от проявленного к нему необычайного почтения. Француз обхаживал его со всех сторон, не знал, где и как посадить, расспрашивал о его капризах, стремился пойти навстречу малейшей прихоти заказчика. Александр Михайлович не понимал, почему ему оказывается такое внимание и, только получив шикарное пальто и сюртук, случайно выяснил причину любезности портного. Во внутренних карманах были вшиты ленточки с напечатанными на них фамилией владельца фирмы и именем заказчика: “Compte Ignatieff” (“Граф Игнатьев”).
Волковысский, так отрекомендовавший портному заказчика, сконфуженно объяснил, что ведь ничего плохого в этом нет, – он посоветовался с товарищами, и они решили, что “для дела хорошо, и портному удовольствие”.
Владимир Ильич Ленин принимал живое участие в этом деле. Александр Михайлович ездил к нему в Женеву. Владимир Ильич давал советы, как надо держать себя.
Венчание происходило по всем правилам в посольской церкви. Шафером был Михайлов, известный в подполье как “Дядя Миша”. Будучи еще студентом, он был приглашен репетитором к детям фабриканта Шмидта, и благодаря ему они прониклись революционными идеями.
При венчании произошел курьез. Когда священнику пришло время сказать “поцелуйтесь”, он посмотрел на Елизавету Павловну и сказал:
– Вы, очевидно, уже раньше поцеловались, но это ничего. Господь бог благословит ваш брак.
Родившийся впоследствии младенец, так же как и последующие дети, получил фамилию Игнатьев.
Для видимости на имя Александра Михайловича была снята и хорошо обставлена квартира в четыре-пять комнат, а Виктор Таратута числился “другом дома”, что для Парижа вполне естественно.
Фактически Александр Михайлович жил в каком-то захолустном доме, в комнатушке на седьмом этаже. У него постоянно ночевали товарищи, эмигрировавшие из России.
Следует отметить, что некоторые проекты Александра Михайловича, как человека увлекающегося, отличались и авантюризмом. Таким был проект похищения Николая II из Нового Петергофа.
Царский конвой состоял из уроженцев Кубани, главным образом из потомков запорожских казаков. Жили они в Новом Петергофе обособленно от всего остального населения. Надо сказать, что у конвойных царя были свои претензии к царскому двору. Их чувства страдали от того, что на высшие командные должности в казачьих войсках назначались представители русского дворянства, в том числе выходцы из остзейских баронов, причем они особыми актами вносились в списки казаков той или иной станицы.
До казаков доходили слухи, что молодая царица, немка по национальности, покровительствует немцам, делает их командирами, губернаторами. Конвойные были убеждены, что всё это делается без ведома царя, и хотели использовать свою близость ко двору, чтобы открыть царю глаза на всё.
Один из знакомых Александра Михайловича Игнатьева – Владимир Александрович Наумов – служил в конвое и предложил использовать настроение казаков для революционных целей.
Александр Михайлович говорил, что конвойные ему очень нравятся, что это самые красивые люди в Петербурге. С увлечением рассказывал он, как красавцы-конвойные, собирая к себе на “круг” окрестных кухарок и горничных, пели свои казацкие песни, танцевали лезгинку, гопак. Описывал их лица оливкового цвета, носы с горбинкой, белые зубы, блестевшие при улыбке. Постепенно Александр Михайлович завоевал доверие конвойных, которые охотно рассказывали ему о своей жизни. Они жаловались на “немчуру”, говорили о том, как презирают сновавших вокруг сыщиков. При случае конвойные били этих сыщиков смертным боем. “Эти сволочи переодеваются, – заявляли конвойные. – Подумаешь, барин с тросточкой, а мы грудью стоим за царя, сутками с коня не слезаем”.
Среди казаков образовалась инициативная группа, решившая приступить к действиям На эту группу и думал опереться Наумов через знакомого казака. Отец Наумова был начальником почтово-телеграфной конторы на даче “ее величества”, и квартира их входила в так называемую полосу оцепления. На дежурстве у Наумова постоянно находилось несколько казаков, и таким образом весь конвой хорошо знал его сыновей.
Возник такой план: написать воззвание к казакам, что царь-де обманут царицей, министрами-немцами, которые хотят его погубить, чтобы бесконтрольно править Россией. Необходимо раскрыть царю глаза. Это должны сделать казаки конвоя, как наиболее близко к нему стоящие. Так как он может им не поверить и остаться в угрожающей его жизни обстановке, то надо его “уворовать”, спрятать в надежном месте и рассказать обо всем происходящем.
Дворец со службами и окружающим парком был днем и ночью оцеплен конвоем. Ввиду того что братья Наумовы, так же как и дети некоторых других дворцовых служащих, сочувствовали революции, имелась возможность группе революционеров проникнуть в полосу оцепления и, находясь там, привести свой план в исполнение.
Рассчитывали на то, что воззвание вызовет возмущение казаков против высших начальников конвоя и требование удалить этих чуждых имофицеров-аристократов. В назначенный день инициативная группа должна была занять дежурные посты и захватить в свои руки царя.
К этому времени намечали приготовить буер, лучший в Новом Петергофе, принадлежавший сыну одного из дворцовых служащих. Группа революционеров должна была отбить у казаков царя, посадить его на буер и доставить в течение нескольких минут к берегам Финляндии, где уже ждали бы лошади из имения Ахи-Ярви.
Недалеко от Ахи-Ярви, в глубоком лесу, находился дачный участок некоего Денисова, с сыном которого, анархистом, Александр Михайлович сговорился снять дачу для революционных целей, не говоря, для каких. Для всех окружающих, как и для отца Денисова, на даче должна была поселиться семья, один из членов которой был буйно помешанный, чтобы таким образом можно было избежать посещения любопытных. О присутствии на даче помешанного было предварительно переговорено и с полицейским в Кивинапа (чтобы не было, как ему было сказано, “недоразумений”).
Прежде чем приступить к осуществлению этого проекта, Александр Михайлович обратился за разрешением к Владимиру Ильичу. Ленин передал Александру Михайловичу свое категорическое запрещение, заявив: “Не время тратить на авантюры силы, которые пригодятся на планомерную работу”.
Это не помешало, однако, Владимиру Ильичу с большим уважением относиться к А. М. Игнатьеву.
Как известно, А. М. Игнатьев проявил себя и как талантливый изобретатель. В годы первой мировой войны, находясь в армии на передовых позициях, он сконструировал оригинальный прицельный прибор для стрельбы по воздушным целям. В то время царская армия подобными приборами не располагала. Огонь по самолетам противника вели с помощью обычных полковых пушек, которые были установлены на деревянных поворотных кругах, сколоченных из шпал. Эти пушки стреляли без специальных прицелов и никакого вреда вражеским самолетам не причиняли.
Казалось бы, командование царской армии должно было ухватиться за изобретение Игнатьева. Началась, однако, обычная волокита, представлявшая собой прямое предательство. Только к концу 1916 года аппарат, сконструированный Игнатьевым, был изготовлен кустарным способом. Главное артиллерийское управление царской армии наконец рассмотрело его и признало самым лучшим из всех зенитных прицелов, известных в то время. К изготовлению таких прицелов собирались приступать на Петроградском артиллерийском заводе. Но так и не собрались. Лишь после победы Октябрьской революции взялись за это дело.
Еще до Октября Александр Михайлович говорил товарищам, что его прибор понадобится социалистической республике для обороны от вражеской авиации. Его слова оправдались. Изобретением А.М. Игнатьева заинтересовался Владимир Ильич Ленин. Среди бумаг Александра Михайловича уже после его смерти мною был найден следующий документ, подписанный Владимиром Ильичом:
“Тов. Аралову (или его заместителю).
Податель – тов. Александр Михайлович Игнатьев, о котором я с Вами говорил. Всё и быстро сделайте для него” (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 6961).
Семен Иванович Аралов был заведующим оперативным отделом Реввоенсовета республики. В записке В. И. Ленина идет речь о том, чтобы Александру Михайловичу Игнатьеву была оказана всемерная помощь в развитии и реализации его изобретения. Воодушевленный поддержкой Ильича, изобретатель принялся за работу.
В известных воспоминаниях А. М. Горького “В. И. Ленин” рассказывается о том, как Владимир Ильич встретился с А. М. Игнатьевым в Главном артиллерийском управлении:
“В сумрачной комнате, вокруг стола, на котором стоял аппарат, собралось человек семь хмурых генералов, все седые, усатые старики, ученые люди. Среди них скромная штатская фигура Ленина как-то потерялась, стала незаметной. Изобретатель начал объяснять конструкцию аппарата. Ленин послушал его минуты две, три, одобрительно сказал: “Гм-гм!”– и начал спрашивать изобретателя так же свободно, как будто экзаменовал его по вопросам политики:
– А как достигнута вами одновременно двойная работа механизма, устанавливающая точку прицела? И нельзя ли связать установку хоботов орудий автоматически с показаниями механизма?
Спрашивал про объем поля поражения и еще о чем-то, – изобретатель и генералы оживленно объясняли ему, а на другой день изобретатель рассказывал мне:
– Я сообщил моим генералам, что приедете вы с товарищем, но умолчал, кто-товарищ. Они не узнали Ильича да, вероятно, и не могли себе представить, что он явится без шума, без помпы, охраны. Спрашивают: “Это техник, профессор? Ленин?” Страшно удивились: “Как? Не похоже! И-позвольте-откуда он знает наши премудрости? Он ставил вопросы как человек технически сведущий! Мистификация!” Кажется, так и не поверили, что у них был именно Ленин…
А Ленин по дороге из ГАУ… говорил об изобретателе:
– Ведь вот как можно ошибаться в оценке человека! Я знал, что это старый честный товарищ, но – из тех, что звезд с неба не хватают. А он как раз именно на это и оказался годен. Молодчина! Нет, генералы-то как окрысились на меня, когда я выразил сомнение в практической ценности аппарата! А я нарочно сделал это, – хотелось знать, как именно они оценивают эту остроумную штуку.
Залился смехом, потом спросил:
– Говорите, у И. есть еще изобретение? В чем дело? Нужно, чтоб он ничем иным не занимался. Эх, если бы у нас была возможность поставить всех этих техников в условия, идеальные для их работы! Через двадцать пять лет Россия была бы передовой страной мира!”
В дальнейшем широко развернулась изобретательская деятельность А. М. Игнатьева. В 1926 году он сконструировал самозатачивающийся режущий инструмент, получивший мировое признание. Александру Михайловичу принадлежат и другие важные изобретения.
Общество изящных искусств
После освобождения из тюрьмы я тяжело заболел и на долгое время вышел из строя. Вновь вернувшись к подпольной партийной работе, я одновременно возобновил и музыкально-просветительную деятельность, к которой всю жизнь питал большую склонность.
Оглядывая пройденный путь, думаю о том, как своеобразно сложилась моя судьба. Я мечтал о времени, когда сумею себя целиком посвятить любимому искусству-музыке, а занимался транспортировкой ручных бомб, перевозкой через границу запалов, бикфордова шнура, организацией складов оружия, химических лабораторий, подпольных типографий. Этого требовали интересы партии, и каждый из нас, рядовых бойцов революции, стремился как можно лучше выполнить порученное ему дело.
Когда условия позволяли, я старался сочетать подпольную партийную работу с музыкальной деятельностью. Как я уже писал выше, музыкальная деятельность не только не мешала моей партийной работе, но и нередко помогала ей, служила для нее легальным прикрытием.
В 1911 году я с группой товарищей предпринял попытку организовать демократическое музыкально-пропагандистское общество, которое поставило бы своей целью приобщить рабочих к сокровищнице искусств, развивать их художественные вкусы. В то же время я имел в виду, что новое общество окажет нам большую помощь и в нашей практической партийной работе.
В условиях неусыпного надзора “властей предержащих” очень трудно было добиться разрешения на создание новой культурно-просветительной организации. Некоторые товарищи предвещали крах нашей затее, доказывали, что из нее ничего не выйдет, что вообще теперь “не до музыки”. Они, конечно, были неправы. Большевики всегда придавали большое значение деятельности прогрессивных культурно-просветительных обществ, используя их и как одно из средств воспитания масс, и как легальную трибуну для пропаганды идей партии.
Большую поддержку в создании нового музыкального общества оказал А. М. Горький. В ответ на письмо, в котором я излагал свои планы, делился сомнениями, Алексей Максимович написал мне в октябре 1911 года с Капри:
“Друг мой, люди, говорящие, что ты затеял “дело праздное”, не вполне ясно понимают, что такое культура и как необходимо для нас, чтобы она просачивалась – хоть понемногу – в нижние слои и помогала там росту новых сил. Поможет ли? В этом нет сомнения, ибо-искусство действует, как солнце, оно возбуждает энергию. Говоря реальнее: подумай, представь себе одного парня, который лет так через десять скажет: я начал жить, полюбил житьс той поры,как услыхал каких-то музыкантов, приезжавших к нам. Может быть, этого никто не скажет, но не может быть, чтобы нечто доброе пропало бесследно, не вызвав в некоторых людях позыва к иной жизни. А ведь все дело – твое, мое, наше – именно в том, чтобы вызвать, разбудить охоту к жизни, желание высунуть нос из своего угла на широкий свет божий. Шуми, играй и никого не слушай…”
В Петербурге на протяжении многих лет существовало Общество друзей музыки. Это было буржуазное общество, которое вело довольно замкнутую деятельность и в целом не отличалось какими-либо прогрессивными устремлениями. Нам, однако, удалось увлечь некоторых из членов этого общества мыслью о создании в его рамках специальной секции, которая занималась бы широкой пропагандой музыки, несла музыку в народ. Так при Обществе друзей музыки была учреждена секция общедоступных концертов, которую мы и взяли в свои руки.
Наша секция общедоступных концертов развила энергичную деятельность. Мы наладили связи с легальными рабочими обществами, создали камерный кружок, подобрали исполнителей для участия в концертах, провели первые выступления на рабочих окраинах и в народных домах Петербурга. В состав секции вошли и представители рабочих организаций.
Всё это очень напугало чинных и чопорных “друзей музыки”, чрезвычайно опасавшихся всякой политики. Они стали прилагать усилия. чтобы избавиться от “беспокойного пришельца”, тем более что и по количеству членов наша секция переросла само общество.
В 1913 году нам удалось добиться от петербургского градоначальника разрешения превратить секцию общедоступных концертов в самостоятельное Общество изящных искусств сосвоим уставом и секциями.
Благосклонность градоначальника мы заслужили тем, что руководство вновь созданным обществом взял на себя главный режиссер императорских театров Е. П. Карпов.
В молодости Е. П. Карпов придерживался народнических взглядов и в девяностых годах прошлого века написал драмы “Авдотьина жизнь” и “Рабочая слободка”, пользовавшиеся известным успехом в народной аудитории. Под влиянием событий 1905 года Е. П. Карпов написал пьесу “Зарево” – из революционной жизни петербургской рабочей окраины. Эта пьеса до революции так и не была поставлена. Увидел ее зритель только в советское время.
К тому времени, когда Карпов возглавлял созданное нами Общество изящных искусств, он уже забыл о “грехах молодости”. Но был он для нас очень удобным руководителем.
В высоком служебном положении Е. П. Карпова – главного режиссера императорских театров – полиция видела надежную гарантию того, что возглавляемое им общество не допустит никакой “крамолы”, никакого “вольнодумства”. Сам же Карпов, конечно, не подозревал, что среди активных деятелей общества много большевиков. Он не вмешивался в работу общества. Подписывая очередную концертную программу, шедшую на утверждение к градоначальнику, или какой-либо другой документ, Карповобычно приговаривал:
– Вы только, батенька, не подводите меня. На это следовал успокоительный ответ:
– Что вы, что вы, Евтихий Павлович,какможно! У нас всё в полном порядке,
В числе учредителей общества значились прославленный художник И. Е. Репин, известный драматический артист В. Н. Давыдов.
Среди “почетных членов” общества числились графиня С. В. Панина и еще несколько влиятельных лиц. Как можно было сомневаться при этом в “добропорядочности” общества! Но таков был фасад. Гораздо меньше мы афишировали то обстоятельство, что активными работникамиобществабыли большевики – Ф. И. Драбкина (“Наташа”), В. В. Гордеева, пролетарский поэт А. И. Маширов (“Самобытник”) и другие, пришедшие в эту организацию, чтобы использовать ее для дела партии.
Новое общество состояло из четырех секций: музыкальной, драматической, литературной и художественной (ваяния и живописи). Музыкальная секция, которую я возглавлял, насчитывала более ста исполнителей, в том числе многих известных певцов, пианистов, скрипачей, виолончелистов. Входили в состав секции также лекторы – музыковеды и профессора Петербургской консерватории. Таким образом, нам удалось привлечь к участию в работе общества многих видных представителей художественной интеллигенции.
Мы установили связь с рабочими клубами и по их заявкам устраивали концерты и литературно-музыкальные “утра”, собиравшие большие аудитории, иногда до пятисот – шестисот человек.
Очень серьезное внимание уделялось составлению программ. Общество пропагандировало лучшие произведения русской музыки. Так, например, наш камерный кружок выступал с циклом, состоявшим из двенадцати – четырнадцати “исторических” вечеров-концертов. Первый вечер посвящался народной песне, второй – старинному русскому романсу, остальные – русской классической музыке, от Глинки до Чайковского и Глазунова. Проводились и концерты, посвященные произведениям крупнейших западных композиторов.
Устраивая концерт, мы старались познакомить рабочую аудиторию с лучшими произведениями того или иного композитора, раскрыть прогрессивно-демократические тенденции в его творчестве. Так, например, на вечере памяти Мусоргского исполнялись песни “Колыбельная Еремушке”, “Семинарист”, “Сиротка”, “По-над Доном сад цветет”, сцены из оперы “Борис Годунов”, “Картинки с выставки”, цикл “В детской”.
Литературно-музыкальные концерты посвящались творчеству Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Кольцова и других писателей и поэтов, произведения которых получили наибольшее отображение в музыке.
Проводились эти концерты обычно в зале Тенишевского училища, а также в земских школах, в помещениях рабочих культурно-просветительных обществ, даже на Бирже труда.
Важные функции выполняли пояснения к концертам. Выступали часто с этими пояснениями лекторы – большевики или близко стоявшие к большевикам. Соблюдая необходимую осторожность, они – не прямо, конечно, а иносказательно – старались показать слушателям революционно-демократическую направленность в творчестве писателя или композитора.
В то время среди интеллигенции было распространено мнение, что серьезная музыка недоступна рабочей массе, простым людям. Я решил отпечатать и раздать слушателям программы концертов с просьбой зачеркнуть то, что не понравилось, отметить то, что особенно нравится, поставить вопросительный знак, если что непонятно и т. д. В особой графе было оставлено белое поле для заметок: какая музыка вообще нравится – пение или струнная и т. д. Концерты, сопровождавшиеся сбором такихсведений, мы называли “анкетными”.
Для массовой аудитории была организована целая серия анкетных концертов, посвященных творчеству композиторов-классиков.
Вспоминаю один из таких концертов, на котором исполнялись произведения Баха, а наряду с ними другие сочинения, в том числе некоторые легковесные песенки и романсы. В Народном доме Паниной собралось человек пятьсот. Были здесь главным образом рабочие. Результат превзошел самые смелые наши ожидания. Уже непосредственная реакция зала показала нам, что больше всего понравились аудитории произведения Баха. Это подтвердили и ответы слушателей на нашу анкету. Победил великий Бах! Его музыка была глубоко воспринята рабочей аудиторией.
Это послужило для нас ярким доказательством вздорности разговоров о том, что рабочему недоступна серьезная музыка, что ему требуютсялишь ремесленнические поделки, слащавые песенки и романсы. Нет, широкая народная аудитория требовала настоящей музыки, тянулась к подлинно высокому искусству.
Большое место в музыкальной жизни нашего общества занимали революционные песни. При участии членов общества в рабочих клубах создавались хоры, которые заучивали и распевали революционные песни тайком нарепетициях.
Эти песни, запрещенные цензурой, звучали и на вечерах, когда собиралась хорошо знакомая, надежная публика.
Нужно ли доказывать, что эта работа имела серьезное политическое значение. О важности пропаганды идей социализма через песню В. И. Ленин писал в 1913 году в своей известной статье “Евгений Потье”. Статья эта, опубликованная в “Правде” в январе 1913 года, еще больше воодушевила нас, убедила в полезности нашего скромного труда.
Грянула империалистическая война. Политическая обстановка в России резко изменилась. В Петербурге было введено военное положение. Начались репрессии, аресты, ссылки. Все рабочие культурно-просветительные общества в Питере были разогнаны. А наше Общество изящных искусств уцелело. Объяснялось это тем, что руководителями его числились вполне благонамеренные люди, не вызывавшие у царской полиции никаких подозрений.
В военные годы Общество изящных искусств занялось устройством концертов для раненых в солдатских госпиталях Петербурга. С этой целью при обществе была создана лазаретная комиссия, в которой принял участие А. М. Горький, вернувшийся в 1913 году в Россию.
Вспоминаю одно из заседаний лазаретной комиссии в ноябре 1914 года. Происходило оно на квартире писателя А. Н. Тихонова, также входившего в состав комиссии. Алексей Максимович горячо говорил о необходимости начать вести в лазаретах работу по разоблачению милитаризма, использовать для этого все богатства искусства. Горький предложил сосредоточить работу общества в нескольких крупных госпиталях. Все участники этого заседания поддержали предложение Алексея Максимовича.
В то время раненых в госпиталях обслуживали всевозможные монархистские, шовинистические организации вроде учреждений императрицы Марии. Использовали они эти, с позволения сказать, концерты для шовинистической, часто антисемитской пропаганды. Нередко “веселый рассказчик” для большей увлекательности надевал ермолку, приклеивал пейсы и бородку, передразнивал еврейскую речь. Так же оскорблялись на подобных концертах чувства армян и других народов Российской империи.
Мы решили противопоставить этому духовному растлению раненых солдат пропаганду настоящего искусства, а одновременно и пропаганду антивоенных идей.
Конечно, мы могли пользоваться только произведениями, разрешенными цензурой. Но и среди такого материала можно было подобрать много вещей, которые создавали определенное настроение и побуждали к раздумью, особенно если их умело подобрать. Наряду с “нейтральными”, далекими от политики произведениями, воспевающими любовь, природу и т. д., мы включали в программы наших концертов и материал явно выраженного антивоенного характера. Так, например, в программу одного из наших смешанных литературно-музыкальных концертов для раненых были включены народная песня “Сижу за решеткой в темнице сырой”, романс Калинникова “На старом кургане”, “Как король шел на войну” Канемана, “Внимая ужасам войны” Кюи, “Забытый” Мусоргского, “Два гренадера” Шумана. Аудитория очень горячо встречала эти номера. Конеч но,исполнялись они не подряд, а вперемешку с инструментальной музыкой, произведениями “нейтрального” характера.
В программу этого же концерта были включены стихотворения: Пушкина “Деревня”, Лермонтова “Смерть поэта”, отрывки из поэмы Некрасова “Кому на Руси жить хорошо”.
Первый такой концерт состоялся в большом госпитале, помещавшемся в здании Женского медицинского института на Петербургской стороне. Раненые шумно аплодировали, благодарили исполнителей, кричали:
– Спасибо! Приезжайте еще раз поскорей! Гораздо сдержаннее реагировала на концерт администрация госпиталя.
– Ну, как вам понравился наш концерт? – спросили мы у главного врача, у дежурного.
– Концерт хороший, но какая-то странная программа.
– Чем же странная? Всё известно, напечатано и безусловно разрешено к исполнению.
– Так-то оно так, но всё у вас очень тенденциозно.
– Ну, что вы! Это вам просто показалось. Правда, у нас не было ни армянских, ни еврейских анекдотов. Были классическая музыка, романсы, стихи Кольцова, Некрасова, Пушкина, был Гоголь. И видите, как хорошо всё это воспринимала аудитория.
Этот разговор не предвещал ничего хорошего. Ясно было, что администрация лазарета насторожилась, и работать будет трудно.
Всё-таки договариваемся о втором концерте. Он посвящен произведениям И. С. Никитина.
Конечно, включаем в программу прежде всего такие произведения, которые ярче всего отражают революционно-демократическую сторону в творчестве поэта, проникнуты гневным протестом против бесправия и нищеты: “Дневник семинариста”, “Портной”, “Вырыта заступом яма глубокая”, “Ах ты, бедность горемычная”, “Хозяин” и другие.
Опять – огромный успех у раненых. Администрация еще больше настораживается.
В программу следующего тематического концерта включаем отрывки из произведений Н. В. Гоголя и сказку М. Е. Салтыкова-Щедрина “Как мужик двух генералов прокормил”.
Так мы провели несколько концертов, но в один прекрасный день администрация лазарета заявила нам:
– Мы вас очень благодарим за ваши концерты, но, к сожалению, в дальнейшем услугами общества больше пользоваться не можем.
Вскоре удалось узнать и подоплеку этого отказа. Оказывается, поступило секретное предписание штаба военного округа: “В Петербурге организовалась группа артистов во главе с писателем М. Горьким, которая ведет антиправительственную и антипатриотическую агитацию с помощью концертов в госпиталях. Категорически предлагается не допускать эту группу в госпитали”.
Так оборвалась музыкально-просветительная деятельность нашего общества среди раненых солдат. Может быть, многое нам сделать и не удалось, но наши концерты в какой-то степени также содействовали антимилитаристской пропаганде, разоблачению истинных целей империалистической войны.
Лишенные доступа в военные госпитали, мы продолжали проводить концерты, литературно-музыкальные вечера, ставить спектакли в рабочих районах Петербурга. Неоценимого помощника приобрели мы в лице Марии Федоровны Андреевой. По ее инициативе общество поставило несколько спектаклей в театре Путиловского завода. Ставили мы пьесы А. Н. Островского “Сердце не камень”, “Без вины виноватые”, пьесу Е. П. Карпова “Рабочая слободка”. М. Ф. Андреева не только помогала ставить эти спектакли, но и участвовала в них в качестве исполнительницы главных ролей. Это, конечно, содействовало успеху спектаклей. Очень охотно посещали рабочие наши вечера, посвященные творчеству великих русских писателей.
Наблюдая за нашими слушателями и зрителями, мы всё больше убеждались в том, как растет в рабочей массе ненависть к самодержавию, к империалистической войне.
В 1916 году в зале Тенишевского училища состоялся литературно-музыкальный вечер с участием А. М. Горького. Когда Алексей Максимович вышел на сцену, раздались громкие аплодисменты. Внимательно слушала аудитория любимого писателя. Представители полиции следили за каждым словом Горького, ожидая первого повода, для того чтобы придраться к чему-либо и сорвать вечер. Но Алексей Максимович был настороже. Вот он заканчивает свое выступление: “Итак, товарищи, да здравствует…” Полицейский встает. Но Горький хитро улыбается: “Итак, товарищи, да здравствует… сами знаете что”.
В зале звучат хлопки, одобрительныйсмех .Собравшиеся устраивают Горькому шумную овацию. По окончании вечера он выходит на лестницу, где его снова бурно приветствуют люди, заполнившие все проходы. Взволнованный горячей встречей, оказанной ему рабочими, Горький поднимает руку и в наступившей тишине говорит своим окающим баском:
– Поберегите, товарищи, свою энергию для более важных дел. Они могут скоро наступить.
Эти слова вызывают еще более оглушительные аплодисменты.
Нередко во время концертов, устраиваемых Обществом изящных искусств, назначались партийные явки, собирались большевики-подпольщики. Такие совещания проводились и под видом репетиций. Кроме того, значительная часть средств с платных концертов шла в большевистскую партийную кассу.
С. Полесъев