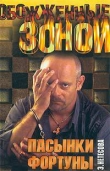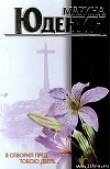Текст книги "Без права на..."
Автор книги: Николай Ермолаев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Один больной убежал из отделения и бегал где-то по Старой Николаевке, пока не набрел на общеобразовательную школу. Молодая учительница вела урок в начальных классах. Увидев ее через окошко, дурачок вошел в школьный кабинет, подошел к изумленной учительнице, расстегнул ширинку и на глазах всех малышей самозабвенно начал заниматься онанизмом.
Такие больные не опасны – они никогда не идут на насильственные сексуальные действия, но постоянно нарушают общественную нравственность.
У нас секса нет. Вранье! Есть он и на спецу, и включает в себя все – от нормального секса до самых извращенных упражнений. Но он редок и доступен не каждому.
Для большинства больных основным сексуальным объектом служат педерасты, которых в психиатрии много. Есть и настоящие педерасты, есть и те которые «привыкли», есть и такие, которым не совестно зарабатывать проституцией на жизнь.
Один здоровенный детина, вернувшись домой, вызывал удивление у окружающих своим упитанным видом. Как же ему удалось сохраниться в местах лишения свободы? Он сам приоткрыл завесу над этой тайной – «в жопу дал – пайка хлеба» – незастенчиво отвечал бывший педераст.
– Юрка, покажи дупло! – смеется кто-то из заключенных. Маленький педерастенок Юрка снимает штаны, нагибается и раздвигает ягодицы. Этот – всегда готов в бой, только в «атаку» он пятится задом.
Вот Хайрисламов, больше известный по погонялу Шарик, так как он очень похож на главного героя фильма «Собачье сердце». Я сам видел, как его снимали пять человек за одну куриную ножку. И он их всех «обработал».
Любитель педерастов Латыпов ждал, пока кто-нибудь не заснет и во сне откроет рот. Молниеносно он засовывал в открытый рот спящего человека свой член и убегал. Все стали спать лицом к стене.
Тот же самый Латыпов однажды отколол такой фертиль, что хоть стой, хоть падай. Здоровенный детина – двухметрового роста, косая сажень в плечах он нашел к отбою среди тряпок, принесенных санитаркой для уборки, коротенькое женское платьице и тут же переоделся в него, преобразившись до неузнаваемости. Уже перед самым отбоем я выглянул на шумный хохот, раздававшийся со всех палат. Это двухметровый верзила Латыпов разгуливал по коридору, одетый в женское платье и призывно виляющий задницей под руку с башкиренком Юсуповым – рост метр с кепкой. И это не юмористическая выходка, это – демонстрация своей сексуальности.
Кончил он с такими шутками плачевно – в наблюдательной палате по своей инициативе отсосал член у больного, лежащего на вязках, который по причине связанных рук не мог отбиться от наглого педераста.
Но переведенный в другую наблюдательную, он вдруг опять вспомнил, что спереди у него еще что-то растет, и в первую же ночь провел членом по губам, или сунул в открытые рты, всем пят своим соседям. Вообще любители гомосексуального орального секса довольно противны, хотя и потешны по-своему.
Так двое, довольно дефективных больных – Калитов и Хохлов практически не сговариваясь, направились парочкой в туалет, где друг у друга по очереди отсосали. От подъема до обеда они продолжали раз пять свои оральные упражнения, остальное время мило беседуя на коридоре, прохаживаясь взад и вперед, держась за руки.
На наезды со стороны возмущенных их поведением больных отвечали односложно – «хочется иногда отсосать», на предложения сделать миньет другим больным отказывались, видимо сохраняя верность друг другу.
Другой молодой парнишка отсасывал, у кого только и где только мог. С ним долго боролись – боролись и медики, боролись и больные, которые не хотели есть с ним за одним столом (даже педерасты), но, в конце – концов, опустили руки, в бессилии с ним что-нибудь сделать. Оставленный в покое гомосексуалист-вафлер продолжил развивать успехи в деле орального секса.
А встречаются и любители пососать член, только что вытащенный из их заднего прохода – своеобразные копрофаги.
Ну, дальше писать про извращенцев подобного рода я не буду – они мне противны и сам я услугами «петухов» никогда не пользовался.
У кого есть деньги, дорогой товар и прочие блага жизни, может запросто договориться с санитаркой и уединиться с ней глубокой ночью где-нибудь в сушилке или в душевой.
Была косоглазая Тоня, которая, собрав с четырех больных по 2-3 палки колбасы, обрабатывала их всех четырех разом, «вертолетом». Она же успевала потрахаться «по любви» еще с 2-3 больными.
Нет санитарок, которые не дают, есть больные, которые плохо просят.
Была Надя, уже в зрелых годах, которая очень любили массаж спины, и после данной процедуры шла с больным куда угодно – и это все так, «по любви».
Неравнодушны к больным и некоторые медсестры, но здесь уже нужен тонкий подход. С палкой колбасы к медсестре не подойдешь – здесь все как на воле, если вы решили познакомиться с фотомоделью. В конце – концов, вам может повезти, если мне, вовсе не Алену Делону везло.
Случается в отделении и зоофилия. Тот самый куроеб, о котором я рассказал в самом начале, завел себе котенка и приучил его отлизывать головку полового члена.
Так что здесь – как на воле. Встречаются эксгибиционисты, фетишисты и скоптофилы. Один больной по секрету показал мне подборку фотографий, на которые он онанировал. Здесь была пачка газетных фотографий толщиной с энциклопедию. Фотографии были от больших, до маленьких и даже крохотных, цветных и черно-белых, женщины были одеты и раздеты, молодые и пожилые. Были даже девочки грудного возраста и престарелые старухи. Объединял все фото только пол – женский. Относился Гена (а так звали онаниста) к своим фотографиям с такой нежностью, словно они были живые.
Фетишист Очко, убираясь в туалете сотрудников, нашел женские трусы с мощными потоками месячных. Естественно эти трусы перекочевали в его карман, а затем под подушку.
Долгими ночами, пока трусы не отобрали во время шмона, Очко вдыхал «аромат» трусов и онанировал. Об этом знало все отделение, и все потешались над ночными страстями олигофрена-фетишиста.
На воле Очко по его же словам собирал на помойках предметы женского туалета и хранил все это добро у себя в комоде. Комната его была оклеена фотографиями обнаженных женщин и мужчин.
Мать, как и обещала, ходит ко мне раз в две недели, приносит передачку и мои любимые сигареты «West» с пластмассовым фильтром. Ждешь больше не еду, а именно сигареты – потому что когда нет сигарет, начинается кошмар – тяга к табаку такая, что нет сил, а, кроме того, когда совершенно нечем заняться желание курить усиливается и смолишь одну за другой. Да и курилка именно то место, куда собираются пообщаться, а общение – лучшее лекарство от больничного безмолвия. Курят здесь с 6 до 7 утра, потом перерыв до 9, затем курят до 11 и после обхода до самого обеда. В тихий час и ночью курение запрещено. Зажигалки и спички запрещены, и больные прикуриваются от сигарет друг у друга. Конечно, затягивают с воли и спички и зажигалки, курят втихаря в уголке по двое по трое, но если спалишься с огненным предметом, получишь заряд аминазина в ягодицу и маршируешь прямиком в наблюдательную палату.
Те, у кого нет сигарет, заседают целыми днями в курилке и выпрашивают у счастливых обладателей сигарет обгорелые фильтры – большего здесь не получишь. Доходят и до крайностей и «ныряют» в грязное, заплеванное ведро за бычками. Отъехавшие не брезгают поднять сигарету не только с грязного пола, но и с унитаза.
Курева здесь постоянно не хватает и его приходится покупать за чай. Среди больных распространен следующий прейскурант цен на сигареты – «Прима» – 2 пачки за жевок, «Балканка» – пачка жевок, «Петр 1» – пачка за 3 жевка. Естественно люди, имеющие контакт с персоналом продают эти сигареты значительно дороже (так, например я продавал «Kent» и «Captain Black» грамм за 300-400 чая пачку).
И очень прискорбно, когда твои кровные, привезенные из дома сигареты начинают пропадать со склада. Так случилось и со мной. Из блока я получал 6-7 пачек, остальные «уходили» в неизвестном направлении. Подозрение мое сразу же пало на Усманчика, помогавшего санитарке раскладывать сигареты.
Усманчик живет на спецу. Он здесь бесчисленное количество лет и отсюда не торопится. Забирать его некому, и он знает, что в интернате ему будет хуже. Здесь он как приблудная собака бродит весь день и всю ночь по отделению, виляя медперсоналу хвостом и играя из себя ребенка. Он лижет задницу каждому, кто что-нибудь может ему дать, постоянно клянчит у санитарок куски с их стола, чай и сигареты. Женщины жалеют бедолагу и подкармливают его. Вид у него жалостливый, как у побитой собаки, но в глазах сидит затаенная злость. На спец с общего отделения он попал за то, что сломал руку больному.
Усманчик чифирит, закидывается целыми стопками циклодола и карбомазепина, и уже привык к такой жизни. Так же, как и я, он занимается куплей-продажей товара за чай, помогает санитарке раскладывать сигареты больных. Давно заметили, что сигареты пропадают, что Усманчик курит в туалете дорогие сигареты, но убрать с раздачи сигарет его никто не решался.
Я решился на это, не выдержав очередной пропажи четырех пачек. И у меня получилось. Молоденькая санитарка Гульнара, ведавшая раздачей сигарет вполне согласна со мной, что Усманчик банальная «крыса» и устала от жалоб больных. В то время я уже заработал в отделении репутацию порядочного человека, и раздачу сигарет предложили мне. Я согласился, и сигареты больше не пропадали до той поры, пока я не выписался.
В чем заключалась наша с Гульнарой работа? Ее – сидеть и наблюдать за мной (а впоследствии она и этого не делала), а моя – помнить у кого сколько сигарет, в каком отделении шкафа его мешок, раскладывать сигареты и раздавать их по утрам больным (пачка – норма, но очень часто меня просили вынести пару пачек, а иногда и два блока. Совершенно бесплатно я обычно соглашался и выносил сигареты. Я знал – они пойдут на чай, а чай это на спецу святое).
В среду, раз в неделю, после обеда и свиданок мы раскладывали принесенные больным сигареты по личным мешкам больных, которые хранились в запиравшемся шкафу, затем доставали из мешков по семь пачек сигарет на человека, подписывали их и раскидывали по пачке в семь приготовленных коробок – на неделю, до следующей среды. Так как больных в отделении много, то весь процесс продолжался не меньше часа. Затем в коробки кидали записки с названиями дней недели, и Гульнара могла идти домой.
Вообще Гульнара молодец. Она таскает из дома чай «просто так», иногда приносит для больных, конечное «избранных» и пиво, которое они пьют в столовой после ужина. Молодая девушка не боится ни выговоров, ни увольнения – с ее внешними данными и умом ей нетрудно будет найти новую работу. Гульнара не замужем и, по-моему, смотрит на некоторых больных, как на кандидатов в спутники жизни.
Каждое утро я брал со склада коробку с сигаретами и, выложив их на стол, сортировал по палатам. Сложив стопками сигареты, я обходил палаты вкруговую и совал еще полуспящим больным их пачки.
Жалобы на пропажу прекратились, сама пропажа тоже.
– Очки отъехали! – ржет весь туалет. Это Очко в который раз уронил свои ломанные-переломанные очки на резиночке с одним стеклом в унитаз. Хохот стоит такой, что хоть святых выноси. Не смеюсь только я – сегодня у меня и еще нескольких человек выписная комиссия.
Ждут председателя комиссии – доцента с Владивостокской. Тогда еще и я ждал комиссию, строил планы, питал надежды на скорейшую выписку.
Приехал доцент – маленький сухой старичок, почти не выпускающий сигареты изо рта. Они с Алексеем Ивановичем и Аннушкой проходят в кабинет заведующего. Эти трое и есть выписная комиссия.
Если честно, перед первой комиссией волновался так, что поджилки тряслись. Надежда вырваться на волю была так сильно, что перебивала разумное отношение к ней. Здесь люди находились по три, пять, семь и более лет, вовсе не ожидая выписки. Уйти с первой комиссии удалось только одному богатому бизнесмену, «завалившему» свою благоверную из «винчестера» за супружескую измену.
Нас выстроили по списку возле кабинета и вызывали по одному. Выходили оттуда подозрительно быстро. Ответ на вопрос: выписали – не выписали был у всех один.
– Болт!
– Борода!
– Еще пол года!
Наконец зашел и я.
– Разрешите войти!
– Проходите.
Доцент покопался в моих бумагах.
– Голоса были?
– Нет.
– Ночью спите?
– Да.
– Все, можете идти. Мы продляем вам срок еще на полгода.
Еще ничего не поняв, я уже выхожу. Комиссия, которой я так ждал, пролетела незаметно, равнодушно и бессмысленно. Это фарс, настоящий фарс, а не психиатрия.
Такой же фарс продолжался и на последующих комиссиях, кроме той, последней, с которой меня выписали. Ушел от рака легких в мир иной старичок-доцент, его сменила высокая строгая женщина с волевым лицом, но ничего не сменилось в комиссии. Я уже понял – по закону положено, значит проведем вам комиссию, но выпишем не по состоянию вашего здоровья, а тогда, когда сочтем нужным.
У некоторых сил на комиссии уже не хватает. Один больной, откатавшись лет пятнадцать, не выдержал и врезал доцентше прямо на комиссии. Доцентша вышла с фингалом, а он уехал в город Казань. В Казани же (ведь рука руку моет) «за психиатра» другие психиатры держат уже пожизненно и усиленно вас лечат, превращая в овощ.
В конце – концов, я, пройдя так комиссий восемь-десять, настолько привык к ихнему фарсу, что шел уже без надежды и без волнения, только по необходимости. Выписка и так шла нешатко – невалко – из десяти двенадцати человек, одновременно проходивших комиссию, выписывали в лучшем случае одного, но стоило услышать от Алексея Ивановича на комиссии что-то вроде «чифирит», как сразу можно было выходить несолоно хлебавши.
По выписке других больных я понял, что в основном со спеца уходят за 5-6 лет, хотя есть счастливчики, уходящие за «трешку», но были и «тяжеловесы», отбывшие здесь годков «ннадцать». Самый большой дурдомовский срок был у Шосталя Леонида. Он отсидел двадцать один год, за это время его родные поумирали и из нашего отделения, через Владивостокскую он уехал в интернат, так и не увидав долгожданную волю.
Такие люди, отсидевшие огромные срока деградируют в очень сильной мере, и, что называется, начинают «гнить с головы», теряя последние морально-этические устои. От них уже можно ожидать всего, чего угодно. Единственный поступок Шосталя, которым он гордился – это побег из Казани. По его словам выходило, что он единственный, кому это удалось, хотя я в этом сильно сомневаюсь. Шосталь перелез высоченный четырехметровый забор, умудрился не запутаться в колючей проволоке и … упал прямо на газетку к бухающим ментам. Незадачливого побегушника на носилках вернули в отделение, так как при приземлении он раздробил пятки и передвигаться сам не мог. В Казани пятки ему вылечили так хорошо, что он и по сию пору ходит, как косолапый медведь.
Шосталь продуманный типок. Утром он ходит по отделению с пустым мешком из-под чая (а на спецу обычно таскают чай в пустых пакетах из-под молока) и показывает его, добавляя простецкий стишок собственного сочинения:
Вот секрет простой
Вот мешок пустой!
Это делается для того, чтобы у него чая не просили. Я отлично знаю, что у Лени под матрасом есть еще один мешок и он вовсе не пустой. Но Шосталя можно понять – единственный путь достать ему чай – это продать свою скромную отоваровку – ведь к нему никто не приезжает.
Отоваровку придумали, чтоб те, к кому никто не приходит, могли бы потратить небольшую (рублей на 250-400) часть своей пенсии на продукты и сигареты. Такими, а в отделении их большинство, занимаются находящиеся при больнице социологи, и называют их либо отоварочниками, либо эмсэошниками (от МСО – медико-социальное обеспечение).
Отоварочники переводят свою пенсию по адресу больницы, и она за их срок накапливается, достигая у большесрочников размеров порядка 90-100 тысяч рублей. Деньги конечно не бог весть какие, но человек, всю жизнь собирающий бутылки рад и такой сумме, накопленной за долгие 7-8 лет. Когда возле поста вывешивают список с начисленной и накопленной пенсией, отоварочники собираются и смотрят, сколько же за их тяжкий срок накопилось. Размер пенсии за мой срок варьировал от 700 рублей у обычного инвалида и 1500 рублей у инвалида детства в 2003 году до 3000 и 4500 рублей в году 2008. но цены росли в геометрической прогрессии, оставляя далеко позади арифметическую прогрессию роста пенсии.
Каждый месяц отоварочникам покупают 30 пачек плохих сигарет (а в последующем покупали и 25 и 20 пачек в месяц – борьба с курением!), которые они по большому счету сами не курят, меняя у других больных за чай. И еще покупают скромную передачку. Вот типичный пример продуктовой отоваровки:
Рулет, полпалки соевой колбасы, два плавленых сырка, рогалик, два глазированных сырка и коробка яблочного нектара. Изредка берут еще вафли и рыбные пресервы. Эта отоваровка покупается один раз в месяц, но хватает ее оголодавшим отоварочникам на 15-20 минут. Почему в Ново-Николаевке отоваровка столь мала – тайна сия велика есть, ведь даже в грозной Казани отоваривают на любую наличествующую сумму.
Кроме того эмсэошники раз в полгода заказывают себе носки и трусы, которые тоже никто не будет носить – и они еще в упаковке у многих уйдут за чай. Чай, чай, да сколько же можно писать об этом чае? Но если жизнь такова, если именно эта травка стоит во главе угла на этом проклятом спецу – от этого никуда не денешься. Такова здесь роль и цена этого невзрачного индийского кустарника, роль и цена, которые и не снились вещам, имеющим ценность на воле.
Также, раз или два в год отоварочники получают по пять конвертов и несколько открыток. Но писать им практически некуда. Один из них развлекался тем, что поздравлял ежегодно свой горотдел милиции с 8 мартом. А так – в основном – конверт – жевок, открытка – жевок, вот и вся писанина.
Могут заказывать отоварочники и периодическую печать, но и здесь список настолько странен и дик, что диву даешься фантазии социологов. Можно заказать журналы «Работница», «Крестьянка» или «Здоровье» – и это в мужском отделении! Никакого «Playboy», никакого «За рулем» или «Вокруг Света». Читайте «Крестьянку», дорогие зеки и учитесь вязать крючком! Из газет, правда, разрешена «Комсомольская правда» и ее в основном и читают в отделении.
Раз в год заказывают отоварочники и по куску мыла, бутылочке шампуня, мочалку, пасту и щетку – вот и все предметы гигиены, которых физически не хватает на год. Могут они заказать и стиральный порошок, чтоб стирать свои носки и трусы, но порошок уйдет прямо со склада, так и не дойдя до заказавшего его отоварочника.
Так что жизнь больных, оставленных без опеки родственников вовсе не медом намазана – они испытывают тотальную и перманентную нехватку всего. А деньги, с такими муками накопленные ими чаще всего, в будущем, уйдут в фонд какого-нибудь интерната. Се ля ви!
Зарабатывают отоварочники какие-то крохи, занимаясь различными рода уборками, а отделение находится в состоянии перманентной и непрекращающейся уборки годами. Трут полы и стены чуть ли не целый день.
Палаты моют два раза в день – в подъем и после завтрака, моют сами больные, хотя обычно есть специальные шныри, всегда готовые помыть вашу палату. А коридор моют четыре (!) раза – хлеще, чем в реанимации или отделении гнойной хирургии. Больной (обычно из олигофренов), специально приставленный к мытью коридора моет длиннющий продол, получая за свой ударный труд аж 2-3 сигареты «Прима».
По разу в неделю генеральная уборка во всех помещениях, палатах и коридорах, распределенная по разным дням недели, включая выходные. Палаты с матюгами и проклятиями генералят больные, в них проживающие – этот вынужденный труд всем опостылел. Коридор, туалет, ванную и другие помещения моют шныри из разряда дефективных больных. Трут стены водой с порошком и шампунем, натирают щетками и без того вообще то чистый линолеум полом. В туалете маразм поломойства доходит до того, что специальными железными щетками оттирают тут же снова загаживаемый кафель полов.
За вымытый коридор или туалет – награда – кружка не слишком крепкого чая или пять сигарет.
И тут, во время генералки прикалывались. Олигофрену Очко, бессменному генеральщику коридора специально разливали ведрами воду, которую тот вынужден был собирать тряпкой с пола, а над педерастом Муртазой смеялись и похлеще. Когда генералка в туалете доходила до той стадии, когда стены и потолки там помыты, Муртазу запирали мыть там полы. Туда выливали несколько ведер хлорки, и педераст заливался слезами и соплями – ему от хлорки нечем было дышать. Это называлось дезинфекция.
Единственное место, где санитарки мыли полы, то есть выполняли свою прямую работу – это врачебные кабинеты, да и то, частенько, полы мыли больные, но, конечное под их присмотром.
В курилке разборка. Во время шмона, прямо по наводке у троих больных отобрали чай и они заехали всей троицей в наблюдательную палату. Разбираются, кто сдал их медперсоналу.
С приходом Аннушки, обожавшей стукачей, стукачество стало глобальной проблемой отделения. Теперь в отделении царила атмосфера взаимного недоверия, и разговоры в курилке перешли на тему каких-то абстракций или старых воспоминаний, потому, что всегда находится определенный контингент, обиженных Богом и людьми, которые находят особое удовольствие в жалобах, ябедничестве друг на друга, в стукачестве. Поскольку Аннушка всячески поощряла и выделяла стукачей, хотя и относилась к этим, нужным ей, людям с глубоким презрением, их развелось в отделении большое количество. Глупцы, которым все равно на отношение к ним окружающих, то бишь олигофрены и страдающие деменцией стучали поголовно. Доходили козлы в своем бреду и безнаказанности до того, что тот самый Ананьев, который привязывал девчушку колючей проволокой, писал крупными печатными буквами в верховный суд, что в двадцать девятом отделении жуют чай, и привел длинный список имен и фамилий.
В психиатрии козлов заточкой не испугаешь – это не зона. Все на виду в этом аквариуме и от кары не уйдешь, а все хотят домой, но в одно время стало жить совершенно невозможно – сдавали со всем. Аннушка знала даже кто, как и когда сходил в туалет по большому, нельзя было даже пернуть в неположенном месте, без того, чтобы тебя немедленно не сдали.
В отделении начались перебои с чаем, негде стало прикурить ночью и в тихий час, вся жизнь, или хотя бы ее подобие замерло.
Олигофрен Балуев, по началу срока дававший в задницу за пяток сигарет оживился до такой степени, что заходил в палату и заявлял:
– Чтоб у меня здесь не хулиганить, ни чифирить. Меня поставили следить за порядком.
После завтраков, обедов и ужинов на пути из столовой только дверь хлопала, как стукачи забегали в ординаторскую к Аннушке.
Я не мог перерезать паре козлов горло или устроить им темную, поэтому мне пришлось от них откупаться, чтобы продолжить свое чифирение и свою торговлю. Кому горсть шоколадных конфет, кому сигареты, кому жевок чая (а «козлы» тоже жуют, да еще как жуют!) и они заткнулись или, по крайней мере, стали стучать на меня поменьше. Особенно хорошо подкупали их батарейки для приемников – олигофрены не читают и почти не понимают телевизор, зато очень любят слушать музыку.
Гене Ананьеву я заказывал из дома иконки и молитвенники. Этот насильник-подонок очень боялся Бога и устроил себе в углу палаты целый иконостас и даже молился бы, если бы мог запомнить молитву или сумел прочитать ее.
Моему примеру последовали остальные. Стукачи стали жить лучше, чем нормальные пацаны, но стучали уже меньше и выборочно, так что можно стало передохнуть.
Но и здесь начались свои перегибы. Один обладатель больших передачек сам не стучал, но подкармливал тех стукачей, кому наиболее доверяет Аннушка, и использовал их для сдачи своих многочисленных врагов и тех, кто просто на него косо посмотрел. Появилась платная услуга – сдать кого угодно и с чем угодно по заказу.
Это «козлиное» движение сдерживал только Алексей Иванович не переносивший стукачество принципиально. С его уходом с поста заведующего, «козлы» подняли голову основательно и окончательно. Под этим дамокловым мечом я просидел весь срок. Сдавали меня не раз и не два, испортили мне много «дорог» и продлили срок заключения. «Козлов» я с тех пор ненавижу и презираю. Для меня они недалеко ушли от педерастов и вафлеров.
Тотальная опека стукачей в одно время почти аннулировала всю торговлю с санитарками – они стали просто бояться. Чтоб не прекращать поступления чая в мои руки мне сильно пришлось поломать голову.
Ответ был неожиданно прост. Наши больные ходили за баландой на пищеблок, на первый этаж спецкорпуса и, естественно, виделись там с поварами, а повара тоже люди и тоже хотят курить дорогие сигареты, закусывая белым шоколадом.
Попасть на внешние работы было трудно, а брать в долю кого-то из других «рабочих» больных я не хотел – у каждого из них были свои интересы, в которые снабжение меня чаем не входило.
Я подошел в коридоре к Алексею Ивановичу и пожаловался на всякое отсутствие физической работы, на общую слабость. Алексей Иванович пожал плечами и посоветовал мне мыть полы. Я отказался, и намекнул ему на ношение с пищеблока баланды – мол и физический труд и дают добавку. Врач опять пожал плечами, он не забыл, что я бывший побегушник, и сказал, что подумает.
Возможно, меня никогда бы не вспомнили, если бы один из носильщиков баланды, Вася Малов не кипешнул и не вскрыл вену лезвием, став временно нетрудоспособным. Тут мне и предложили временно потаскать бачки с пищей. Временно затянулось до самой выписки.
Поначалу мне приходилось с другим новичком поднимать наверх тяжеленный бачок с супом. Тонкая ручка бачка сильно резала руку, малейший перекос и горячее содержимое плескалось на штанину, обжигало голую ступню. Но зато контакт с поварами оказался легкий и непринужденный и кроме баланды я тащил в карманах две пачки чая. За нами шли проработавшие дольше и несли второе и компот – совершенно невесомые вещи.
Внизу я заметил, что в жизни пищеблока царят те же порядки, что и в отделении. Повара здесь не работают – они здесь присутствуют, а чистят гнилую картошку и шинкуют капусту здесь больные с общих отделений, они же варят баланду в меру своих возможностей. Тут же отмывают вонючую мороженую рыбу и срезают с посиневших костей «мясо». Если бы не вытяжка, запах стоял бы такой, что куда там овощехранилищу советских времен с окном на помойку.
Повара любят покурить. Основной товар в обмене с ними – это дорогие сигареты. Чая в обмен дают помногу, сразу и не торгуясь – чай на пищеблоке дармовой.
Пищу носят наверх в очень неудобных термосных бачках защитного цвета, рыбу, запеканку и омлет на специальных больших противнях. Себе повара готовят отборную картошечку с котлетами, варят самолепные пельмешки. От них явственно ощущается алкогольный запах. От поваров – водочки, от больных – технического спирта-шадыма. Здесь хорошо, сытно и пьяно. Видимо работать здесь большая привилегия для больных с вольных отделений.
Хочется выпить водочки, да и можно договориться с поварами, но больно строг за нее Алексей Иванович – попался с запахом – поезжай в Казань без лишних объяснений. Бывали случаи, что больные затягивали фанфурики «Траяра» или «Перца» через охранников или санитарок, но часть из них окончилась плачевно, и выпивохи уехали в Казань на спец-интенсив. Так глупо рисковать мне вовсе не хотелось, да и было бы из-за чего и шесть лет я провел в условиях жесткой абстиненции.
Принося баланду в отделение, мы заносили ее в раздаточную и, столовщица, ловко плюхая половником, разливала суп по алюминиевым мискам. По началу срока мы накрывали на столы, но наступил переломный момент, когда в отделении оказалось до 45% олигофренов, которые начали воровать хлеб друг у друга. Тогда накрывать на столы перестали и выдавали хлеб и «шлемку» в руки каждому.
Накрыв на столы, мы получали добавку – полную миску второго. Я стал наедаться.
Ели мы первые, раньше всех возвращались из столовой в отделение, дождавшись только момента, когда посчитают ложки. Персонал, зная контингент отделения, постоянно опасался, что пронесут в отделение и заточат ложку, поэтому был специальный больной, которому доверяли (из числа «козлов»), который после приема пищи собирал ложки со столов и пересчитывал их, складывая в специальную кастрюлю. После пересчета кастрюлю сразу же передавали в раздаточную, на руки столовщице.
При недосчете хотя бы одной ложки начинался повальный шмон – шмонали больных, столовую и даже отделение, хотя никто еще туда не выходил. А были случаи, когда ложку специально выкидывали в форточку, и тогда все начиналось.
Слава богу, что мне пересчета ложек дожидаться не приходилось – я работал на мензурках и, поев, быстро выносил ящик с лекарствами, свои мензурки и чайник.
Однажды вечером в наблюдательной палате начался кипеш. Зачумил Чураев, особенно опасный больной, недавно закрытый туда за употребление чая и неподчинение Алексею Ивановичу. Вошедшие в палату вязать буйного охранники и двухметровый здоровяк Вася Малов выскочили от маленького Чураева как ошпаренные, по голове Васи текла кровь. Чураев победоносно размахивал окровавленной заточкой.
– Выходите все к черту из палаты!
Хрясь! И отлетела сетка-рабица. Дзинь! Полетели стекла.
– Ну, подходи, кому жизнь недорога!
В коридор, прямо в толпу охранников полетели осколки оконных стекол.
– Подходи, ядрить тебя в корень!
Охрана попряталась за косяки. Чураев судорожно бегал по палате, сортируя стекла и выбирая самые острые. Перед входной дверью он поставил две тяжелые кровати.
Несколько раз сводный отряд охраны, усиленный сознательными больными поднимался в атаку на Чураева и несколько раз покидал поле боя с большим уроном – весь в порезах и ссадинах. Стекла летели пачками. Казалось, что запас осколков никогда не иссякнет. Кроме стекол в арсенале бунтовщика были две внушительные заточки.
Наконец попытки штурма прекратили. Не знаю, на что надеялся персонал – на группу захвата или на сон, который рано или поздно сломит террориста. Не знаю, но этот случай показал полное и бесповоротное бессилие администрации перед реальным бунтом.
Противостояние продолжалось вечер и ночь, до семи часов утра, когда пришел Алексей Иванович и бесстрашно шагнул в палату к Чураеву.
–Ну, Леня, давай поговорим, почему буянишь.
Даже у отпетого маньяка Чураева не поднялась рука на психиатра. За психиатра держат в Казани, в одиночке и держат пожизненно. Чураев сдался.
На койках лежали разложенные по калибру стекла, на подоконнике поблескивал металл двух заточек. При шмоне на теле бунтовщика были обнаружены несколько лезвий, гвозди, еще пара заточек. По всему было видно, что готовился к бою он всерьез и уже давно.