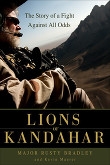Текст книги "Мы — из дурдома"
Автор книги: Николай Шипилов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
Назавтра Юра Воробьев прочел в одной из украинских газет:
«После этих выборов даже прыжки с парашютом без трусов в заросли кактусов вряд ли вдохновят, не говоря уж о виндсерфинге, фристайле, горных лыжах и прочих игрушках для сытых западных бюргеров. Подумать только, весь избирком одного из участков в полном составе был упакован вчера в одну из элитных психиатрических клиник города Киева…»
«Плохо ли в элитную-то!» – позавидовал Юра.
В ДЕТСКОМ ДОМЕ №…
1
Около девяти утра, оказавшись в раздевалке загородного детского дома №…, Юра Воробьев сразу же окунулся в его трущобный мрак. Он увидел мужчину в дорогом костюме, с крашеными в адски черный цвет кудерьками над лысеющим розовым лбом. Мужчина, как нефтяной насос или мышкующий журавль, раскачивался вниз-вверх над съежившейся перед ним в страхе девочкой-подростком.
– Я только зашла в раздевалку, чтобы снять одежду перед первым уроком, – плачущим голосом говорила она.
– Одежду снять?.. Шлюха, проститутка, сука! Так снимай, снимай же ее! Все, все снимай! – мужчина схватил девочку за плечи, стал гнуть ее долу и трясти, как тряпичную куклу.
– А-а-а! – шепотом закричала девочка.
– Если ты, хромосома, еще раз спросишь, откуда у Гришки фонарь под глазом – я тебя по стенкам размажу, сучка! – мужчина схватил девочку за отвороты курточки и снова стал трясти, говоря ритмично: – Вот тебе, вот тебе, вот тебе: на!..
«Она же сейчас заплачет. Господи! Где же ее родители?» – воззвал к небу Юра и громко кашлянул.
Директор разжал тиски, реактивно обернулся и сказал несчастной:
– Чого ти волаєш, мов згвалтована вівця?.. Зчепилися з дiвкой. Иди, вчiсь, Галинка! Слово за слово – тай натовкли один одному пику! – и перешел на русский: – До уроков осталось две минуты, а она тут кизяки топчет. А вы, прошу прощения, кто будете?
– Я? Хіба ж ви не впізнали? – и тоже перешел на русский: – Я проверяющий, аудитор – разве это непонятно? Только что проверил наличие состава преступления в деятельности известного писателя Табачника. А теперь позвольте и мне поинтересоваться: за что это вы просите у меня прощения?
– Это… э… э… фигура э… вежливости! – пояснил директор детского дома Аркадий Б. Самотыко, человек без особых примет.
Лучше всего называть таких людей крендельками. Кренделек и типок – два подвида хомо сапиенс. Такой кренделек отличается от простых людей и типков тем, что он подлиза, провокатор, завистник, стяжатель. Типок тоже вор, но ворует он для того, чтобы пропить, промотать, прокутить. Кренделек же ворует, шобы було. Их можно отнести к древнейшему подвиду пси-отклонений и нужно выявлять и изолировать их от общества как прокаженных.
– Пройдемте же ко мне в кабинет. Прошу! – сказал Аркадий Б. Самотыко.
По лестничному маршу, с которого, судя по всему, давненько уже умыкнули ковровую дорожку и нарисовали ее копию маслом, поднялись в кабинет директора.
– Приятно, очень приятно иметь дело с благовоспитанным человеком… – молвил проверяющий и, поводя носом, понюхал педагогический воздух кабинета. – С человеком, который имеет хорошие манеры… Но в случае с вами у меня возник вопрос. А звучит он так: кто кого имеет? Вы имеете манеры или манеры имеют вас?..
И пока пан Самотыко утирал платочком обильный пот с сократовского своего лба, проверяющий уселся в его кресло и стал, как бы между делом, выдвигать и задвигать обратно ящички стола.
– Не понял, плис… – не понял пан Самотыко. – Что вы сказали?
– Уточняю! – возвысил свой летучий голос Юра. – Вы имеете манеру красть у вверенных вам для попечения сирот их сиротские деньги. Где они?
– Позво-о-ольте, позвольте!..
– Я не барышня, чтобы позволять. Далее: вы имеете манеру с особым цинизмом унижать своих… м-м-м… воспитанников. Это является проявлением садомазохизма. Скажите: вы не из педрил?
Г-н Самотыко с невыразимой тоской посмотрел в сад, где еще пряталась зима, потом – на масляный портрет Януша Корчака. Но героический педагог отвел глаза и опустил их долу. Тогда попечитель сирот, как гусеница, парализованная осой-бембексом, оплыл в мягкое кресло для посетителей и просителей, сделанное умелыми сиротскими руками. Он шумно вздохнул, с трудом подавив в себе желание забыться, забиться под стол и остаться жить там, как в саркофаге.
– Экий же вы упитанный свинтус, – Юра еще раз понюхал воздух. – И знаете, что? Кончайте анашу шмалить натощак с утра пораньше.
– Я не шмалю… – потупился г-н Самотыко, отряхнув лацкан пиджака. – С чего вы это взяли? – но тоже принюхался. – А-а-а… Так это ж дiтыны!
– Да? Дiтыны? А вы что, детское хозяйственное мыло каждый день жрете для кейфа? – говорил проверяющий.
– А что, разве его едят? Хи-хи! – г-н директор пытался определить вид оружия в этом непростом поединке. – Скажите-ка: как это вас пропустила наша охрана?
– Так я и сказал, ждите. Моя охрана под командованием лейтенанта Западлячки сняла вашу охрану под командованием быка Жоры. Ее, как охраны, больше нет. А вот вам я советую говорить мне правду и только правду. Разумеется, если вы не хотите, чтобы я тут же, без промедления отправил вас в камеру с голодными уголовниками. Или, если хотите, я прикажу намазать вашу физиономию повидлом и впустить сюда ос? Но это потом, а пока еще точка в этой неприглядной истории не поставлена. Поставим ее? Слушайте же: ранок, встає сонце, просинаються квіти, наповнюючи ніжним ароматом повітря. Шепочуть шелестом листя дерев, ніби бажають доброго ранку одне одному. Прокидається дитина, відкриває очі і подає свої рученята до самої близької людини на світі – до мами. А вместо нее – этакий каннибал, упырь, вурдалак усатый! Ай-яй-яй! Вам не стыдно?
С невыразимой печалью уже раскаявшегося грешника во всем облике г-н директор попробовал потянуть кiта за хвост:
– Так отож… Персонал будинку дитини, кажу, складається, кажу, з лікарів-педіатрів, психіатрів, логопедів, дефектологів, вихователів, нянь та медичних сестер. Вони, кажу, направляють всі свої сили на те, щоб діти не відчували свого сирітства і хвороби, дарують їм, кажу, тепло своїх сердэць. Да!..
Но во взгляде аудитора при этих словах сгустилась такая тьма ярости, что г-н директор решил прибегнуть к поведенческому стереотипу:
– А как насчет коньячка-с? – спросил он. – Коньячок из Приднестровья-с, настоящий-с!
Это предложение напоминало попытку вывинтить гвоздь крестовой отверткой, на что был получен суровый ответ:
– Детскую кровь не пьем-с!
Аудитор снова сел на директорское место, вынул из наплечной кобуры изысканный пистолет и навернул на ствол элегантный глушитель.
Директорский зад налился свинцом, пятки – душевным трепетом, а глаза – слезами сочувствия к самому себе. «Сволочи! Никакой жизни порядочному человеку!» – едва не плакал он. Это типичная реакция бандитов, которые всегда уверяют себя, что их жертва – и есть главная виновница их бед. Так считать им «комфортно». У них нет стыда. Стыд – это внутренний тормоз, заблаговременно тормозящий объект до начала тех движений души, которые могут принести вред другим участникам любого движения душ.
Аудитор вернул вора к действительности словами:
– Сейчас, мразь, мы бегло ознакомимся не столько с вашими приемами приема проверяющих, сколько с приемами вашей попечительской деятельности. Законы не должны быть общими для всех: чем выше общественное положение человека, тем строже должны применяться к нему законы уголовного кодекса. Верно? Вам я устрою самосуд.
– Люб-б-бопытно-с! – изрек директор.
– Если любопытно, то зачитываю документ по памяти, здесь ведь не суд, здесь самосуд. Итак: «Просим вас разобраться и защитить детей-сирот, проживающих в детском доме №… Юноград-2. Директор детского дома №… г-н Самотыко Аркадий Борисович работал в Министерстве просвещения и ушел оттуда в связи со служебными нарушениями…»
– Э… э… э… Вы, похоже, от какой-то российской организации? – спросил он, думая:
«Кумедні ці москалі щось собі вигадають і носяться, як той дурень з писаною торбою! Як би москалі були такі хоробрі, вони давно би самі провернулися би до України, а так посилають своїх посіпак-злодіїв!»
– Предъявите-ка ваши документы! – на какой-то малый миг он показался себе круче навороченного МиГа.
Но:
– Молчать, мерзавец! Не сметь мне экать! Смотреть мне в глаза! – сбил его с крутой траектории меткий аудиторский залп: – Слушать далее! «…Теперь, будучи директором детского дома, он обирает детей, дает по минимуму канцелярские принадлежности, из средств гигиены выдает только хозяйственное мыло, забирает у детей подарки спонсоров и даже те, что получены на президентской елке. Машиной, принадлежащей детскому дому, он пользуется единолично. Машина стоит у него дома, и на ней ездит его сын. В детском доме нет психолога. Воспитателями работают бывшие воспитанники, не только без педагогического, но и вообще без какого-либо образования. По штату cорок человек, из них восемь ночных воспитателей, а ночью остается только бывший воспитанник Артем. Он в детском доме главный. Он наказывает детей, посылает девочек на улицу, чтобы они заработали деньги, предлагая свои услуги…»
Аудитор сделал роковую мхатовскую паузу. К ужасу впавшего в полузабытье г-на директора, благообразные черты лица аудитора словно бы подернулись дымкой и как бы воскурились дымом. А на лице остались только глаза. В глазах же – только зрачки, которые, как два кованых граненых гвоздя, окончательно приколотили Самотыку к стенке кресла, в его инфернальную глубину. Он показался себе ушастым паучком, опрокинутым на спину. И понял, что не вышнозначенные аудиторские черты якобы воскурились, а на его миндалевидные директорские очи «набежала, как дымка, слеза».
– Скажите: это не сон? – спросил г-н директор, но не услышал ни себя, ни ответа сурового проверяющего.
Защищаясь, он невольно стал думать по-украински, ему казалось, что так русскому будет трудней читать его мысли. А в голове его звучало мстительное:
«Этому козлу Гузию давно вже треба добре дати пинкаря пiд жопеню, за то що навів такий безлад в України, що кацапня вже на наших головах, нас українців танцює!»
– Меня уволят с работы? – спросил он.
– Мы тебя из жизни уволим, чмырь! Слушаем дальше: «…Глебова Лена из шестого класса и Токмакова Аниса из седьмого класса убежали из детского дома после того, как их изнасиловал этот Артем. Их поймали, выставили нагишом в коридоре, а потом посадили в карцер. За последние месяцы этот Артем лишил невинности также: Павлову Иру из шестого класса, Молодцову Олю из седьмого класса, Шуваеву Джамилю из того же седьмого класса. Он насилует девочек, отправляет к мальчикам, а подрастающие девочки с ужасом ждут своей участи. Заведующий детским домом регулярно водит девочек на аборт. Цапова Вика родила ребенка, а заведующий продал его на усыновление. Воспитательница Толстопупенко Гульноза торгует девочками. Директор удовлетворяется…»
– Да, да, да! Но материальные-то потребности удовлетворяются! – ввернул в этом пикантном месте подсудимый. – Они удовлетворяются, пусть и в минимальном объеме: одна пара зимних ботинок, одна пара кроссовок, одна пара летней обуви… – как хороший ученик на экзамене, тараторил он. – И еще носки, белье, спортивный костюм, зимняя куртка! Мало им? Если умножить все это на двести вверенных мне детей, которым мы помогаем, получится что-то около шести тысяч у.е., господа! Где их брать? К тому же добавлю…
– Довольно!.. Фрол Николаевич, что этому фанту сделать? Дети-то плачут… – проверяющий устремил алмазно-стеклорезный взгляд поверх головы директора. Тому показалось, что он навечно, намертво замурован в кресле для просителей, посетителей и дорогих гостей.
– …Что через відсутність належних коштів, які виділяє держава, не повністю забезпечується потреба на життєдіяльность дітей, які недостатньо отримують овочі, фрукти, вітаміни… – успевал все-таки стрекотать директор дитячього будiнку.
Тут на толстые его государственные плечи плотно улеглись руки в мотоциклетных крагах, какие он видел счастливой детской порой в кино про немцев.
– Раз… решите выйти… в это… э… э… в туалет… а? – попросился он. – По-малому, пардон… Просто невмочь, товарищи…
– Я ему щас звездорезну по-большому! Счету! – сказал мужчина за спиной. И тут же его рука в крагах отстегнула директору карательную заушину по изометрической фотографии, а голос из-за спины доходчиво пояснил: – Это тебе за «товарищей», пан господин директор! Хочу дополнить, Юрий Васильевич: окончившие детский дом дети должны получать подъемные деньги, но основную их часть забирает эта сволочь. Эта сволочь выдает им по тысяче-полторы гривен. Никитенко Николай, к примеру, получил из восьми тысяч гривен только лишь восемьсот, Липкин Андрей – тысячу, Гузадзе Вахтанг – тысячу двести. Я предлагаю, Юра, суммировать, и за каждую гривну – розга! Согласен ты, помесь шакала со скунсом?
Директору показалось, что его разыгрывают. Он истерично, понимающе засмеялся, говоря:
– Хорошо, хорошо! Понял!.. Что ж, я готов поделиться.
– Готов?
– Под давлением силы – да! Да, готов! Да! Так бы сразу и говорили бы: да!
Руки исчезли с его плеч, а с фронта обрисовался человек, лица которого не было видно в контровом свете, падающем из окна, но одет этот человек был в летный комбинезон, какие уже давно списаны в утиль истории. Человек этот сказал:
– Ты согласился, прокудник, с постановлением суда. Мы сбросим тебя, мурло, с вертолета на минное поле. Вот тогда ты и поделишься, шакал, на мелкие и очень мелкие части: тебя на них разорвет. Человек, эксплуатирующий детское горе с целью наживы, – особый паразит. И кара должна быть адекватна им содеянному!
Комбинезон убеждал г-на бывшего директора в реальности угрозы, хотя мысли о расплате за кражу чужого давно, казалось бы, поглотили все его умственные силы.
– Последнее слово! Прошу последнего слова! Что может сохранить мне жизнь? Я готов, если только это в моих силах! – он сполз с кресла, встал на колени перед тенью военного летчика времен Второй мировой войны и стал целовать свой нательный крестик, держа его правой рукой, а левой – крестить лоб.
– Ишь, Фрол, православный крест на ней, на этой сволочи, – сказал и встал из-за стола аудитор, поигрывая пистолетом. – Каково же это сознавать нам, православным! Вразуми его, Господи, моей карающей рукою!
А директор все лобызал крест, думая:
«Брешуть, що вони є руські і православні! Такими вони не є та ніколи не були, бо руськи та православни є ми – українці!»
В такой же коленопреклоненной позе стояла перед ним сегодня утром воспитанница Лазаренко из пятого класса «а».
– Поверьте, эксплуатация детей есть и в европейских странах, – нашел он наконец слова. – Только там она ведется более «цивилизованно», товари… господа. А ведь эти страны подписали конвенцию № 182 и вообще должны были отказаться от детского рабства. А они отказались, скажите? Нет! Почему? Потому что есть, есть могучие силы, которые этому мешают! Они есть! И они на моей стороне!
– На твоей стороне черт да дьявол. Пригласи сюда воспитанника Васю Ахромеева. Попросишь у него прощения, а потом мы заберем его в Россию, – сказал благообразный старец, сидящий на директорском месте. – И никакой информации в банк данных. Никаких юридических проволочек: облоно, нотариусов, загсов, судей…
– И все? И только Васю? – возвел глаза к повелителю коленопреклоненный попечитель. – Это все? А как же документы? – говорил он, продолжая истово креститься левой рукой.
– Смени руку! – приказал Юра. – Не доводи до греха. Можно подумать, что ты, мусор земной, веришь в Бога и в серьезность оккупационных документов. Разве ты их никогда не подделывал? – спросил он. – Да-а, зажился ты, похоже, на этом свете. Ты ведь, слепец, сумеешь украсть и сухую кроху у церковного мышонка, не так ли?
– А в чем дело? У меня нормальное зрение, никакой я вам не слепец! Я прекрасно все вижу: в Раше сейчас пять миллионов беспризорников, а вы тут Украину курируете![28]28
«…по официальным данным, в 2004 году иностранцы «купили» в России свыше 9400 сирот в среднем по цене 30 тысяч долларов. То есть каждый рабочий день совершается около 40 сделок на сумму свыше миллиона долларов, или 28 миллионов рублей ежедневно! Умножьте на количество рабочих дней в году. Получаются около 300 миллионов долларов. Представляете, какие откаты получают «опекуны» г-на Фурсенко! А дальше? Америка то и дело сотрясается скандалами, связанными с убийством приемных русских детей. А мать-Россия узнает об этих изуверствах из иностранных СМИ». (Газета «Завтра» от 7 июня 2006 года).
[Закрыть] Найщо? – кряхтя, вставал с колен изувер.
– Уходя в ад, оставь эту заботу нам. Для нас нет разницы между детьми. А пока будешь сопровождать нас с Юрой и мальчиком до вертолета. О том, как себя правильно вести, ты, наверное, видел в кино.
– Если мы разойдемся миром, то Господь наградит вас, гос… тов… людыны… – смиренно произнес людоед, продолжая в уме список наград:
«…мавпо-цьомами, дупо-давцями, бородавко-смиками, гнилі-рани-дригами, тягни-рядно-поза-хатами, нажрися-набекалами, шмарклі-невитирачками, волосня-виривайками, по-глистам-тарабайками, непотріб-споживайками, курвами розкладушками, чушками смердюшками, вавками-гниюшками,ранами-розкладанами, холерами, гепатитами, стоматитами, і по них вогонь в ім’я україни та українців та найкращої на світі мови та культури – української!»
И спросил:
– Скажите, пришлые люди, у меня есть хотя бы единственный шанс?
Человек в комбинезоне ответил:
– Единственный? Да, есть.
– Каков же он? Я готов пойти на любые трудновыполнимые условия.
– Поясняю: ты будешь лететь без парашюта. Первое: нужно будет как можно больше и быстрее наложить в штаны. Второе: нужно постараться приземлиться не на ноги, а прямо на эту самодельную подушку. Как ты понимаешь, в этом случае удар будет смягчен.
2
Фрол привел Васю не очень скоро, но Юра Воробьев с радостью поразился очевидному сходству паренька с погибшим чадом мастера Ивана Павловича.
– Едва нашел этого Васю, – притворно ворчал Фрол. – И где, думаете? У «черных следопытов»! Старые окопы раскапывают, оружие ищут… А вот, – указал он на пана Самотыку, – и покупатель!
Пан Самотыко опять начал креститься, но уже правой рукой. До присутствующих доносились тихие слова его молитвы:
– Курвы смердючи, мразь кацапо-фашистська, глистоїды, представники раси нелюдів, проститутки, зеки, наркоманомы, варвары, людожерi, жаб’ячо-ведмежии глистi, віслюки засранi, непотребi смітницькi, тупи, дурни, придуркуватi даунi…
– Что это, да, с ним? – спросил Юра. – Уроки, да, учит?
– Молится… – ответил Фрол. – Никому не мешает… – но на всякий случай снял крагу и погрозил пану Самотыке толстенным указательным пальцем.
Пан Самотыко сомкнул уста, но тихое носовое жужжание продолжалось:
– …одноклітинниi примітивни створіння, дитины сатани, заражени усіма відомими та невідомими сучасній медицині хворобами, шакаляча порода, чурбанi тупорили і чуркi неукраїнськи…
– Где твои, да, родители, мальчик? – спросил Юра Воробьев.
– Все умерли. Все в земле, – ответил тот, не глядя ни на кого, а глядя в окно на голые еще ветви вишен за стеклами. – Да…
«Неглуп. Немногословен… – расценил Юра. – Характер – в Ивана Павловича».
– Подойди, да, ко мне, отрок, – сказал Юра. – Давай знакомиться: я, да, дядя Юра Воробьев. А тот, кто тебя, да, привел – дядя Фрол, он сельский летчик.
– А отрок – это кто? Я, что ли, отрок? – спросил Вася, не сходя с места и по-прежнему не глядя в лица взрослых.
– Отрок – это несмышленыш, такой, да, как ты. Ты ведь не догадываешься о том, для чего, да, мы с дядей Фролом прилетели?
Тогда Вася впервые посмотрел прямо в глаза Юры Воробьева своими иномирными синими глазами. И Юра как озарение почувствовал, что его, летуна, жизнь на земле кончилась, что ему, Юре, здесь больше нечего делать, потому что не будет уже радости выше этой и чувства чище того, которое вспыхнуло и проблеснуло на мгновение в глазах мальчика.
– Нет, нет, – изменившимся, упавшим голосом сказал мой друг Юра Воробьев. – Не я твой отец. Но он, твой папа, так уж, да, получилось, жив, даже силен и здоров. Он просил меня отыскать тебя, да, хоть на краю света.
«Кто мы? Люди мы или карикатура на Божественный замысел? Мы не видим посланников неба – детей… В поисках ложной истины мы покушаемся на Божественный этот замысел, мы выдергиваем маховые перья из ангельских крыльев и внимательно изучаем в лабораториях химический состав детских слез. Полноте! Какая истина! Истина бежит нас, как от чумы, и лишь дьявол устало смеется над нами…» – думал Юра, доставая из записной книжки фотографию мастера Ивана Павловича.
– Вот твой, да, отец, Василий, – и, задумавшись над карточкой на миг, сказал: – Не дай Бог снова придут времена, когда живые люди будут завидовать, да, мертвым. Но пока есть мы, летающие, да, люди – все не так уж плохо, Василий…
При взгляде на фотографию Ивана Павловича лицо Василия словно умылось семью утренними росами, лицо просветлело, на нем зорно расцвели светом глаза. Белые зубы, как подснежники, пробивалась из-под холодного наста сомкнутых губ.
– Я его узнал, – сказал Вася. – Это мой папа. Тогда мне было два года…
– Тогда – тридцать минут на сборы, вот что тогда! – приказал Фрол. – Помните, высокооктановый самогон как топливо имеет свойство испаряться при дневной жаре, – и подмигнул Юре: – Я пойду с ним.
– Нет, нет! – не отрывая, впрочем, глаз от фотографии Ивана Павловича, возразил Вася. – Я – сам. Мне надо попрощаться с Галинкой… Можно, я пойду, покажу ей… своего батю?
– Ну, хорошо, хорошо. Сорок минут тебе на все, – разрешил Фрол. – А с тобой пойдет лейтенант Западлячко, он все же при форме. Будет меньше пустых вопросов со стороны здешних… м… м… обитателей.
Тогда осмелевший Вася спросил:
– Кто у вас главный?
– Главный – это он, дядя Юра.
– Дядя Юра, а можно я плюну на Аркадия Борисовича?
– Можно, – разрешил Юра.
– Но, но, но! – вскричал обиженный, возмущенный Самотыко. – Но, но!
– Смотрите-ка, еще живой полиглот. Он итальянский язык знает! – подивился Фрол.
На что Вася сказал:
– Он не полиглот – он проглот, – сделал верблюжье «тьфу» на пиджак своего обидчика и побежал прощаться с подружкой.
Обиженный обидчик горько заплакал, осознав ничтожность своего педагогического призвания. Но огнь сатанинских заклятий его возгорелся от детского плевка, как костер от ковша солярки, с новой силой:
– Кацапня, яка власної землі не має, бо живе на землі іншого народу щурячим брудним хвостом, смердючими язичникамi, опаришами бридкимi, хробакамi трупнимi… – бормотал он беспрерывно.
– Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша, – откомментировал Фрол. – Сколько тебе, пан, нужно денег, чтобы ты встал в колено-локтевую позу? Эта твоя хохлопропаганда настолько «достала», что я сейчас тебя удушу своими руками в этих вот крагах. Скажи, что тебе дать в пасть, чтобы ты заткнулся?
– …Українці будуть тими, хто знищить цю заразу, зітре цю фашистську наволоч з лиця Землі… – отвечал мирно пан Самотыко.– Жаболизы, глистосмоки, гвалтівники пацюків, злодіи, стафілококи, стрептококки, курячиi грипп, коклюш, тиф, чума усіх віків та народів…
От камлания не отвлек его даже громкий голос Сени Парамарибского из школьного коридора:
– Вам телефонировали из секретариата президента? Да, телефонировали, однозначно! О чем вас, незасiчных-незасрiчных, просили? А просили вас о том, чтобы вы официально встретили меня, Семена Парамарибского, на красной дорожке и с цветами! Где дорожка? Где цветы? Где хлеб, соль, горилка, сало? Где ваш Самосука? Всех, всех – в Винницу! И секретариат вашего президента туда же – в Винницу, в психушку имени Верховной Рады имени Гузия! Сеня пошел бы за своими деньгами, даже будь они зарыты каким-нибудь несчастным в 1942 году в Дахау, под газенвагеном.
Голос Сени и литавренный грохот его шагов приближался к директорскому кабинету.
– Кто здесь – из детдома, а кто – из дурдома? За пятнадцать лет вами, хохлами, потеряно двенадцать миллионов рабочих мест, умерли, однозначно, пять миллионов человек! А? Это куда годится! – вещал он на ходу. – Однозначно, устроили тут голодомор, круче сталинского!
Сеня не отличал правду ото лжи. Он весело лгал всегда и на всякий случай, оттого что понимал: правда – это больно. Зачем делать себе больно? Он весело врал всем и вся вовсе не потому, что норовил обмануть, а потому что не верил в правду. Ложь была тем морем, в котором он был рыбой. Правда была для этой рыбы сушей. Одноклубники по «дурке» знали это его свойство, но привычно любили Сеню как хороший спарринг.
Словно от кодовых слов:
– А над этой резиденцией надо было бы повесить табличку: «Оставь надежду, всяк сюда входящий», – двери распахнулись.
3
На какой-то миг я выглянул из-за толстой спины Сени и увидел наконец-то смеющееся лицо Юры Воробьева. Но Сеня предпочитал наслаждаться общей победой лично, в одиночку. Он встал в дверях, раскинув руки так, что у меня не осталось возможности видеть любимых друзей, и вскричал:
– Подъем, штрафная рота! Народ заждался своих освободителей!
«Ну, этот цирк надолго. Сене нужна публика». Я ущипнул его за бок, но Сеня так хорошо и упруго упитан, что не почувствовал этого, породив во мне нехорошие мысли о его сущности.
Слыша все эти дружеские «о» да «у», я отошел метра на полтора и с разбегу толкнул Сеню в спину, со словами:
– Алешка Румынов… писатель… сюда не забегал?
Он сдвинулся вглубь кабинета и попал в объятия Фрола Ипатекина. Я проскочил за ним в присутствие с вопросом:
– Где наша авиация?..
Мне отчего-то становилось все тревожней, я почувствовал вдруг близкое, наглое дыхание смерти.
Полузадушенный в объятьях Сени авиатор Фрол не смог ответить мне ничего внятного. Говорил маленький, заплаканный человечек, скомканный в глубоком кресле, которое казалось реквизированным у какого-то богатого гедониста. И сам человечек казался здесь чужим, как гармошка на похоронах.
– Тепер стосовно Росії… – бормотал он довольно внятно, в отличие от старины Фрола. – Нехай, нехай же ця Росія покаже приклад Україні та й всьому, кажу, світові, як потрібно житии! Як житии, щоб сусідні країни прагнули до дружби та объєднання з нею! Що? Поки-що приклад зворотній, вот що… Хіба, кажу, ваша Росія хоч якось захищає вашіх кацапюр тут, в Україні? Ну скажіть відверто, самім собі? Що вас так приваблює в країні, яка розвалилася і продовжує розвалюватися на ваших очах? Повний розпад Росії – справа найближчого часу, це очевидно! Хіба може якесь чудо… Так ви на нього не заслуговуєте… И ви, и ви, и ви тэж! – он поочередно тыкал в нас дрожащим пальцем.
– Если вы киевлянин, то наверняка знаете, что психбольница Павлова находится на улице Фрунзе возле Кирилловской церкви, – пожалел незнакомца Сеня. – Что вы здесь турусы разводите? Это детское воспитательное учреждение, а вам пора в дурдом, однозначно! Может, заодно и покаетесь там за разжигание вражды во имя Украины. И по-русски, по-русски, плиз! – пожелал он.
– …И как апостол, помазанный тобою, и как посланный тобою, мой Бог, заявляю от имени Христа Иисуса, что мы и я, как во главе этой армии, мы берем ответственность за спасение Украины! – взвыл пан Самотыко.
– Во-первых, молодой силуэт, я вас никуда пока не посылал, кроме дурдома, однозвучно! Во-вторых, шкура неубитого медведя – лучшее украшение для стен воздушного замка! Говорю вам, коллеги, как бывший псих: в этом случае, – Сеня указал на человечка в кресле, – имеет место быть бред Аделаджи, – констатировал он.– Их таких много сейчас разбрелось по диким степям Украины. Кто этот тип?
– …Жаболизы, глистосмоки, гвалтівники пацюків…
– Военнопленный, – отвечал Юра Воробьев. – Мерзкий растлитель, да, детей. Ему нравится, когда дети, да-а, плачут.
– …Курвы смердючи, мразь кацапо-фашистська…
– Слышали уже. Молчать! – приказал Сеня. – Однозначно, я генерал русской армии! – и, дождавшись тишины, поучил жизни Юру: – Плачут не только дети, Юрий Васильевич. Плачут и депутаты Госдумы, у которых берут взаймы деньги и не… Кстати или некстати, Фрол, но ты тоже хорош: где наш воздушный флот, где мои «Осы»[29]29
Ка-56 «Оса». Экипаж 1 человек, двигатель роторно-поршневой ДВС, взлетный вес 220 кг, полезная нагрузка 110 кг, максимальная скорость 110 км/ч, максимальная высота полета 1700 м, дальность полета 120 километров.
[Закрыть]? Отвечай!
– Не надо, не надо ос! – забился еще глубже в гедоническое кресло человечек, закрывая лицо руками. – Не надо повидла!
– Что с этим придурком, он в своем уме? – спросил я. Тревога моя усиливалась.
– Эй, Алеша, да, не беспокойся! – сказал Юра. – Я обещал намазать ему рыльце, да, детским повидлом и впустить в кабинет ос. А он, да-а, боится.
Человечек вдруг выпрямил спину, сверкнул глазами на портрет Макаренко и спросил у этого портрета:
– Зачем? Зачем я, простой деревенский паренек, вступил в ряды КПСС и стал руководящим работником? Зачем пошел учиться в Высшую партийную школу? Зачем? Я же был чист, как… чист, как… Нет слов! Это ты, ты, ты виноват, кацапюра, что меня теперь не отпускают по нужде!
«Немудрено, – подумал я. – Сами, бывало, косили. А нынче такое мироустроение, что каждый вор норовит закосить «под политику».
– Какое безобразие, это же прямое нарушение прав чоловiка! Под мою личную ответственность отведите парня на горшок! – ходатайствовал за пана Самотыку наш думец…
Под охраной перекованных на орала Юрой киевских милиционеров, под взглядами сирот, припавших к стеклам классных окон, мы гуськом шли к недалекой поляне в лесу, где стоял летательный аппарат конструкции Ипатекина.
Вася шел, не оборачиваясь, молча, собранно. Он выходил из сиротского ада в жизнь, которую видел лишь в телесериалах, в жизнь, где его ждали неведомые ему родные. Милиционеры жевали на ходу что-то конфискованное Фролом в директорском логове. На непослушных его воле ногах шел в неволю и пан Самотыко. Когда он споткнулся, мы услышали одобрительный свист из окон школьных классов – Самотыко не обернулся. Сеня с Фролом говорили об упрощении задачи обеспечения вертолета топливом и маслами при удалении от места базирования. Мы с Юрой шли в хвосте. Юра рассказывал мне о своем аварийном приземлении в Новосибирске. Он выглядел предельно усталым, чаще, чем обычно, «дакал», терял мысль, искал ее окольными путями.
– Устал, Юрок? – спросил я.
– Смертельно, да, устал. Старость, да, что ли…
– Но парня-то ты нашел!
– Нашел, да-а, парня, да-а, Алеша… – улыбнулся он, остановился и глубоко вздохнул, закрыв глаза в блаженстве.
– Хочешь, я прочту тебе стихотворение о воробье?..
Было это задолго до полудня.