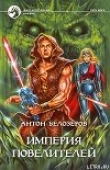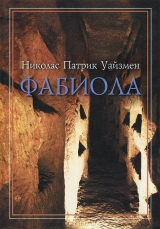
Текст книги "Фабиола"
Автор книги: Николас Уайзмен
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
XVI
Когда Фабиола возвратилась из пригорода в Рим, ее посетил Себастьян. Он счел нужным предупредить Фабиолу, что Корвин намеревается предложить ей руку, и для того установил контакт с ее рабыней Афрой. Фабиола презрительно улыбнулась, зная о репутации Корвина, о котором даже ее отец, столь неразборчивый в выборе знакомых, отзывается очень неодобрительно. Она поблагодарила Себастьяна за предостережение и участие.
– Не благодари меня, – сказал Себастьян, – я считаю своим долгом предупредить каждого человека об интригах, которые затеваются против него.
– Ты, вероятно, говоришь о друзьях, – сказала Фабиола, смеясь. – Согласись, что если бы тебе пришлось предупреждать каждого, то вся жизнь твоя прошла бы в оказывании услуг даром.
– Ну и что же? – ответил Себастьян. – Неужели за исполнение долга или за всякий честный поступок надо получать награды?
– Ты шутишь? – сказала Фабиола. – Неужели ты хочешь спасти от беды человека, который к тебе безразличен?
– Конечно, – сказал Себастьян серьезно. – Я сделаю то же самое и для врага. Я считаю это свои долгом.
Фабиола была изумлена и вспомнила изречение, прочитанное ею на клочке папируса. Себастьян высказал то, что не раз говорила ей Сира.
– Ты посещал Восток, – спросила она у Себастьяна, – не там ли ты научился этим правилам? У меня есть рабыня с Востока; я хотела отпустить ее, но она захотела остаться у меня и обладает редким сердцем и добротою. Она часто говорила мне то же самое, что и ты.
– Нет, я не был на Востоке, хотя правила эти пришли к нам оттуда. Еще ребенком, на коленях моей матери, я узнал их.
– Признаюсь, я сама считаю эти правила замечательными, но убеждена, что их нельзя осуществить на деле. Что же касается меня, то я разделяю мнение старого эпикурейского поэта, который сказал: «жизнь человеческая – пир; я его оставлю, когда буду сыт».
Себастьян покачал головою.
– Нет, по-моему не так, – сказал он, – жизнь не есть развлечение. Каждый человек, кем бы он ни был, родился для того, чтобы исполнить свой долг. Император и невольник имеют свои обязанности и должны их исполнить. После смерти начинается иная жизнь.
– Ты воин, и я понимаю твою мысль, – сказала Фабиола. – Если ты героически погибнешь на поле битвы, то оставишь славное имя в потомстве, и оно будет жить из века в век; оно не умрет никогда.
– Ты неправильно меня поняла. Конечно, я считаю своим долгом быть готовым к смерти, защищая отечество, если бы оно было в опасности; говоря об иной жизни, я говорил не о славе. Какая бы смерть ни постигла меня, я верю, что она пришла по воле Того, Кого я почитаю.
– И ты покоришься без ропота? И смерть будет тебе отрадна? – спросила Фабиола с улыбкой сомнения.
– По крайней мере, я не боюсь смерти, ибо всегда о ней помню. Все мы должны рано или поздно умереть. Надо жить так, чтобы не страшиться смерти.
– О, как слова твои похожи на слова Сиры! – воскликнула Фабиола, – но вместе с тем, как все это страшно!
В эту минуту дверь распахнулась и показавшийся на пороге раб сообщил:
– Благородная госпожа, гонец приехал из Байи.
– Извини, Себастьян, – сказала Фабиола. – Пусть он войдет немедленно.
Гонец вошел; он выглядел очень утомленным, одежда его была запыленной. Он подал Фабиоле запечатанный конверт. Фабиола взяла конверт дрожащею рукой и прерывающимся голосом спросила:
– От отца?
– По крайней мере, известие о нем, – уклончиво ответил гонец.
Фабиола разорвала пакет, взглянула на бумагу и, вскрикнув, упала на кушетку. Вбежали невольницы, Себастьян быстро удалился.
Фабиолу постигло несчастье – отец ее умер.
Когда Себастьян вышел из дома, он нашел гонца, рассказывавшего невольникам о смерти Фабия. До отправления в Азию Фабий провел, по желанию дочери, несколько дней вместе с нею на ее вилле; прощание отца с дочерью было нежным, будто они предчувствовали, что им более не суждено увидеться.
Приехав в Байи, Фабий, по обыкновению, тут же бросился в разгул, пока галеру, на которой он должен был отправиться, нагружали в обратный путь. Однажды, выйдя из бани, он почувствовал озноб и через несколько часов внезапно умер. Фабий оставил единственной дочери большое состояние. Его тело должны были перевезти в Остию.
В первый раз Фабиола испытывала настоящее горе; оно показалось ей, незнакомой со страданием, невыносимым. Первые сутки казались ей бесконечными; она находилась в каком-то забытьи, машинально принимала или отталкивала подаваемую ей помощь, не отвечала на вопросы и впала в оцепенение, всегда следующее за сильным потрясением; она не спала, а только дремала, не пила и не ела. Врач не знал, как ее вывести из апатии, и, наконец, решился на сильное средство. Он подошел к ней и громко сказал: «Да, Фабиола, отец твой умер!» Эти жестокие слова потрясли ее и возвратили к жизни. Несчастная девушка, потерявшая единственного человека, которого любила, вскочила, и слезы ручьями хлынули из ее глаз. С этой минуты она стала говорить об отце, вспоминала о его ласках, рассматривала безделушки, которые он когда-то дарил ей, плакала над ними и с нежностью их целовала. Наконец рыдания утомили ее; она впала в забытье и потом, в первый раз после своего несчастья, тихо заснула. Евфросинья утешала, как могла, свою питомицу; Сира молчала, но молчание ее было исполнено такого сердечного участия, взоры – такой любви и заботы, что Фабиола поняла глубину сердца Сиры. Когда первое чувство горя стихло, Фабиола предалась безотрадным мыслям: «Где теперь отец мой? – думала она. – Куда он скрылся? Просто ли перестал он жить и исчез навсегда? Неужели уничтожение – удел людей? А если правда то, о чем говорит Сира?» Она не могла представить себе, что отец, которого она так любила, не существует, что он безвозвратно и бесследно исчез, как исчезает призрак, что от него остались только одни кости...
Сира угадывала мысли и чувства Фабиолы, но не могла говорить ей о том, чего бы Фабиола не поняла и чему она еще не верила. Сира только молилась, чтобы Бог сжалился над страдающей Фабиолой, просветил ее ум и открыл для нее новый мир – мир любви и веры...
Через несколько недель Фабиола, одетая в глубокий траур, бледная, похудевшая, но все еще прекрасная, посетила Агнию.
XVII
На другой день после ужина у Фабия Торкват, проснувшись, увидел Фульвия около своей постели. Фульвий очень холодно рассказал ему, что случилось накануне, и еще раз представил ему картину несчастий, которые неминуемо его постигнут, если только он не захочет назвать имена всех известных ему христиан.
– При первой твоей попытке обмануть нас, – сказал Фульвий, – ты будешь предан в руки судей и, разумеется, приговорен к смерти; если же согласишься действовать вместе со мной, то сможешь стать богатым.
Торкват не ответил ни слова; он был бледен и дрожал.
– У тебя лихорадка, – сказал Фульвий, – пойдем прогуляемся. Утренний воздух освежит тебя.
Торкват повиновался. Фульвий отправился с ним на Форум, где они, якобы случайно, встретили Корвина.
– Хорошо, что встретился с вами, – сказал Корвин. – Не хотите ли зайти к моему отцу? Я вам покажу его мастерскую.
– Мастерскую? – спросил удивленный Торкват.
– Да, мастерскую, в которой он хранит орудия своего мастерства. Он только что привел их в порядок.
Они вошли в широкий двор и оттуда в сарай, наполненный орудиями пыток всех родов и всех размеров. Увидя их, Торкват вздрогнул и отшатнулся.
– Войдите, не бойтесь, – сказал старик-палач, встретивший их у входа. – Огонь еще не разведен, и никто вас не тронет, если вы – от чего да избавит вас Юпитер! – не принадлежите к гнусной христианской секте. Мы для нее подновили все инструменты.
– Покажи этому молодому человеку все твои орудия и объясни ему их назначение, – сказал Корвин палачу.
Мы не будем описывать орудия пыток, имевших целью отнимать у людей здоровье и жизнь.
Торкват почувствовал, что ноги его подкашиваются. Холодный пот выступил на его лице и дрожь пробежала по всему телу. Он поспешил выйти из этого ада и отправился в бани Антонина. После роскошного завтрака его повели в игорную залу. Чтобы заглушить мучения, он принял участие в игре и проиграл. Фульвий поспешил дать ему денег взаймы, и так Торкват попал в еще большую зависимость от Фульвия.
С этого дня Торкват и Фульвий виделись ежедневно. Корвин и Фульвий приказали Торквату проникнуть в катакомбы, чтобы изучить их переходы и узнать, в каком именно месте епископ совершает литургию. Вот почему Торкват при помощи ничего не подозревавшего Панкратия посетил катакомбы, сосчитал коридоры и оставил отметки. Возвратясь оттуда, он донес обо всем, что видел и слышал, Корвину, который принялся со слов Торквата составлять чертежи катакомб и решил, что на другой же день с утренней зарей, после обнародования декрета о преследовании христиан, он войдет туда и захватит всех, кого обнаружит.
Фульвий составил для себя другой план действий. Он поставил себе задачей лично познакомиться со всеми священниками и занимающими видное положение христианами. Зная их в лицо, он мог бы легко захватить их всюду, где бы с ними ни встретился. Для этой цели он приказал Торквату взять его с собою, когда епископ будет служить обедню. Торкват попытался было отказаться, но Фульвий настоял на своем. Через несколько дней Торкват дал знать Фульвию, что вскоре состоится посвящение священников, обедня и причащение в христианской общине. В назначенный день они отправились вместе к дому наследников римского сенатора Пуденция, где собирались христиане и где епископ служил обедню.
В то время, о котором мы рассказываем, римским епископом был Маркелл. То был человек уже старый, благочестивый и впоследствии принявший мученическую смерть за веру. Торкват знал пароль и беспрепятственно прошел в церковь вместе с Фульвием, который умело изображал из себя христианина. Христиан было немного; они собирались в зале, где был воздвигнут алтарь. Когда Торкват и Фульвий вошли в церковь, Маркелл стоял, обратясь к молящимся. В то время епископы, избегая всяких внешних отличий, чтобы не обратить на себя внимания язычников, не носили особой одежды, и только, когда служили обедню, одевали нечто в виде чалмы. Эта чалма, несколько измененная, известна нам теперь под названием митры. В руках Маркелла был посох, точно такой же, какой до сих пор мы видим в руках наших епископов.
Тусклая зимняя заря едва освещала залу; на алтаре горели большие, душистые свечи, золотые и серебряные лампады. Близ алтаря на возвышении было поставлено кресло; на нем сидел епископ. Из глубины зала раздались голоса: хор стройно пел молитвы. Вошли все, кто готовился к причастию. Епископ сказал краткое поучение, после которого началось рукоположение священников и дьяконов. Торкват, боясь быть замеченным, уговорил Фульвия выйти из церкви до окончания службы. Фульвий согласился, так как он увидел уже все, что хотел увидеть. В этот день приобщались многие, в том числе Агния, Сира и Цецилия.
Фульвий не спускал глаз с Маркелла и старался удержать в своей памяти черты его лица, рост, волосы; он стремился запомнить даже звук его голоса и походку. «Где бы мы ни встретились, – думал Фульвий, – я непременно его узнаю, и ему ни под какою одеждой не удастся ускользнуть от меня. Если я успею задержать его, то состояние мне обеспечено».
XVIII
По Номентайской дороге, к востоку от Рима, находится теперь глубокий овраг, а за ним широкая долина. Посредине ее стоит храм полукруглой формы, а рядом с ним церковь св. Агнии, построенная на месте ее загородного дома, где она проводила лето и осень. Причастившись, все три молодые девушки отправились туда с намерением провести целый день в уединении и спокойствии.
Мы не будем описывать этого загородного дома, который не отличался от всех богатых вилл того времени и был окружен рощами и садами. Агния любила голубей; они знали ее и слетались ей на плечи. Она любила овец, которые по ее голосу сбегались к ней и ели из ее рук траву и хлеб. Но всех больше к Агнии была привязана ее верная спутница, огромная собака по кличке Молосс. Она сидела на цепи у входа на виллу и была так свирепа, что, кроме двух-трех слуг, никто не смел подойти к ней. Агния отвязывала ее сама, и собака ходила за ней смирная, как ягненок.
Как только Агния в этот день возвратилась с литургии, Молосс, завидя ее, растянулся на земле, замахал хвостом и терпеливо ждал, пока она подойдет к нему, приласкает и отвяжет. Как только она это сделала, пес облизал ее руки, запрыгал около нее и потом побрел за нею, не отставая ни на шаг; когда Агния садилась, он ложился у ее ног, поднимал к ней свою огромную, мохнатую морду, глядел в глаза и ждал, когда она своей нежной детской рукой ласково проведет по его густой шерсти.
День стоял светлый, тихий и теплый. Три подруги сидели в конце густой аллеи, сквозь которую проникали лучи заходящего солнца. Цецилия, всегда жизнерадостная, несмотря на свою слепоту, рассказывала что-то очень веселое, а Агния и Сира, нарвав цветов, делали из них букеты.
Фабиола, вышедшая первый раз из дома, захотела прежде всех посетить свою родственницу и приехала к ней на виллу. Она, не предупредив о своем приезде, вошла в сад и, увидев Агнию в обществе Сиры и слепой нищей, удивилась; присоединиться к ним ей показалось неприличным. Фабиола любила Сиру; она с удовольствием разговаривала с ней в своей спальне, но находила неприличным при гостях сидеть с нищей и невольницей. Вместо того, чтобы подойти к Агнии, она пошла вглубь сада, намереваясь возвратиться, когда Агния останется одна.
Агния же не подозревала, что Фабиола гуляет у нее в саду, и продолжала весело разговаривать с подругами. Тем более она не подозревала, что кроме Фабиолы, на ее виллу пробрался Фульвий.
Он не забыл Агнии и помнил, что Фабий намекнул ему когда-то о возможном жениховстве. Узнав, что Агния одна, без родных и слуг, поехала на свою виллу, он решился еще раз попытать счастья. Жениться на богатой, знатной и красивой Агнии – значило разом сделать себе карьеру.
Фульвий выехал из Рима верхом и скоро добрался до виллы; там он сошел с лошади, сказал привратнику, что ему необходимо по весьма важному делу видеть хозяйку, и узнав, что она в саду, прошел к ней, несмотря на протесты слуги. Он увидел Агнию в конце аллеи. Молосс поднял голову и зарычал. Агния, оставив цветы, подняла голову, а затем с изумлением и испугом поднялась со скамьи. В нескольких шагах от себя она увидела Фульвия, подходившего к ней с почтительным, но крайне самоуверенным видом. Агнии стоило большого труда удержать Молосса, который выказывал все признаки гнева и горел желанием броситься на гостя. Однако повелительный жест Агнии удержал пса-великана: он стоял около своей госпожи, грозно рыча, и скалил страшные зубы, как будто предчувствуя, что к ней подходит недобрый человек. Несмотря на приказание своей хозяйки, Молосс не хотел лечь у ее ног, а стоял, чутко навострив уши.
– Я приехал, благородная Агния, – сказал Фульвий, – чтобы лично выразить тебе мое искреннее уважение, мою безграничную преданность. Кажется, я не мог выбрать лучшего дня, – солнце греет, как летом.
– Да, день прекрасный, – ответила смутившаяся Агния, не зная, как выпроводить иностранца, который наводил на нее страх.
– Какой прелестный белый венок у тебя на голове! Кто тот счастливец, который поднес эти цветы? Я льстил себя надеждою, и еще не отказываюсь от нее, что ты иногда вспоминаешь обо мне и даже, быть может, не совсем безразлично.
Агния молчала. Фульвий продолжал, не смущаясь:
– Я узнал из верного, очень верного источника, от нашего общего друга, что ты благосклонна ко мне. Фабий, твой родственник и мой приятель, считал, что ты не отвергнешь моего предложения. Нынче я пришел просить тебя решить мою участь. Быть может, мое поведение покажется тебе слишком опрометчивым, но ты простишь меня... Я искренен и повинуюсь велениям сердца.
– Уходи, уходи! – сказала взволнованная Агния. – Затем ты пришел сюда нарушить мое уединение? Я никогда не желала встреч с тобой, а теперь тем более. Оставь меня. Я хочу быть одна. Я у себя дома и прошу тебя удалиться...
Притворное умиление Фульвия внезапно сменилось гневом. Его самолюбию был нанесен удар, его планы разрушились в одно мгновение. И кто же разрушил их? Девочка, ребенок!...
– Так ты не только отказываешь мне, – вскричал Фульвий, и глаза его заблестели, – тебе понадобилось еще меня оскорблять! Ты выгоняешь меня из своего дома; угадать причину не трудно. У меня есть тайный соперник... и я узнаю его!... Не Себастьян ли?
– Как ты осмеливаешься, – раздался сзади гневный голос, – произносить имя честного человека с насмешкой?
Фульвий быстро обернулся и очутился лицом к лицу с Фабиолой. Гуляя по саду, она увидела, как Фульвий подошел к Агнии и, предугадывая, что случится, поспешила на помощь своей молодой и кроткой родственнице. Фульвий вспыхнул, а Фабиола, не давая ему опомниться, продолжала с негодованием:
– Как ты смел опять забраться в этот дом? Кто тебе позволил? Как ты смел преследовать ее здесь, нарушив уединение, в котором она желала провести несколько дней? Какое ты имеешь право?
– А тебе какое дело? – запальчиво прервал ее Фульвий. – Кто тебе дал право говорить за хозяйку дома? Я не у тебя; я пришел к благородной Агнии...
– Да, но виновата я, – сказала Фабиола гордо и с достоинством, – виновата я, что моя молодая и неопытная родственница имела несчастье познакомиться с тобой у меня в доме, за моим столом. Поэтому я считаю своим долгом загладить мой невольный поступок, спасти ее от твоих преследований, и постараюсь при помощи всех наших родных и друзей избавить ее от твоих посещений. Оставь нас!
Фабиола взяла Агнию за руку и повела ее к дому; Молосс не хотел идти за своей госпожой, но, уставившись на нежданного гостя, казалось, решился ринуться на него. Напрасно звала его Агния; ей пришлось возвратиться и взять его за длинное ухо; только тогда, продолжая рычать, Молосс пошел с нею. Фульвий несколько секунд постоял на одном месте, потом повернулся и пошел по аллее к воротам виллы. Он кипел гневом и бормотал сквозь зубы проклятия Фабиоле. Вся его ненависть обратилась теперь на нее.
XIX
День, назначенный для обнародования указа против христиан, наступил. Корвину приказано было вывесить эдикт в обычном месте Форума, близ куриального кресла, где всегда выставлялись указы римских императоров. Он понимал всю важность такого поручения, ибо из Никомидии пришло известие, что там солдат-христианин мужественно сорвал подобное объявление, за что и был казнен лютой смертью. Корвин принял все меры, чтобы в Риме не могло случиться ничего подобного, ибо тогда он мог опасаться и за собственную голову.
Постановление было написано огромными буквами на пергаменте, прибитом к большой доске. Доску укрепили на столбе ночью, когда на Форуме не было ни одного человека. Таким образом, все пришедшие утром на Форум должны были прочесть указ и начать преследование христиан. Чтобы предупредить всякую попытку сорвать указ, Корвин приставил возле него часовых, выбранных из варварских когорт. Эти когорты составлялись из германцев, фракийцев, сарматов, дакийцев, огромный рост и сила которых устрашали римлян. Они почти ни слова не знали по латыни. Во времена упадка империи варвары повиновались Риму и служили орудием деспотизма языческих императоров. На них опирались Тиберий, Нерон и другие знаменитые римские тираны, которым любая жестокость казалась позволительной для удержания народа в повиновении и страхе. Варвары были поставлены на всех углах Форума с приказанием убивать всякого, кто осмелится пройти в него без пропуска. Для того, чтобы ни один христианин не мог туда пробраться, Корвин выбрал паролем слова: «Нумен императорум», «божественность императоров». Он знал, что ни один христианин не решится произнести эту фразу, считая ее богохульством, ибо божественность христиане признавали за единым Богом и, почитая императоров, как установленную власть, отказывались воздавать им божеские почести.
Около доски с эдиктом Корвин поставил часового, выделявшегося своим огромным ростом и страшной силой даже среди соплеменников. Он приказал ему не допускать к доске никого, ни под каким видом и попытался втолковать солдату, что тот должен убивать каждого, кто осмелится близко подойти к доске. Солдат, полупьяный от пива, которое он потягивал всю ночь, согреваясь от дождя, закутался в плащ и ходил взад-вперед перед доскою; частенько он останавливался, брал фляжку и отхлебывал из нее.
В это время старый Диоген и два его молодых сына услышали легкий стук в дверь своего дома. Они быстро отворили ее, и перед ними предстал Панкратий и Квадрат, центурион Себастьяна.
– Мы пришли к тебе поужинать, – сказал центурион, – пусть твои сыновья сходят в город и купят чего-нибудь съестного. Вот деньги; только пусть купят хороший ужин и хорошего вина.
Один из сыновей Диогена отправился, а Панкратий и центурион сели рядом со стариком.
– У нас до ужина есть еще дело, – сказал центурион, – мы сейчас уйдем и скоро вернемся. Панкратий был молчалив и задумчив.
– Ну, что ж ты приуныл? – сказал центурион. – Не сомневайся, сделаем все, как нужно.
– Я не сомневаюсь и не унываю, – сказал Панкратий, – но я не могу не признаться, что ты сильнее меня. Да, я знаю, что ты одарен такою энергией, что можешь все вытерпеть. А я... только желаю этого, но не знаю, смогу ли? Сердце мое жаждет дела, но я боюсь, что у меня не хватит мужества.
– Если есть сильное желание, то найдется и мужество, – сказал центурион, – Бог даст нам силу и мужество. Ну, вот так закутайся в плащ и концом его прикрой лицо, да хорошенько! Ночь темна и сыра. Диоген, положи дров в огонь, чтобы мы могли согреться, когда вернемся, а мы вернемся очень быстро. Не запирай дверей.
– Идите с Богом, – сказал Диоген, – что бы ни затеяли, я знаю вас, – дело это хорошее.
Квадрат также закутался в свой военный плащ, оба вышли из дома и по темным улицам квартала Субурры быстро направились к Форуму. Едва они исчезли из поля зрения Диогена, следившего за ними, как подошел Себастьян и спросил Диогена, не видал ли он Панкратия и Квадрата. Себастьян догадывался об их намерениях и боялся, чтобы они не попали в беду. Диоген ответил, что они ушли, но обещали вернуться очень скоро. Действительно, через полчаса дверь быстро отворилась. Панкратий вбежал в комнату, а Квадрат, вошедший за ним, принялся крепко-накрепко запирать за собою двери Диогенова дома.
– Вот он! – вскричал Панкратий, радостно показывая кусок пергамента.
– Что это? – спросили в один голос Себастьян и Диоген.
– Эдикт, великий эдикт! – ответил Панкратий с необычайным воодушевлением. – Глядите: «Наши властители, Диоклетиан и Максимиан, непобедимые, мудрые, великие, отцы императоров и цезарей» и так далее... Вот куда ему дорога!...
И Панкратий бросил эдикт в огонь. Сыновья Диогена подбросили хворосту; пламя вспыхнуло, и в одно мгновение огонь охватил твердые куски пергамента; сперва он побежал по ним легкими струйками и яркими вьющимися змейками; потом вспыхнул пламенем и вдруг все стихло; послышался легкий треск, клочки пергамента свернулись стружками, черные буквы побледнели, побелели, и наконец, совсем исчезли.
Себастьян грустно и задумчиво смотрел, как огонь пожирал эдикт, осуждавший на мученическую смерть стольких невинных людей.
Он знал очень хорошо, что если будут открыты виновники кражи указа и присутствовавшие при его сожжении, то их ждет самая ужасная, самая жестокая смерть. Он верил, что умереть за правое дело благородно и почетно, и не решился упрекнуть юношу за его смелый поступок, грозивший им всем неизбежной смертью.
Между тем успокоившийся Панкратий сел ужинать с сыновьями Диогена. Завязался веселый разговор. Когда Панкратий встал из-за стола, Себастьян простился с Диогеном и его сыновьями и вышел вместе с Панкратием, не позволяя ему идти мимо Форума. Они сделали большой крюк и благополучно дошли до дома Панкратия. Себастьян облегченно вздохнул и направился к себе.
На другой день рано утром Корвин отправился к Форуму. Он пришел в неописуемую ярость, негодование и испуг при виде голой доски. Словно для того, чтобы окончательно вывести его из себя, около гвоздей остались висеть еще два-три клочка. Он в бешенстве бросился на германца, но свирепое выражение лица тупоумного гиганта остановило его. Корвин, как мы уже знаем, не отличался особой храбростью. Однако, несмотря на свою трусость, он с яростью закричал солдату:
– Негодяй! Пьяница! Тупоумный! Гляди сюда! Где эдикт?
– Тише, тише, – флегматично ответил огромный сын севера. – Разве ты его не видишь, вот он! И он указал на доску.
– Да где же, – закричал Корвин, – покажи мне, безмозглый, где он?
Тевтон подошел к доске и пристально на нее уставился. Осмотрев ее с одного бока и другого, сверху и снизу, он сказал спокойно:
– Так ведь вот же она, доска, здесь!
– Доска тут, болван, ну, а где же надпись, объявление, эдикт?
– Говори толком, – сказал солдат. – Ты дал мне стеречь доску – вот она; а что касается до надписи, я читать не умею и ни в какую школу не ходил. Этого дела я не знаю. Всю ночь лил дождь, видно, он ее, надпись-то, измочил и стер.
– А ветер разнес клочки пергамента? – подхватил с гневом Корвин, – так что ли по-твоему?
– Так, – сказал тевтон равнодушно.
– Да разве я шучу с тобой, негодяй! Отвечай мне: кто приходил сюда ночью?
– Приходили двое.
– Кто двое?
– А кто их знает! Наверное, два колдуна Глаза тевтона блеснули недобрым огнем. Он начинал понемногу сердиться Корвин заметил это и присмирел.
– Ну, добро, добро: скажи мне, что за люди приходили сюда и что делали?
– Один из них ребенок – маленький, тоненький, худенький; его и от земли почти не видать. Он бродил около куриального кресла и, верно, унес то, что ты спрашиваешь, пока я занялся с другим.
– А кто был другой? Какого рода человек? Солдат, казалось, воодушевился; он начал говорить быстрее и решительнее.
– Другой! Да такой силы я еще не видывал!
– Откуда ты это знаешь?
– Сначала он подошел ко мне и заговорил ласково, приветливо, спросил, не холодно ли мне, не устал ли я, стоя тут целую ночь Дело уж шло к утру. Я вдруг вспомнил, что мне приказано бить всякого, кто подойдет. Я тотчас сказал ему, чтоб он шел прочь, а не то я проткну его копьем.
– Хорошо! Так надо! Ну, и что же он?
– Я отошел шага на два и потряс копьем; а он вдруг бросился на меня, вырвал у меня из рук копье, переломил его на своем колене, как ломают тростник, и закинул лезвие в одну сторону, а древко – в другую. Вот смотри, лезвие воткнулось в землю в нескольких шагах от меня.
– И ты не наказал его за наглость? А где же твой меч?
Германец, на лице которого опять была написана полнейшая невозмутимость, спокойно показал на соседнюю крышу и холодно произнес:
– Меч он туда забросил; гляди, лежит и теперь на черепичной крыше, вот там! Эк, куда он хватил-то! – прибавил он не без простодушного удивления.
Корвин взглянул и действительно увидал на крыше большой и тяжелый меч германца.
– Да как же ты отдал его, безмозглый?
Солдат покрутил усы с недовольным видом и произнес:
– Отдал! я не отдал. Кто его знает, как он взял его, да и забросил. Тут не обошлось без нечистой силы.
– Сила-то тут есть, да не та, тут сила твоей непроходимой глупости, – сказал Корвин с досадой, которой сдержать не мог. – Ну, а потом что?
– А потом мальчишка, который бродил около столба, отошел, и молодой силач оставил меня и ушел с ним. Оба точно сгинули в потемках.
«Кто это сделал? – думал Корвин. – Не всякий мог решиться на такую дерзкую проделку». И, обратясь к германцу, он вдруг закричал:
– Почему же ты не поднял тревоги, не разбудил стражу, не бросился в погоню?
– За кем это? За ними-то? Да кто их знает, кто они, может колдуны. Мы с колдунами драться не беремся. Кроме того, доска цела; мне дали стеречь доску – вот она!
– Варвар тупоумный, – пробормотал Корвин, – ничего не втолкуешь в его пустую голову. Ну, товарищ, – продолжал он вслух, – это дело недоброе и обойдется тебе недешево; разве ты не знаешь, что совершено преступление?
– Преступление? Как так? Надпись, что ли, преступление?
– Не надпись, а то, что ты недосмотрел, позволил подойти к доске людям, не знавшим пароля.
– А с чего ты это взял? Они подошли и сказали пароль.
– Как сказали? – воскликнул Корвин.
– Да так сказали.
– Стало быть, они нехристиане?
– Этого я не знаю, они подошли и громко сказали: «Номен императорум»[7]7
Имя императоров.
[Закрыть]
– Как?
– «Номен императорум».
– Ах ты, несчастный! – закричал Корвин. – Да ведь пароль был не тот. Пароль «нумен императорум», то есть «божественность императоров».
– Ну, уж этого я не знаю. Я не мастер говорить по-вашему; «номен» или «нумен» – по-моему, все одно.
Корвин задыхался от бешенства. Он упрекал себя, зачем поставил на часы идиота-варвара вместо умного и ловкого преторианца.
– Тебе придется ответить за это перед начальством, – сказал Корвин глухо, – а ты знаешь, что оно тебе не спустит.
– Хорошо, хорошо, только и ты и я равно подначальны и, стало быть, равно виноваты. Корвин побледнел и растерялся.
– А коли виноват, – продолжал германец, который оказался не столь глуп, как думал Корвин, – так сам и выкручивайся. Спасай меня и себя. Ведь тебе будет хуже, чем мне. Надпись поручили тебе, а мне поручили доску. Доска ведь вот она! Целехонька!
Корвин задумался.
– Вот что, – наконец сказал он, – беги и спрячься. Никому не показывайся несколько дней, а мы скажем, что на тебя напала ночью толпа, что ты защищался и, вероятно, тебя убили. Сиди дома, а я уж достану тебе пива вволю.
Солдат не стал долго раздумывать и тотчас ушел. Через несколько дней на берегах Тибра было найдено тело германца. Предположили, что он был убит в ночной схватке в каком-либо загородском кабаке, и дело предали забвению. Как это случилось, мог бы рассказать Корвин. Покидая Форум, он внимательно осмотрел доску, столб, на котором она висела, и землю вокруг. Он нашел только небольшой нож, который, как ему казалось, он где-то видел, и заботливо спрятал его, силясь припомнить, у кого именно он его видел.
Когда настало утро, народ толпой повалил к Форуму. Все хотели собственными глазами увидеть страшный декрет, но обнаружили только голую доску. Впечатление, произведенное на толпу, было различным. Одни возмущались дерзостью христиан; другие потешались над теми, кому поручено было вывесить эдикт; некоторые не могли не удивляться мужеству христиан, но большинство осыпало их ругательствами и распалялось против них еще большей ненавистью.
Во всех публичных местах, в банях, в садах только и говорили, что о пропаже эдикта. В банях Антонина, где собиралось высшее римское общество и молодежь, также велись оживленные разговоры.