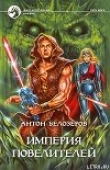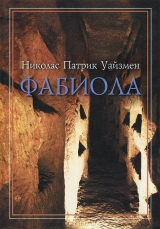
Текст книги "Фабиола"
Автор книги: Николас Уайзмен
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
XII
На другой день утром на мула навьючивали мешки. Торкват отправлялся в Рим. Все жители виллы и сам Хроматий провожали его до ворот и тепло прощались с ним... Многие, зная, что он беден, отдавали ему свои деньги. Священник Поликарп отвел его в сторону и со слезами на глазах умолял его следить за собою, быть осторожным в выборе друзей, не поддаваться искушениям города, избегать шумных праздников, не надеяться на свои силы, не хвастать ими и просить у Бога, чтобы Он укрепил его в мужестве и любви. Хроматий мягко укорял Торквата за его легкомыслие, тщеславие, склонность к излишествам.
– В последнее время, – сказал он, – нам казалось, что тебе было скучно с нами, что наша простая, скромная жизнь не удовлетворяла тебя.
Торкват растрогался, стал на колени перед священником, каялся и просил его благословения. Наконец он простился со всеми, сел верхом и тихо поехал по аллее, которая вела из виллы на большую дорогу. Добрый священник долго, пока он не скрылся из виду, следил за ним глазами отца, провожающего любимого сына. Не долго думал Торкват о наставлениях священника, скоро настроение его изменилось. Он предался мечтам. Ему казалось, что он уже приехал в Рим. Вот знакомые улицы, полные народа, вот бани, где собирается веселое и шумное общество. Вот стол, где играют в кости. Торкват был до своего обращения страстным игроком и отказывался от своей привычки не без борьбы и сожалений. Теперь он не намеревался играть сам, но его прельщала мысль, что он увидит то, что так долго составляло его любимое занятие и будет иметь удовольствие следить за игрой других... Нет, он не изменит себе – он христианин, и не будет пить вина, не сядет за роскошный стол, не будет играть, как язычники! Он будет помнить наставления отца Поликарпа.
В Фонди, пока кормился и отдыхал мул, Торкват отправился к Кассиану, к которому у него было рекомендательное письмо от Хроматия. Кассиан жил на вилле и отказался от должности школьного учителя. Он принял Торквата по-братски и просил его разделить с ним скромный обед. Кассиан в каждом христианине видел брата и потому рассказал Торквату, что он намерен заняться обращением в христианскую веру детей, которых ему обещали поручить на время каникул; он рассказал множество подробностей о своей прошлой и настоящей жизни, о своем обращении и о своих надеждах на будущее.
«Сколько денег можно получить, сообщив такие сведения!» – подумал Торкват, но поспешил задушить в себе эту мысль. Простившись с Кассианом, Торкват купил себе щегольское платье, взял переменных лошадей, чтобы поскорее доставить письмо Фабиолы, и пустился в Рим на быстро бежавшей лошади, оставив своего мула в Фонди.
Приехав в Рим, Торкват переоделся и явился к Фабию; он отдал ему письмо дочери, отвечал на все его расспросы о ней и был приглашен ужинать в тот же день вечером. Выйдя от Фабия, Торкват подыскал себе приличную квартиру. Карманы его, благодаря христианам и Фабиоле, были туго набиты, и он мог пожить в свое удовольствие, не боясь недостатка ни в чем.
Возвращаясь домой из бань Тита, Торкват услышал разговор двух мужчин, стоявших под портиком храма.
– Это действительно так. Народ в Никомидии сжег христианскую церковь. Мой отец слышал от самого императора.
– Почему этим безумцам пришла мысль построить свой храм вблизи дворца? Разве они не понимали, что народ в конце концов обрушит свою ярость на тех, кто не разделяет веру отцов?
– Все они сумасшедшие! Трудно себе вообразить, до чего доходит их дерзость. Им бы скрываться и быть благодарными, что о них забывают, так нет, лишь только преследования ослабевают, они тотчас начинают строить свои храмы. Говорят, что скоро против них примут решительные меры; я буду очень рад. На этом деле, между прочим, можно порядочно подзаработать.
– Ладно, давай договоримся: если нам вдвоем удастся изловить богатого христианина, то мы делим его состояние; если же это сделает один из нас, без помощи другого, то он все забирает себе.
– Согласен.
В этот время к ним подошел Фабий и приветливо поздоровался.
– Как поживаешь, Фульвий? – спросил он. – Я давно не видал тебя; нынче вечером у меня собираются ужинать знакомые, не хотите ли и вы оба прийти ко мне?
– Извини меня, – сказал Фульвий, – я приглашен в другое место.
– Ерунда, – возразил Фабий – город опустел, – все разъехались; кто тебя мог пригласить? Разве мой дом тебе неприятен? Я не видал тебя с тех самых пор, как ты обедал у меня вместе с Себастьяном. Не поссорились ли вы? Или не подверглись ли каким чарам? Говоря попросту, я думаю, что ты не прочь жениться на моей молоденькой родственнице Агнии? Фульвий взглянул на него с удивлением.
– А может быть и так, – сказал он, – но я вижу, что дочь твоя меня не выносит.
– Да нет, моя Фабиола – философ, и это все ее не интересует. Я был бы очень рад, если бы она отложила в сторону свои книжки и серьезно подумала о том, что пора пристроиться и самой. Это было бы лучше, чем мешать другим. Впрочем, мне кажется, что Агния благосклонна к тебе.
– Почему ты так думаешь? – живо спросил Фульвий.
– Ты хорош собой, богат; она сказала что-то вскользь, и я подумал, не намекает ли уж она на тебя. Ну, полно церемониться. Приходи ужинать, мы поговорим об этом, и, быть может, тебе удастся понравиться Агнии. Фабиола уехала со всеми своими служанками на дачу, и потому ее комнаты заперты. Чтобы войти на мою половину, отвори боковую дверь дома. Я буду ждать тебя и Корвина.
Фабий был, по своему легкомыслию, неразборчив в выборе гостей, ему казалось, что все равно, кто у него собирается ужинать, лишь бы были веселые гости, вкусные блюда и отборные вина. Он не любил садиться за стол один и каждый вечер собирал гостей к ужину.
Мы не станем описывать пира, который он дал в этот вечер; скажем только, что вина подавались в таком изобилии, что скоро почти все гости опьянели. Один Фульвий ничего не пил и внимательно прислушивался к разговору, который перешел на последние события в Никомидии. После разрушения христианского храма начались поджоги в городе. В них обвиняли христиан, и Диоклетиан воспользовался народною ненавистью, чтобы начать гонения. Можно было предположить, что и в Риме Максимиан последует его примеру. Все гости Фабия наперебой осыпали христиан ругательствами и насмешками. Даже самые добрые из них считали, что христиане не заслуживают пощады. Одни говорили, что все христиане лгуны и негодяи; другие – что они заклятые враги Римской империи; но все – что их учение порочно и гнусно, что почти все они люди неблагонадежные. Один Фульвий молчал и только оглядывал гостей подозрительно, стараясь уловить на их лицах признаки волнения или досады.
Торкват молчал, но попеременно то краснел, то бледнел. Он выпил чересчур много; вино вскружило ему голову. Он сжимал кулаки, стискивал губы и ярости запивал свой гнев вином.
– Христиане ненавидят нас и охотно перерезали бы всех, если бы могли, – сказал один из гостей.
– Конечно перерезали бы! Кто поджег Рим при Нероне? Они! Кто в Азии сжег дворец? Они!
Торкват привстал на своем ложе, протянул руку, будто желая что-то сказать, но опомнился и не сказал ни слова.
– Они делают и хуже. Они убивают детей и пьют их кровь, – сказал Фульвий, не глядя на Торквата.
Торкват, возбужденный вином, ударил вдруг кулаком по столу у закричал диким голосом:
– Это ложь, самая презренная ложь!
– А ты откуда знаешь? – спросил у него Фульвий спокойно.
– Потому что я сам христианин, – закричал Торкват, – и готов умереть за мою веру!
Все как будто окаменели на месте; наступило молчание. Фабий, стыдясь, что за его столом сидит христианин, потупил глаза. Какой-то молодой человек глядел на Торквата, разинув рот и выпучив глаза; Корвин злобно радовался, Фульвий же глядел на Торквата змеиными глазами, с сознанием, что эта добыча не уйдет от него, и заранее упивался мучениями своей жертвы. Он со свойственной ему хитростью изучил Торквата и знал, что, захватив его, захватывает разом многих других. Он знал, что человек, не умеющий владеть собою, не выдержит, и в минуту волнения под влиянием винных паров непременно откроет все, что знает, выдаст всех, кто ему известен. Он знал, что преданный своей вере христианин не унизил бы себя до пьянства и не стал бы в пьяном виде признаваться в своей вере. Он видел христиан на Востоке, видел, как твердо, как решительно признавались они в своей вере, но делали это иначе. Молитва укрепляла их силы, восторг слышался в их речах, надежда на Бога воодушевляла их. Не за пирами признавались они, а в суде или тогда, когда от них требовали поклонения идолам. Признавались они, сознавая опасность и жертвуя жизнью. Это были люди твердые, а не хвастливые и пустые, как Торкват.
Гости встали из-за стола и поспешно стали расходиться, ибо каждый боялся за себя в случае доноса. Скоро Торкват остался один.
Фульвий шепнул несколько слов Фабию и Корвину, подошел к Торквату и сказал с притворным и вкрадчивым сожалением.
– Я боюсь, что мои неуместные слова заставили тебя признаться в очень опасном для тебя деле.
– Я ничего не боюсь, – ответил Торкват хвастливо, – и готов умереть за веру.
– Ш – ш... замолчи, пожалуйста; невольники могут подслушать тебя. Пойдем лучше в соседнюю комнату, поговорим там спокойно.
Говоря это, он повел его в соседнюю пышно убранную залу, где уже по приказанию Фабия стояли чаши с фалернским вином. Корвин вошел вместе с ними. На великолепно отделанном резном столе лежали кости. Фульвий подал Торквату полную чащу вина, которую тот выпил, не переводя духа, а затем другую и третью. Между тем Фульвий играл, будто шутя, костями, бросал их, считал, собирал и опять бросал.
– Экое счастье! – говорил он – что ни удар, то проигрыш! Хорошо, что я ни с кем не играю, а то бы проигрался в пух. Хочешь попробовать, Торкват?
Мы упоминали, что Торкват был страстный игрок. Он уже однажды попал в тюрьму, проиграв то, чего у него не было. Себастьян выручил его оттуда, и тогда-то обратил его в христианскую веру. Торкват, совершенно пьяный, почти уже не помнил, что говорил за минуту перед тем. Глаза его блестели, руки и губы дрожали. Он схватил кости и принялся играть с лихорадочным волнением. Первые ставки он выиграл, а потом стал проигрывать, потом опять выиграл, и все более и более горячился. Фульвий подливал ему вина; Торкват стал болтать без умолку.
– Корвин... Корвин... – твердил он, глядя на Корвина и припоминая что-то, – что это за имя? Кассиан называл его.
– Какой Кассиан? – спросил Фульвий.
– Да, да, жестокий и злобный Корвин – это ты, что ли? Ты еще поссорился с Панкратием?
Корвин хотел было вступиться за себя и начать драку, но Фульвий остановил его выразительным жестом и сказал Торквату:
– Этот Кассиан, кажется, школьный учитель? Где он теперь живет?
– Он живет... да нет, нет! ... это значило бы предать его. Пусть меня пытают, мучат, убьют, но я не изменю никому и никого не предам...
Между тем кости метались, и горячка все больше и больше охватывала Торквата. Оба игравшие замолчали и устремили все свое внимание на ход игры. Сперва они выигрывали и проигрывали поочередно; но Фульвий был хладнокровнее, умел владеть собой и не пил вина, и счастье, казалось, склонялось на его сторону. Когда Торкват заметил, что он проигрывает, то начал запивать проигрыш вином и вскоре совершенно потерял голову. Он кидал на стол кости дрожащими руками, потом глядел на них так, что казалось, ничего не видел, и, конечно, не был в состоянии подсчитать свой проигрыш. За него считали Фульвий и Корвин. Все больше и больше терявший голову Торкват бросил, наконец, на стол наполненный деньгами кошелек, данный ему Фабиолой. Фульвий взял его, высыпал оттуда деньги и выложил на стол такую же сумму. Оба приготовились к решительному удару. Кости были брошены и покатились по столу с зловещим, как показалось Торквату, шумом; Фульвий собрал их, кинул и затем холодно и спокойно подвинул к себе все деньги, поставленные Торкватом. Торкват опустил голову на скрещенные в порыве отчаяния руки. По знаку Фульвия Корвин вышел из залы. Торкват все лежал на столе; он хватал себя за голову, то рвал на себе волосы, то бормотал несвязные слова, топая ногами, скрежетал зубами, стонал, словом, предавался бессильной злобе. Вдруг он услышал, что ему говорит кто-то шепотом:

– Если ты христианин, то для тебя нет надежды на спасение. Ты опозорил своим поведением свою религию и изменил ей. Ты рассказал многое и предал многих; ведь ты был пьян и не помнишь, что говорил! Ты сказал слишком много.
– Это неправда, это ложь! Они простят мне...
– Едва ли! Что осталось у тебя? Денег нет, положения нет; римляне тебя презирают, христиане выгонят. Куда ты пойдешь? Будешь нищенствовать! Если же на тебя донесет кто-нибудь из слышавших твои признания, то тебя замучают, а христиане все-таки не простят тебе твоей измены.
Торкват поднялся со стола, встал и закричал, как бешеный:
– А тебе что за дело? Оставь меня!
– Мое дело, – ответил Фульвий. – Я выиграл твои деньги и знаю твою тайну. Жизнь твоя в моих руках. Мне стоит только позволить этому жестокому и злобному Корвину, как ты его называл, донести на тебя, и ты погиб. Он сын префекта, и ты будешь тотчас же схвачен и осужден. Ну, а теперь взгляни-ка на себя: ты шатаешься, ты пьян; даже испуг не отрезвил тебя, готов ли ты теперь, в пьяном виде, идти на форум признаться, что ты христианин, и умереть за свою веру?
Злая и холодная насмешка звучала в словах и голосе Фульвия. Сраженный Торкват упал в кресло и судорожно сжал кулаки.
– Ну, выбирай. Хочешь ли воротиться к христианам, имена которых ты выдал, или идти в суд? Торкват молчал. Он был уничтожен.
– Слушай, – продолжал Фульвий, садясь около него и меняя тон. Он начал говорить тихо, почти ласково. – Послушайся меня, и ты будешь спасен. У тебя будет хороший дом, хороший стол, независимое положение, достаточно денег, словом, ты будешь жить в изобилии, но с условием: завтра ты должен идти ко всем своим друзьям-христианам и не говорить им ни слова о случившемся. Когда же я спрошу у тебя что бы то ни было, ты обязываешься отвечать мне чистосердечно.
– Но это значит изменить... предать... – сказал Торкват, заикаясь.
– Как хочешь, иначе ты подвергнешься позорной мучительной смерти. Взгляни, на дворе стоит Корвин: он ждет одного моего движения, чтобы донести на тебя. Выбирай!
– Боже мой! Это ужасно! Сжалься надо мною... не выдавай меня! Делай, что хочешь, только не выдавай меня!
Фульвий вышел, не без труда уговорил пылавшего злобой и тоже полупьяного Корвина не доносить на Торквата и обещал ему взамен узнать, где живет ненавидимый Корвином Кассиан, и выдать его Корвину. Только это обещание могло заставить Корвина молчать и не торопиться с доносом. Отделавшись от него, Фульвий возвратился к Торквату, которого он хотел проводить до квартиры, чтоб узнать, где Торкват живет. Он увидел, что Торкват, бледный как смерть, ходил по комнате, пытаясь унять свое волнение. Хмель вылетел у него из головы. Торкват вполне сознавал свое страшное положение: стыд, гнев, презрение к себе, бессильная злоба на Фульвия, раскаяние, страх и ужас мучительной смерти овладели им. Он был не в состоянии держаться на ногах; теперь они снова отказывались служить ему, но уже от чувств, обуревавших его. Торкват упал на кушетку и зарыдал, как ребенок. Фульвий положил ему руку на плечо и спокойно сказал:
– Полно! Пойдем, я провожу тебя домой.
Торкват встал и машинально побрел за своим палачом.
XIII
Полукругом опоясывая Рим, простираются на огромном расстоянии подземные ходы, галереи и пещеры, известные под названием катакомб.
По мнению некоторых историков, вокруг Рима в первое время его существования были вырыты большие ямы, которые вскоре, по мере того, как город застраивался, превращались в большие рвы; из них добывали глину и землю, употреблявшуюся вместо цемента при постройке зданий. Постепенно под землей образовались пещеры с переходами. В этих заброшенных пещерах первые христиане стали устраивать захоронения. Рядом со своими подземными кладбищами они строили нечто вроде часовни или маленькой церкви для отправления церковной службы. Христиане, осуществлявшие захоронения, рывшие могилы и ставившие памятники с надписями, принадлежали к обществу служителей церкви. Многие из них были знакомы с архитектурой и умели владеть резцом и кистью. Часть их произведений уцелела до сих пор. На многих могильных камнях были найдены портреты самих работников, высеченные на камне.
Один из таких портретов найден на кладбище св. Калликста. Он изображает могильщика в полный рост, на правом плече и колене видно изображение креста. Могильщик одет в длинное, до колен, платье и обут в сандалии. Через левое плечо перекинут кусок ткани. В правой руке он держит заступ, в левой – зажженный фонарь, висящий на небольшой цепочке. У ног его лежат инструменты. Над головой высечена следующая надпись: «Диоген, могильщик, в мире положен в восьмой день октябрьских календ». Хотя в Риме существовал обычай не упоминать на могильных камнях о простых ремесленниках, христиане, считая себя братьями и всякое честное ремесло почетным, отказались от такой традиции.
Многие знаменитые путешественники и писатели пытались описывать катакомбы, но ни одно из этих описаний не дает о них полного представления. Для одного катакомбы – это не более чем темные, сырые коридоры, по которым приходится идти со свечами, десятки раз пересекающиеся другими коридорами. Иногда в месте таких пересечений создавались «комнаты» – небольшие прямоугольные или круглые помещения. В коридорах было легко запутаться, так как все они очень похожи. В стенах их христиане закапывали покойников, в комнатах устраивали алтари, служили обедни, панихиды и другие службы. Позднее, когда начались гонения, христиане спасались в катакомбах от жестоких преследований и хоронили там мучеников, убитых или растерзанных в цирках по повелению римских императоров.
Человек верующий видит и испытывает в катакомбах нечто другое. Эти темные коридоры, эти узкие комнаты рассказывают ему великую и чудную повесть о людях, которые любили и верили, которые умирали за свою любовь и веру, которые жертвовали всем – семьей, состоянием, жизнью во имя веры и умирали, благословляя Бога, молясь за врагов. Этой горстке людей, скрывавшихся в катакомбах, предназначено было произвести в мире великий переворот. Сила первых христиан заключалась в их крепкой вере и пламенной любви, а любовь и вера делают невозможное.
В подземных коридорах впоследствии было открыто много могил мучеников, которых чтит христианская церковь; некоторые могилы были снабжены замечательными надписями, трогательными в своей простоте и чувствах.
Однажды по дороге Аврелия стража вела на казнь Артемия, его жену и их дочь, юную Пелагею. Вдруг на дороге показалась толпа христиан, во главе которой шел священник Маркелл. Стражники испугались и бросились бежать. Молодые христиане остановили солдат и стали беседовать с ними. В это время священник увел приговоренных к смерти в подземную часовню, отслужил обедню и причастил их. Затем он подошел к солдатам и сказал: «Мы могли бы убить вас, но не хотим причинять вам ни малейшего зла. Мы могли бы освободить наших братьев, осужденных на смерть, но не сделаем этого! Исполняйте, если смеете, гнусный приговор императора». Солдаты смутились, но не решились ослушаться приказания императора и поспешили убить несчастных христиан, тела которых были захоронены в катакомбах. Часто около могил находили орудия пыток и сосуды со следами крови. Их хранят теперь, как святыню.
Среди надписей особенно выделяются следующие:
«В пятый день до ноябрьских календ здесь был положен в мире Горгоний, друг всем и никому не враг».
«Здесь Гордиан из Галлии, зарезанный за веру со всем своим семейством, почивает в мире».
«Теофила, служанка, поставила памятник».
Таким образом, из всего семейства осталась в живых одна служанка, которая хоронила своих господ и поставила над их телами камень с надписью, уцелевшей до нашего времени и свидетельствующей о любви ее к господам и об их мученической смерти.
А вот еще надпись, замечательная своей простотой и глубоким чувством:
«Клавдию, достойному, ревностному и меня любившему».
Слова «меня любившему» особенно трогательны. Какая простота, какое детски нежное слово, сказанное от полноты сердца!... Часто христиане с опасностью для жизни уносили тела мучеников. Обычно они делали это ночью и вывозили их в крытых телегах из ворот Рима. В годовщину кончины христиане собирались и служили панихиды по мученикам или умершим родственникам. Все это делалось тайно. В тайне хранили имена священников и служителей, в тайне хранили планы катакомб, протяженность коридоров, расположение входов и выходов.
Две основные линии катакомб опоясывают половину Рима, начинаясь у Ватикана и кончаясь у дороги Аппия. Семьдесят четыре тысячи мучеников похоронены в них. Случалось, что во время гонений убежища христиан обнаруживались, и тогда гибель их становилась неизбежна. Так, император Нумериан, узнав, что множество мужчин, женщин и детей скрываются в катакомбах у дороги Саллара, велел завалить камнями и засыпать песком вход в эти подземелья, – и все христиане, находившиеся там, погибли. Иногда римские солдаты, отыскав вход, проникали в катакомбы и убивали всех, кто там скрывался. Оттуда же шли на смерть мученики, часто добровольно отдававшиеся в руки своих гонителей.
Завершим наш краткий экскурс в историю отрывком из дневника одной молодой путешественницы. Она, как и все, кто посещает Рим, побывала в катакомбах. Вот что она пишет:
«Я видела катакомбы; впечатление, которое они произвели на меня, так живо и глубоко, что не может сравниться ни с каким другим ощущением, испытанным мною прежде при осмотре памятников, храмов и развалин древнего и нового Рима. Неясно представляла я себе, какое чувство буду испытывать, посещая эти места, и, признаюсь, не слишком много об этом думала. Войдя в темные пещеры, я внезапно почувствовала, что сердце мое преисполнилось благоговения столь глубокого, что я не могла вымолвить ни единого слова. Я была растрогана и стояла около алтаря, на котором совершалась обедня во время гонения. Я смотрела на этот же самый камень, на который смотрели прежде меня люди, умевшие молиться так, как мы уже не умеем. Я бы хотела остаться на этом месте и пасть на колени, но принуждена была следовать за шедшими впереди. Войдя в узкие извивы коридора, я почувствовала еще более сильное волнение, взирая на ряды могил, которые напомнили мне, что выстрадали здесь люди, ожидавшие минуты, когда их похоронят рядом с этими замученными их братьями. Я воображала себе скорбь, мучения, тоску тех, которые ожидали ежеминутно смерти, свидетельствуя тем, что они христиане и что их поддерживали вера, надежда и любовь посреди ужасов жизни. Я стыдилась, что не сумела позавидовать тем, которые жили в этих мрачных подземельях, на себя самое обратились мои мысли, и я смутилась. И я христианка, как те, которые, молодые и слабые, как я, просили у Бога только милости умереть во имя Его! Мы вышли из катакомб по той же самой лестнице, по которой ходили христиане первых веков, когда шли на смерть. Я хотела поцеловать эти ступени, выплакать все мое сердце. Я думала т молодых девушках, которые шли на мученическую смерть по этим самым ступеням, и умилялась при мысли, что они видят мое сердце и слышат мою молитву. Я чувствовала себя недостойной поставить ногу туда, куда ставили они свои ноги и, однако, шла с чувством неизъяснимой сладости по тем же самым ступеням, по которым шли они, полные спокойствия и счастья, на верную смерть. Тысячи мыслей и чувств волновали меня, и я испытывала восторг, до тех пор мне незнакомый, благодарила Бога за испытываемые мною чувства и просила Его подать мне волю и силу любить Его все дни моей жизни».
В конце октября Панкратий шел по узким и извилистым улицам квартала, называемого Субурра. Он плохо знал эти улицы и с трудом нашел нужный ему дом. На его стук вышел Диоген, имя которого мы уже не раз упоминали в нашем повествовании. Это был высокий мужчина, с седыми длинными волосами, кольцами завивавшимися вокруг широкой и большой головы. Выражение его лица было спокойно и печально. Он жил со своими двумя молодыми сыновьями; старший, Май, занимался вырезанием надгробных надписей на камне и мраморе; Север – чертил углем рисунок, изображавший Иону в чреве кита и воскрешение Лазаря. Диоген был начальником большой общины могильщиков. После первых приветствий Панкратий, взглянув на надпись, довольно топорно и не без ошибок выбитую на камне, спросил:

– Ты всегда сочиняешь надписи сам?
– Нет, я их пишу только для бедных, которые не в состоянии заплатить более искусному, чем я, граверу. Этот камень сделан для могилы бедной женщины, торговавшей на улице Виз Нова. Когда я вырезал надпись, мне пришло в голову, что пожалуй, лет через тысячу христиане прочтут ее с уважением, что она сохранится, между тем как памятники, поставленные над гробницами цезарей, преследовавших христиан, будут разрушены дотла. Я вырезаю плохо – не правда ли?
– Не беда! А это что за доска?
– Дорогая плита, которую благородная Агния заказала для могилы ребенка, оплакиваемого нежными родителями.
Панкратий прочел: «Денису, невинному младенцу: он почивает здесь между святыми. Вспомните и молитесь об авторе и гравере»[5]5
Эта надпись в катакомбах уцелела до сих пор.
[Закрыть].
Прочтя надпись, Панкратий взглянул на Диогена и увидел, что лицо его было еще более задумчиво и печально, чем обыкновенно.
– О чем ты думаешь? – спросил Панкратий.
– Я думаю, что взять умершее и невинное дитя и похоронить его, обернув в надушенные ткани, – дело нехитрое. Конечно, родители оплакивают ребенка, так ведь он перешел из мира печалей в лучший мир. Но ужасно собирать окровавленные останки мученика и вместо надушенных тканей засыпать их известью.
– Разве это случается часто?
– Теперь нет, но я стар и немало повидал на своем веку. Вот с покойным отцом моим в молодости хоронили мы замученного молодого человека, Фабия Реститута. Ты, верно, посещал его могилу: она построена из шести мраморных досок, и я сам вырезал над нею надпись. Рядом с Фабием похоронен отрок 14 лет, страшно изуродованный, умерший мученическою смертью. Да, много видел я, многих хоронил, и надеюсь, что умру сам, прежде чем доживу до новых гонений. А ведь ходит слух о новых преследованиях.
– Поэтому-то я и пришел к тебе. Моя мать просит тебя завтра на рассвете прийти к нам; у нас соберутся епископы, священники, дьяконы, и тебя требуют, как главу могильщиков, для совещания о выборе места для новых работ на кладбищах, ввиду готовящихся преследований. Кстати, я хотел просить тебя показать мне могилы мучеников, находящиеся на кладбище Калликста. Я еще никогда не посещал их.
– Завтра в полдень, если хочешь, – ответил Диоген.
– Со мной придут двое молодых людей, Тибурций, сын бывшего префекта Хроматия, и Торкват. Север сделал невольное движение.
– Панкратий, – сказал он, – уверен ли ты в этом Торквате?
– Признаюсь, – ответил Панкратий, – я его знаю не так близко, как Тибурция; но Торквату так хочется узнать все, связанное с христианством, что я не мог отказать ему. Полагаю, что он человек честный. Почему ты сомневаешься в нем?
– Нынче, идя на кладбище, я зашел в бани Антонина... – т сказал Север.
– Вот как! Так и ты ходишь в модные места! – воскликнул Панкратий.
– Нет, я ходил по делу. Кукумий и его жена – христиане. Они заказали мне для себя могильную плиту, и я ходил показывать им надпись. Вот она, смотри!
И Север указал Панкратию на мраморную плиту, на которой были вырезаны следующие строки: Кукумий и Виктория заживо сделали себе сей камень[6]6
Надпись, уцелевшая до сих пор.
[Закрыть].
– Прекрасно! – воскликнул Панкратий с улыбкой, поскольку обнаружил в надписи орфографические ошибки и прибавил: – так что ж Торкват?
– Войдя под портик бань, я удивился, увидев Торквата, разговаривавшего с Корвином, сыном префекта; помнишь, он притворился калекой, чтоб войти в дом Агнии, когда раздавали деньги бедным? Удивительно, сказал я себе, что христианин пришел в бани так рано и беседует с таким человеком, как Корвин.
– Верно, – ответил Панкратий, – но ведь он недавно обратился в нашу веру и не успел еще отдалиться от прежних приятелей; будем надеяться, что во всем этом нет ничего дурного.
Затем Панкратий распростился и ушел, обещав явиться завтра в назначенный час.
На другой день, рано утром, состоялось совещание в доме матери Панкратия. Была собрана сумма, необходимая для работ под землей; решено было увеличить подземные кладбища и вырыть новые помещения для христиан, которые, спасаясь от преследований, будут искать убежища в катакомбах. Каждому священнику назначено было место в катакомбах для совершения ежедневного богослужения: Диогену поручено было обеспечить безопасность христиан. Словом, епископ отдал свой приказ, как полководец отдает их накануне битвы, – только оружие, которым сражались христиане, было иного рода.
Против них собралась гроза. Готовились орудия пытки; из пустынь Востока были привезены дикие звери; римские власти горели желанием еще раз попытаться уничтожить христиан, которые ждали нового испытания и шли на него, не имея в руках ничего, кроме крестного знамения, ничего на устах, кроме молитвы и благословений, ничего в сердце, кроме любви и веры. Борьба была действительно неравная, и победа должна была остаться за теми, которые шли к ней с чистым сердцем.
В двенадцать часов Диоген с сыновьями встретил Панкратия, Тибурция и Торквата; выйдя из города, они пошли по Аппиевой дороге. Пройдя две мили, они достигли загородного дома и нашли в нем все, что было необходимо для спуска в катакомбы; фонари, факелы и горючие материалы. Север предложил каждому проводнику взять по одному попутчику, сам же, из каких-то соображений, выбрал Торквата.
Обойдя многочисленные закоулки подземного Рима (как до сих пор называют катакомбы), они достигли прямого, длинного коридора, пересекаемого множеством других, в которых было очень легко заблудиться. Впереди шел Диоген, неся в руках зажженный факел; иногда он останавливался и что-то объяснял. Наконец он повернул направо. Торкват, внимательно все осматривавший, обратился к нему:
– Было бы любопытно узнать, сколько боковых коридоров мы миновали, прежде чем повернули сюда.
– Очень много, – сухо ответил Север.
– А примерно: десять? двадцать?
– По крайней мере двадцать! Я никогда не считал их.
Торкват считал, но хотел проверить себя. Он остановился.
– Каким же образом, не считая, ты знаешь, где повернуть? – спросил он. – А это что такое?