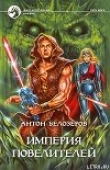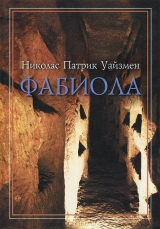
Текст книги "Фабиола"
Автор книги: Николас Уайзмен
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
XXIII
Еще до обнародования императорского эдикта христиане составляли значительную часть людей, собранных отовсюду для постройки терм Диоклетиана. То были пленные и преступники, приведенные в Рим. Каждый день к ним присоединялись новые партии христиан, которых задерживали во всех концах обширной империи. Их гнали, как стадо, из далеких стран Херсонеса, из Сардинии, из портов и провинций, и заставляли делать тяжелую работу: таскать громадные камни, глыбы мрамора, воздвигать стены зданий и месить известь. Большая часть этих людей была непривычна к такому труду. После целого дня непрерывной работы их запирали в сараях, давали им скудную пищу, которая едва могла утолить их голод. Ноги их были скованы. Надзиратели обращались с ними жестоко; всегда с бичом в руках, они безжалостно били обессиленных. Римские христиане, зная положение своих единоверцев, посещали их, приносили им пищу и то, что более всего облегчает участь несчастных – доброе слово. Молодые римские христиане отличались особым бесстрашием, они пробирались к пленным, беседовали с ними и делились с ними всем, что у них было. Когда императоры для увеселения народа назначали представления и игры в цирках, то в жертву зверям отдавали преимущественно христиан. Народ требовал зрелищ и игр; раздавался страшный крик, не раз оглашавший римские улицы: «Христиан зверям!»
В конце декабря Корвин явился в термы Диоклетиана в сопровождении Катулла, которому поручено было выбрать годных для цирка христиан.
Корвин отыскал главного надзирателя над работами и сказал ему:
– Нам надо христиан для готовящихся празднеств. Им будет предоставлена честь сражаться со зверями на потеху народа.
– Очень сожалею, – ответил надзиратель, – что не могу исполнить твоего желания, но у меня работа срочная, и мне нельзя уступить тебе ни одного из моих рабочих.
– Ты можешь очень скоро достать других, а сейчас нам эти люди необходимы. Веди нас на работы, мы выберем сами.
Надзиратель неохотно повел двух поставщиков людей для диких зверей в длинную залу, своды которой были только что окончены. Преддверием к ней служила большая, полукруглая комната, освещенная сверху, как Пантеон. Эта зала вела в другую еще более обширную, имевшую форму креста, окруженную со всех сторон небольшими, но красивыми комнатами. В каждом углу ее предполагалось поставить огромные столбы из цельного гранита. Два из них были уже готовы, третий ставился. Множество работников тащили громадные камни и складывали их вокруг столбов. Катулл указал Корвину на двух молодых людей, отличавшихся силой и красотой.
– Я беру вот этих, – сказал Корвин, показывая на них, – я убежден, что они христиане.
– А я именно без них не могу обойтись, – ответил надзиратель, – они заменяют мне шесть рабочих и по силе равны доброй лошади. Подожди немного; лишь только самая трудная работа будет окончена, я с удовольствием пришлю их тебе.
– Я запишу их имена для памяти. Как их зовут?
– Ларвий и Смарагд; оба они благородной фамилии, были схвачены и теперь работают, как плебеи, старательно и добросовестно. Я убежден, что они без принуждения согласятся идти на бой со зверями.
– Да, все это хорошо для будущего, но теперь?... – сказал Корвин, продолжая обходить работающих. Всякий раз, как кто-нибудь из них казался ему пригодным, надзиратель вступал в спор, силился отстоять своих людей и решительно не уступал ни одного из небольшой кучки людей впереди которых стоял почтенной наружности старик. Длинная седая борода спускалась ему почти до пояса; ясное, спокойное лицо дышало кротостью, умом и любовью. На вид ему было более 80 лет; звали его Сатурнином. Тяжелые цепи сковывали его ноги; рядом с ним стояли два молодых человека, которые взялись носить и поднимать его цепи, когда он переходил с одного места на другое, так как сам он не имел силы таскать их за собою. Около старика лежали многие христиане, утомленные трудной работой; другие сидели, слушая его тихую речь. Он утешал их, говорил им о торжестве веры в будущем, об иной жизни, о прощении обид, о любви к Богу и ближним.
– Возьми старика, если хочешь, – сказал надзиратель Корвину. – Он мне не нужен. Он уже не в силах заработать кусок хлеба.
– Благодарю, – сказал Корвин злобно, – народ не любит стариков, один удар лапы тигра или медведя убьет его наповал. Народ любит молодых людей, борьбу силы и молодости со зверями и смертью! Но кто это? На нем нет одежды узника? Я не вижу лица его, он стоит ко мне спиной. Гляди, этот и молод, и силен. Кто он?
– Не знаю, он приходит сюда каждый день, приносит пищу, одежду, часто помогает узникам работать и утешает их добрым словом. Так как он за вход платит нам хорошие деньги, то мы пускаем его охотно и не спрашиваем его имени. Кто платит, тот вправе молчать, не правда ли? – прибавил наздиратель смеясь. – И он молчит, и мы молчим и не спрашиваем.
– Ты не я, – сказал Корвин и быстро подошел к юноше, который при звуке этого голоса, слишком для него знакомого, с живостью обернулся.
Корвин побледнел... но это длилось секунду. Как бешеный зверь, томимый голодом, бросается на добычу, так бросился он на молодого человека и схватил его за обе руки.
– Ко мне! сюда! – закричал он, задыхаясь от злобной радости. – Вяжите его! Вяжите! А, теперь ты от меня не уйдешь! Этим молодым человеком был Панкратий.
Городская тюрьма представляла собой страшную яму под землей, без воздуха, света и тепла, наполненную нечистотами. Туда-то отправили Панкратия, как и других, взятых и арестованных в тот день.
Схваченных приковали к длинной цепи и гнали через весь город в городскую тюрьму. По пути прохожие и толпы черни осыпали их ругательствами, кидали в них грязью и камнями.
Панкратию удалось, пока его заковывали в цепи, шепнуть одному из христиан, чтобы тот постарался предупредить его мать и Себастьяна обо всем, что с ним случилось. Панкратий мог и не просить об этом. Христиане считали священным долгом помогать один другому, и постигшее кого-либо из них несчастье считали общим. Всякий старался облегчить участь схваченного, уведомить его родных, друзей, покровителей. Лишь только стража увела Панкратия, как христиане тотчас нашли одного из присутствовавших, который за хорошую плату согласился идти в дом матери Панкратия и объявить ей о несчастии, постигшем ее сына.
Мамертинская тюрьма состояла из двух подземелий, находившихся одно под другим. Верхнее освещалось только небольшим окном. Других отверстий не было. Когда верхняя тюрьма была полна заключенными, то можно себе представить, сколько воздуха и света проникало в нижнюю часть. Стены были толстые, с огромными железными кольцами. К этим кольцам, которые целы и поныне и которые можно видеть в Риме, приковывали узников. Они должны были спать на сырой, холодной, зловонной от нечистот земле; им почти не давали пищи. Воздух был так смраден, что многие не выносили заключения и умирали прежде, чем их призывали на суд. Другие доживали до допросов, переживали страшные пытки, которым их подвергали, и отдавали душу на арене цирка, растерзанные зверями. Несмотря на весь ужас своего заключения, Панкратий не унывал. Мысль о матери смущала его, но он надеялся на Бога. Не долго томился Панкратий в тюрьме; его привели на суд. Тут были старики, женщины, девушки, молодые люди. Их вызывали одного за другим и почти всем задавали одинаковые вопросы.
– Кто такой христианский Бог? – спросил судья у старого Потина, епископа Лионского, находившегося в тюрьме вместе с Панкратием.
– Когда ты будешь достоин этого, тогда узнаешь, – спокойно ответил епископ.
Случалось, что судья начинал убеждать, пытался доказать, как заблуждаются христиане; они не спорили и кратко отвечали на вопросы. Часто судья, выбившись из сил, потеряв терпение, приказывал мучить подсудимых; чаще случалось, что, желая кончить допрос, он спрашивал: «Ты христианин?» и, получив утвердительный ответ, произносил смертный приговор.
Наконец, префект обратился к Панкратию.
– Слушай, – сказал он, – нам всем известно, мы знаем, что ты сорвал эдикт божественного императора, ездил на виллу к Хроматию, замешан во все козни и интриги твоих единоверцев, но ты молод, почти мальчик; мы будем милостивы и простим тебя, если ты отступишься и принесешь жертву богам империи. Ты единственный сын у матери... Подумай о ней! Пощади себя! Тебя ждет жестокая участь!
Панкратий молчал. Лицо его слегка побледнело, но не изменилось: напротив, оно приняло отпечаток особенной ясности, будто просияло от великого внутреннего чувства. Он решительно сделал один шаг вперед, медленно и твердо перекрестился.
– Я христианин, – сказал он, – и поклоняюсь одному Господу Богу моему, Его Сыну и Святому Духу. Их люблю я, Их непрестанно призываю. Боги империи, ваши боги, обречены на забвение!
– Палачам его! – закричал префект.
Заседание закончилось приговором, согласно которому Люциан, Панкратий, Юстин и многие другие, так же как женщины Секунда и Руфина, должны были за неповиновение закону, за отказ принести жертву и поклоняться богам империи, за принадлежность к секте христиан, быть отданы зверям на растерзание.
Толпа встретила объявление о приговоре рукоплесканиями: дикими криками она проводила несчастных узников до дверей тюрьмы; но когда дверь эта захлопнулась за ними, то многие невольно задумались. Спокойные, ясные лица осужденных христиан произвели на многих глубокое впечатление. Толпа медленно расходилась по широким улицам великого города, радуясь предстоящим праздникам и зрелищам. Она была далека от мысли, что эти улицы, эти здания, эти памятники искусства, эта великая Римская империя обречены погибнуть под напором варваров; что римской крови суждено будет литься там, где лилась до сих пор только кровь христиан.
XXIV
Накануне дня, назначенного для празднества и представления в Колизее, то есть накануне гибели осужденных христиан, тюрьма, где они томились, представляла собой удивительное зрелище.
Христиане не только не предавались малодушному страху или отчаянию, но своим поведением являли мужество и ясность духа. Они собирались группами, разговаривали и часто хором пели псалмы. Сами палачи их смягчались и предоставляли им некоторую свободу. Вечером, накануне казни, вошло в обычай подавать им ужин, называемый свободным. Блюда были изысканны и обильны. Публика и друзья осужденных допускались в тюрьму. Язычники с любопытством приходили смотреть на этих людей, которые завтра утром выйдут на бой со зверями. Какой же бой возможен между диким зверем и безоружными людьми, между стариком, юношей, женщиной – с одной стороны, и львами, тиграми и пантерами – с другой!
Когда подали ужин и приговоренные христиане сели за стол, спокойные, но задумчивые и серьезные, то присутствующие, не стесняясь, принялись делать свои замечания. Одни из них шутили и смеялись, другие указывали пальцем на самых молодых из христиан, дивились их спокойствию, жалели их молодость. Но таких было немного. Большинство публики смотрело неприязненно и громко высказывало вражду и презрение. «Что их жалеть, – говорили многие, – они христиане! Их надо истреблять – все они негодяи и лицемеры. Известно, что нет таких лжецов, таких трусов, как они! Вот мы посмотрим, как-то они перетрусят завтра. Теперь они только хвастают своим бесстрашием».
Панкратий, надеявшийся в последний раз спокойно поужинать и побеседовать с друзьями, услышав эти речи, почувствовал досаду и, обратясь к окружавшей стол публике, сказал громко:
– Неужели вам мало завтрашнего праздника? Неужели завтра вы не успеете насмотреться на нас, когда мы будем умирать, отданные вам на потеху? Глядите! Глядите! Запомните наши черты: на суде, где будут судиться все люди Судьей Праведным, вы с нами свидитесь, вы нас узнаете!
Публика, не ожидавшая таких слов от презренного христианина, отступила и скоро покинула тюрьму. Тогда с осужденными остались только близкие.
Между ними был и Себастьян, пробравшийся в тюрьму, когда публика начинала выходить из нее. Печальный, он подошел к Панкратию. Себастьян любил этого юношу, возлагал на него большие надежды в будущем... И вот ему приходилось быть свидетелем его преждевременной, жестокой кончины.
– Моя мать! Видел ты ее? – спросил Панкратий, и голос его задрожал и прервался. Казалось, его спокойствие и твердость исчезли. Он хотел прибавить что-то, но не мог, и захлебнулся слезами. Они текли, блестящие, крупные по его прекрасному лицу, но глаза его, поднятые вверх, становились все яснее и светлее. В продолжение нескольких минут Себастьян не мог отвечать; Панкратий не ждал ответа. Глаза его были подняты, руки сжаты, бледные губы шептали молитву... Постепенно лицо его прояснилось и приняло выражение не страдания, а какого-то просветления; судорожно сжатые руки опустились, слезы перестали бежать по белым как снег, щекам; и когда он обратился к Себастьяну, то лицо его было спокойно, голос уже не дрожал.
– Милая моя мать! Скажи ей, что я умираю с радостью за торжество моей веры; скажи ей, что я надеюсь свидеться там с моим умершим отцом. Я знаю, я чувствую, что торжество веры куплено пролитою невинною кровью. Скажи ей, чтоб она не сокрушалась, – все мы встретимся у Отца нашего Небесного.
– Я не видел твоей матери, – сказал Себастьян, – хотя был у нее два раза. Слуги говорят, что она не выходит из своей молельни и никого не хочет видеть. Я хоте л ей предложить прийти...
– Сюда? – сказал Панкратий. – Нет! Нет! Я боюсь свидания с ней накануне смерти, хотя желал бы получить благословение. .. Она бы не могла перенести последнего...
Панкратий опять умолк, или слезы заглушали его голос. Однако он преодолел себя и произнес уже тверже:
– Не будем говорить о ней. Повтори ей только мои последние слова, когда меня уже не будет... Пусть она знает, что я умер счастливым, с верой, умер за правду. Помнишь ли, Себастьян, тот вечер, когда мы стояли с тобой ночью у раскрытого окна, и вдруг раздалось рыканье льва и вой гиены? В сердце моем что-то встрепенулось, будто оно предсказывало мне, что я погибну за веру, что мне суждена эта великая честь, эта славная смерть!...
– Воистину славная! – произнес Себастьян тихо.
– Что ты сказал? – спросил Панкратий, не расслышав его слов.
– Я думаю о бесконечной разнице, разделяющей верующих от неверующих. Человек, живущий мыслью, и человек, живущий одною плотью – какие это два разных существа! Я нахожусь в обществе людей, видящих свое счастье в наслаждении богатством и в достижении почестей. Они боятся смерти. Как содрогаются они при виде больного, при виде похорон, даже при известии, что в городе есть случаи заразной болезни. Страх этот томит их ежечасно. Жизнь их проходит в суетном искании призрачного счастья или животных наслаждений. И сейчас я вижу тебя... Ты, осужденный на страшную смерть, не пал духом. Ты бодр и силен, ты идешь на смерть с великим убеждением, что умираешь за правду... за веру... Ты счастлив. .. Я прошу Бога дать мне умереть так же и за то же. Ты для меня святой пример самопожертвования, готовности идти даже на смерть ради нашей веры.
Себастьян и Панкратий были взволнованы до глубины души; они обнялись и долго молча так стояли.
– Завтра ты не оставишь меня, когда я пойду на смерть, и отнесешь матери мое последнее слово, мой последний подарок, – сказал наконец Панкратий.
– Буду, сделаю, – сказал Себастьян твердо.
В эту минуту вошел дьякон и объявил, что в тюрьму удалось проникнуть священнику, и христианам предлагается исповедаться и принять причастие. Панкратий тотчас оставил Себастьяна и пошел за дьяконом в отдаленный угол тюрьмы, где вокруг священника уже толпились христиане. Тут были люди всех возрастов и полов. Женщины отличались особой выдержкой и мужественно готовились к смерти.
XXV
Народ спешил к Колизею; все население Рима и его окрестностей стремилось упиться кровью тех, кого считало злейшими врагами, и насладиться их предсмертными мучениями. Сто тысяч зрителей покрывали сплошною массой громадный цирк. Римляне поднимались по лестницам и садились на мраморные ступени амфитеатра. Разряженные женщины спешили занять свои места. Между тем преторианцы приблизились уже к дверям тюрьмы. По приказанию префекта, первым должен был явиться молодой христианин Л астений; один из солдат вошел в тюрьму и назвал его по имени:
– Я здесь, – ответил он.
– Иди! – сказал солдат.
Он был одет в белую, как снег, одежду. В толпе говорили, что Ластений только что женился, и что его изящная туника была вышита руками матери ко дню свадьбы. Толпа была изумлена его красотой и одухотворенным выражением лица.
Оставшийся сзади в тюрьме хор христиан запел стройно, но тихо вполголоса: «Тебя Бога хвалим, Тебя Царя небесного исповедуем, Тебя вся земля величает!»
Ему привязали на грудь надпись: «Ластений христианин». Он шел медленно от Капитолия к Амфитеатру. У храма Юпитера Сатора, близ арки Тита, толпа встретила его криками негодования и злобы.
– На колени! – кричала она, – поклонись Юпитеру! Поклонись нашим богам! Ластений стоял неподвижно.
– Поклонись нашим богам! – неистово вопила толпа.
– О, Рим, – сказал Ластений, и голос его звенел, – о, Рим! Я вижу тебя у ног Иисуса, и князь твой узрит знамение креста и ему поклонится! Храмы идолов замкнутся и не отворятся вовеки!
– Он богохульствует! Он накликает несчастье! – кричали в толпе. Разъяренные римляне уже были готовы растерзать его. Ластений стоял неподвижно. Преторианцы, видя, что народ озлоблен и может вырвать из их рук осужденного, поспешно окружили его и, обороняя от толпы, повели его к цирку. Перед Ластением настежь растворились двери, и он вошел туда твердо, бестрепетно, полный величия и достоинства. Императора не было в амфитеатре; его еще ожидали, и потому Ластению позволили сесть на песок арены. Силы его были истощены от долгого заключения, плохой пищи, болезни и мучительных допросов. Молодой человек закутался в свою мантию и склонил голову. Он, казалось, не видел никого и ничего, тогда как вся несметная толпа не спускала с него жадных взоров.
A между тем по улицам, расталкивая толпу, бежала молодая женщина; скоро добежала она до длинного отряда преторианцев, шедших к амфитеатру. Ее опережали колесницы, мимо нее неслись всадники; шли невольники, несшие на носилках разряженных женщин; но она ничего не видала, ничего не боялась и бежала вперед.
– Христиан зверям! – поднялся вдруг оглушающий крик толпы. Она остановилась.
– Я здесь! – закричала она изо всех сил, – я здесь, я христианка! Возьмите меня, ведите в цирк!
– Беглая христианка! – закричала толпа. – Остановить ее!
– Да, я христианка, но не беглая, ведите меня в театр! Ведите, ведите, прошу вас!
– Но разве ее осудили? – спросил кто-то из толпы.
– Осудили, осудили! – повторяла она с поспешностью.
Толпа повела ее, но гладиатор, стоявший у входа в цирк, отказался ее пропустить и сказал, что эта женщина ему неизвестна, что имени ее нет в списке осужденных. В эту минуту отворилась другая дверь: молодая женщина ринулась в нее и со всех ног бросилась в объятия Ластения. То была его молодая жена.
Сто тысяч зрителей поднялись в амфитеатре, и ропот пробежал по зданию.
– Жена, жена его! – слышалось с разных сторон.
– Христианка! Пусть умирает! – кричали другие.
– Она молода! Хороша собой! Бедная!... – говорили немногие вполголоса.
– Христианка! Пусть умирает! Пусть с корнем уничтожится это проклятое племя!
Кто опишет ужас, нежность, любовь и скорбь Ластения при виде жены? Он встал, крепко обнял ее и прошептал:
– Милая! Зачем ты пришла? Зачем должен я увидеть тебя здесь? Как я могу быть свидетелем твоей смерти? О, Боже! Какое страшное испытание Ты послал мне!
– Друг мой, – сказала она тихо, силясь успокоиться и в самом деле постепенно успокаиваясь. – Я жена твоя, я пришла умереть с тобою за моего Бога, умрем вместе!
Л астений молча заключил жену в свои объятия, оба упали на колени и подняли глаза к небу. На арене появился гладиатор и, обратись к народу, громко сказал:
– Великий и свободный римский народ! Эта христианка самовольно вбежала в цирк. Ее нет в списке приговоренных к смерти. Я получил приказание предать зверям одного Ластения. Он должен умереть один.
Из толпы раздались голоса:
– Боги хотят ее смерти, она вошла, пусть умирает!
– Она вошла – пусть умирает! – заревела в один голос несметная толпа.
Гладиатор склонился и вышел.
В эту минуту раздалось бряцание оружия, спустился подъемный мост, который соединял амфитеатр с дворцом цезарей. Появился Максимиан в великолепной одежде с блестящей свитой. Все встали, приветствуя его. Когда приветствия стихли, толпа, давно жаждавшая зрелища, закричала:
– Зверей! Зверей! Христиан зверям!
Раздался звук трубы. Невольники пробежали через амфитеатр к решетке, за которой неистово метался тигр, известный своей свирепостью.
Звук трубы раздался вторично. Заскрипела решетка на тяжелых петлях; отворивший ее гладиатор поспешил скрыться, невольная дрожь пробежала по рядам зрителей.
Ластений поспешно снял с себя мантию и накинул ее на жену, которая прильнула к нему и, казалось, без чувств висела на его шее, обвив ее судорожно своими белыми, окостеневшими руками... В два огромных прыжка тигр очутился возле них... Он взвился на дыбы и вонзил когти в плечи Ластения... Жена его невольно подняла глаза и увидела страшную пасть зверя у своего лица... Она слабо вскрикнула...
Через минуту невольники вытащили два мертвых тела при громких рукоплесканиях толпы, посыпали арену свежим песком, напоили воздух ароматами...
Зрелище продолжалось...
Наконец, очередь дошла до Панкратия. Он вышел, глаза его искали Себастьяна, и Панкратий увидел его в коридоре. Рядом с Себастьяном, опираясь на его сильную руку, стояла закутанная в покрывало женщина. Черты лица ее были скрыты, но невыразимая скорбь сквозила в ее позе, в ее безжизненной неподвижности. Она стояла, как статуя. Панкратий остановился и упал к ее ногам.
– Мать, благослови, – прошептал он. Она нагнулась, перекрестила его и перекрестилась сама.
– Господи, помяни его и меня во царствии Твоем! – произнесла она твердо.
Панкратий снял с шеи ладанку с кровью замученного отца, которую мать когда-то дала ему, и протянул ей. Она прильнула к ней горящими устами.
– Иди! Иди! – кричали солдаты, толкая Панкратия.
Люцина выпустила его из своих рук и отшатнулась. Он встал и пошел...
И вот он стоит посреди арены. Он последний... Его приберегли к концу... надеясь на молодость, на любовь к жизни. Если бы он мог отступиться, просить милости, поклониться богам!. .. Это было бы торжеством языческих жрецов. Они надеялись... Но Панкратий обманул их надежды. Он стоял бестрепетно посреди арены, скрестив руки на груди, бледный, юный, прекрасный...
Спустили зверей. Он не дрогнул и стоял неподвижно. Выскочили леопарды и медведи, уже отведавшие человеческой крови ранее, но не бросились на юношу, а только описали вокруг него бешеными прыжками страшный круг... а потом разбежались!...
Толпа рассвирепела. Выпустили дикого быка. Он бросился на юношу, опустив рога. Добежав до него, бык заревел и вспахал рогами землю. Комки песка и столб розовой пыли поднялись и скрыли на мгновение от зрителей и зверя, и его жертву. Когда пыль улеглась, Панкратий стоял невредимый, с бледным и прекрасным лицом, обращенным к небу.
– Он колдун! – закричала толпа. Он колдун... У него на шее талисман... сними талисман! Сними его!
Панкратий обратился к цезарю.
– Цезарь! – сказал он ему звучным голосом, и голос его не дрожал. – На мне не талисман, а знак спасения. С ним я жил .. с ним и умру!

Молчание. Красота, молодость, бесстрашие Панкратия поразили толпу; выражение его лица, свет ясных глаз возбудили во многих жалость. . Но лишь на мгновение.,. Раздался крик:
– Пантеру! Пантеру!
Из-под земли поднялась огромная клетка; и, пока она медленно поднималась, стенки ее распахнулись, красивое животное грациозно прыгнуло на землю. Пантера, обезумевшая от заключения и мрака, в которых ее морили голодом, обрадовалась свету и свободе и принялась прыгать, кататься по земле и играть, как играют котята. Скоро она обернулась и увидела свою жертву. Голод проснулся в ней Она обошла его вокруг, легла на землю, растянулась и, не сводя глаз с юноши, медленно поползла к нему, тихо перебирая острыми когтями и вонзая вперед в песок то одну, то другую лапу... и вдруг, внезапно, быстрее молнии прыгнула на него...
Панкратий лежал на земле бездыханный с прокушенным горлом.