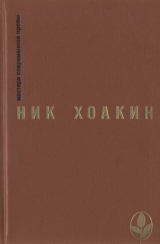
Текст книги "Пещера и тени"
Автор книги: Ник Хоакин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
– Но теперь у тебя с мамой все в порядке?
– Конечно. Собственно, мы и не ссорились. Она сразу же поняла, что я имел в виду. В конце концов она – мать, а разве найдется мать, которая любила бы своих детей, только когда они этого заслуживают? Беда в том, что мы не идем дальше, наша любовь распространяется лишь на своих, на родственников. Все прочие должны ее заслужить. Поэтому, думаю, я поступил правильно, уйдя от мамы и поселившись у отца. Год жизни в его доме, среди его друзей был полезен для меня, потому что раскрыл мне глаза: если я хочу быть христианином, то должен научиться любить и тех, кто любви не достоин.
– Политики как раз и входят в их число.
– Нет, это не так – посмотрите на папу. Его все любят, даже те, кто с ним не согласен. Кто посмеет отрицать это? – вдруг вскрикнул сын Алекса и, сверкая глазами, резко отвернулся от перил, готовый дать отпор любому врагу отца, будто он снова сражался на баррикадах на манильской улице Лепанто.
– Твой отец – всеобщий кумир, – осторожно сказал Джек, тоже поворачиваясь спиной к балюстраде и опершись на нее локтями. Служанки накрывали на стол в затененной части веранды. С кухни доносился стук ножей, предвещавший неизбежную мериенду. – Я хочу сказать, – продолжал он, – что, если оставить в стороне ‘приверженность массы к своему вождю, любовь играет в политике очень незначительную роль, хотя к этому чувству вечно взывают: любите то, любите это. Все же политика исключает любовь; политика – это средство для обеспечения безопасности и справедливости в обществе, где люди не испытывают особой любви друг к другу. Твой отец устраивает всех, потому что он поддерживает и национализм старшего поколения, и активную позицию молодежи. Но скажи мне правду, Андре, разве находишь ты в том или другом проявление любви?
Юноша улыбнулся, но выглядел смущенным.
– Я подумал, – сказал Джек, – что именно это ты имел в виду, когда говорил, что надо любить тех, кто сам никого не любит.
– Я говорил не о тех, кто не любит, – запротестовал Андре, – а о тех, кого нельзя любить, – о людях, которые, допустим, дурно пахнут или выглядят смешными.
– Будь осторожен, мой мальчик. Еще шаг – и ты святой, зализывающий язвы прокаженного.
– Вот, кстати, вспомнил: Ненита однажды спросила – почему, когда ищешь святого, всегда находишь прокаженного?
– А кого ты нашел, Андре?
– Нените как-то понравился один парень из манифестантов, от которого разило потом, как от землекопа, целый день махавшего лопатой. А потом она выяснила, что запах этот поддельный. Он просто надевал одежду, в которой потел кто-то другой. Сам работал в помещении с кондиционером, но на демонстрации являлся в ореоле трудяги. А еще у Нениты была близкая подруга, девчонка-активистка лет пятнадцати-шестнадцати, очень убежденная. Всей душой за революцию. И как-то раз Ненита чисто случайно спросила, ради чего она так старается, а та совершенно серьезно ответила: чтобы стать Мадам Комиссар культуры.
– Вы просто похожи на заблудившихся детишек.
– Вот уж нет! – воскликнул Андре, и лицо его посветлело. – Нените пару раз здорово досталось по голове во время демонстрации. А когда мы пикетировали здание американской табачной компании, они погнали на нас грузовик на полной скорости. И еще как-то раз, вечером, мы устроили учебную сходку в парке, а они набросились на нас, избили и потащили в тюрьму. Видите шрам на шее? Я получил его в драке с полицией у обувного магазина на улице Лепанто.
– Ты все же так и не объяснил, Андре, что ты нашел у воинствующей молодежи.
– Джек, вы ошибаетесь, если думаете, что они никого не любят, – хотя, конечно, ненависти там тоже много. Ненавидят американцев и церковь, ненавидят империалистов и буржуазию, ненавидят армию, полицию, владельцев школ – я могу продолжать, пока не покажется, что для того, чтобы любить свою страну, надо возненавидеть все остальное. Но, может, и следует, учитывая нашу историю, дать этой ненависти излиться, прежде чем мы начнем любить.
– Тогда почему ты ушел от них?
– Да не ушел я!
– Что это вы так кричите? – спросила Моника, появившаяся с тарелкой лапши, политой красным соусом. Она поставила ее на стол и сказала: – Садитесь-ка. Андре, включи вентилятор. А вот и папа – он хочет поздороваться с тобой, Джек.
3
Рассказы Джека о его островке недалеко от Давао побудили дона Андонга Мансано вспомнить за мериендойсвое первое посещение Давао в начале тридцатых годов, во время кампании в поддержку законопроекта Кесона о независимости. Он сошел с парохода и решил, что находится в японском квартале. «Отвези меня в центр города», – попросил он извозчика. «Это и есть центр», – ответил тот. Так оно и было – просто японцы там кишмя кишели. И лишь тогда дон Андонг, уже крупная политическая фигура в масштабах страны, понял, что часть его отечества стала японской колонией.
– Колонией в колонии, потому что в то время мы сами были американским владением. И тогда же я начал понимать, кто только не хозяйничал в нашей стране: китайцы колонизировали торговлю, испанцы – культуру, Вашингтон командовал нашей политикой, а Голливуд – модами, англичане навязали свой язык, Рим – религию, и так далее. Даже Бомбей, Токио и Аравия не оставили нас без своего колонизирующего влияния.
По возвращении в Манилу, рассказывал дон Андонг, он произнес несколько филиппик против засилья японцев в Давао и тем заработал себе почетное место в «списках разыскиваемых лиц», когда в сорок первом году в страну явились самураи.
– Эта моя поездка в Давао в тридцатые годы – хороший пример парадоксов политики. С одной стороны – да-да, возражать не стану! – кампания в пользу Кесона обеспечила мне кресло в палате представителей, а потом и в сенате. Но из-за участия в ней меня же и разыскивали, когда началась война на Тихом океане. Хорошо это или плохо? Плохо, говорят все – даже моя семья, потому что нам пришлось скрываться, голодать, дрожать от страха. Но это же обернулось и благом. Когда война кончилась, я был на коне: партизанский командир, абсолютно не запятнанный сотрудничеством с врагом. Американцы меня просто полюбили. Но когда я вернулся к политике и занял свое кресло в сенате, им, должно быть, захотелось, чтобы мое имя было хоть как-то замарано. Я один из первых выступил против их плана обеспечить себе военные базы на Филиппинах и равные права. Ректо еще молчал, а я уже навлек на себя ярость американцев. И снова, так сказать, оказался в «черном списке» – теперь уже в политическом смысле: всякий раз, стоило мне выдвинуть свою кандидатуру на выборах, деньги потоком текли к моим противникам. С гордостью могу утверждать, что никогда я не побеждал как неоколониалистский кандидат и никогда не проигрывал как кандидат антиимпериалистический – велась ли борьба против американцев, стоявших за Магсайсаем, или против американцев во Вьетнаме. Я знаю, что мог бы стать президентом – ко мне обращались с такими предложениями, но я, увы-, предпочел собственную правоту. А все потому, что некогда, еще молодым и совершенно неопытным политиком, побывал в Давао.
– А теперь вы снова на пути в Дамаск? – улыбнулся Джек Энсон.
В розовом халате с черными отворотами (под ним – бежевая пижама) дон Андонг не был похож на сенатора, но тем не менее, сидя во главе стола, он обозревал его так, словно то был зал сената. Его все еще густые, слегка тронутые сединой волосы были напомажены и зачесаны в стиле тридцатых годов: гладко наверх, с косым пробором и углом подстриженными бачками.
Он ответил:
– Ты хочешь поддеть меня, Энсон, но я, как говорится, не клюну. Обращение в веру – это как любовь. Только потом начинаешь видеть причины и объяснения. Вначале же ничего нет.
– Вы просто пали, ослепленный ярким светом?
– Я тщеславный человек, Энсон, но это тот случай, когда я не считаю, что был «зван по заслугам» или особо избран. Я как те работники из евангельской притчи, нанятые в одиннадцатом часу и получившие полную плату, хотя они не переносили тягость дня и зной.
– Здесь ты, вероятно, ошибаешься, дед, – сказал Андре. – Может быть, делая свое дело в политике, ты трудился вместе с призванными ранее, хотя сам думал, что работал против них. Всякий, кто борется со злом, уже на стороне ангелов.
– Замолчи, Андре, – сказала его тетка Моника, – и не мешай лолодоедать чампоррадо [34]34
Рисовая каша со взбитым шоколадом.
[Закрыть].Джек, еще лапши?
– Да, положи ему, – сказала Чеденг. – На обед он съел всего лишь три сардины.
– Это еще один реликт, – сказал Джек. – Нет, не твоя великолепная лапша, Моника! Ее ты мне действительно подбавь, пожалуйста. Я имею в виду это все – всю эту мериенду. Вот уж не думал, что она дожила до наших дней, что ради нее садятся за стол, да еще с горячим шоколадом – совсем как в детстве.
– Это я распорядился, – сказал дон Андонг, который, по правде сказать, полагал, что для такой компании на столе слишком много яств. – Пока я жив, в моем доме всегда будут сохраняться наши обычаи, в том числе и мериенда. En debida forma [35]35
Как положено (исп.; здесь и далее часто употребляются неправильные формы и орфография« филиппинизированного» испанского языка).
[Закрыть].Это тоже национализм. Я филиппинец прежде всего в том, что касается желудка. Благоприятствует подъему духа.
– Но не благоприятствует моей фигуре, – вздохнула Моника, подливая себе шоколада.
Стол был действительно богатый. Помимо китайской лапши с подливой из креветок и рисовой каши с горячим шоколадом, подали копченую рыбу, ветчину и колбасы, а также три сорта хлеба: батон, слойки и французские булочки.
– Но тут почему-то нет ничего в молоке кокосового ореха, – заметила Чеденг.
– С годами, – изрек дон Андонг, – склонность к классическим блюдам из кокосового молока идет на убыль. Но по моему распоряжению их подают в Страстную пятницу и в День всех святых.
– Папа у нас радикал только в сфере духа, – сказала Моника. – Во всем остальном он конформист.
– Ты хочешь сказать – традиционалист, – вставил Андре. – Поэтому его возвращение в лоно церкви никого не должно было бы удивить.
– О нет, тут ты ошибаешься, Андре. Как раз здесь я порвалс традицией, на которой воспитан и которая требовала, чтобы всякий мужчина, достойный носить брюки, был антиклерикалом. Теперь-то я вижу, что жил, как мой отец и дед, а надо было жить если не как мой сын, то как внук, раз уж я хотел не отставать от времени. Сегодня, Андре, мы с тобой ровесники. Quasi modo genitii infantes [36]36
Как новорожденные младенцы (лат.).
[Закрыть], как говорят на пасху. Что, потрясно? Так вы, кажется, выражаетесь?
– А религия теперь действительно потрясна? – спросил Джек.
– И на любой вкус, – заметила Чеденг. – Тут и гадальные карты, и гороскопы, и оккультизм, которым я слегка увлекаюсь. А вот Моника предпочитает штуку, именуемую «дзэн».
– Это чтобы перещеголять папа, – улыбнулась Моника. – Я, пожалуй, кончу тем, что стану буддийской монахиней и обрею голову.
– А Ненита Куген, – продолжала Чеденг, – когда ей надоели экстремисты, обратилась к неоязычеству, стала последовательницей Гиноонг Ина [37]37
Господин Мать (тагальск.).
[Закрыть]. Так что, как видишь, Джек…
– Гиноонг Ина?
– Ты не слыхал о ней? Боже мой, неужели в Давао нет телевизора? Она появляется на экране около полуночи, вместе со своими непорочными весталками. Освящает какие-то прутья, камни, воду, все что угодно, потом это якобы исцеляет от болезней.
– Но кто она?
– Этого никто не знает, – сказал дон Андонг. – Сама говорит, что она возродившаяся жрица прежних времен, бабайлан,но, с другой стороны, есть люди, которые утверждают, будто бы она снималась в кино, а то и занималась кой-чем похуже.
– О папа́! – воскликнула Моника. – Ты так говоришь только потому, что она – соперница вашей Эрманы. Культ святой Эрманы, Джек, если ты еще не знаешь, – вот чем увлеклись папа и Андре. Эта Эрмана жила в Маниле в семнадцатом веке, считалась ясновидящей и скончалась в благоухании святости. Теперь она творит чудеса. Началась кампания – папа принимает в ней активное участие – за объявление ее праведницей, угодной богу и так далее. Она должна стать первой филиппинской святой, и папа – пророк ее. Но тут получилась накладка, главным образом из-за Гиноонг Ина. Пещеру, в которой умерла Ненита Куген, пришлось закрыть, потому что последователи Гиноонг Ина все время сражались из-за нее с приверженцами святой Эрманы.
– А эти последователи Гиноонг Ина, они что, откровенные язычники? – спросил Джек.
– Она – да, но не они, – вмешалась Чеденг. – Они видят в ней только вероцелительницу. Ненита же, девочка сообразительная, поняла, что из этого следует: исцеление верой есть часть неоязыческого движения.
– И присоединилась к нему как язычница?
– Вовсе нет! – сказал Андре. – Нените просто было любопытно, она хотела сама попробовать. Но ей сказали, что если она хочет быть непорочной весталкой, то должна посвятить себя этому целиком. Их называют далаганг банал [38]38
Святая девственница (тагальск.).
[Закрыть].Они долго готовятся, пока сами не станут жрицами-бабайлан. А Нените всего лишь позволили бывать у них и смотреть.
– И это стало ее любимым занятием, – сказала Моника.
– А что ты о ней думаешь, Моника? – спросил Джек.
Вдова, покончив с едой, закурила сигарету, и теперь затяжки служили ей знаками препинания в разговоре.
– Видишь ли, эта девочка была типичным подростком, только наоборот. Что интересует подростков? Поп-музыка, певцы, кинозвезды и прочие ненормальные знаменитости. Другое дело Ненита. Ее интересовали как раз нормальные люди – мы. Точнее, то, что она считала нормальным в нас. Мы были, так сказать, ее певцами, ее кинозвездами. Но мы не умеем петь, не снимаемся в кино – мы вечно не оправдывали ее надежд. Поэтому она и стала такой несносной.
– А кто бы не стал? – перебил Андре. – Она хотела аплодировать, а мы шикали на нее.
– Мой дорогой племянник, она хотела аплодировать не мне, скажем, в роли домохозяйки, а той женщине, которая во мне существует не для ведения домашнего хозяйства. И только небеса знают, что это такое. Однажды она спросила, снится ли мне когда-нибудь кухня, и надо же было ответить, что если и снится, то всегда в виде лаборатории, где я тружусь в колпаке шеф-повара и в фартуке. И вдруг узнаю: она, видите ли, сообщает Чеденг, как ее потрясло знакомство со мной, потому что на самом деле я – Лукреция Борджиа, готовящая яды!
– Дон Андонг, – спросил Джек у старика, сидевшего во главе стола, – а что она думала о вас или что вы думали о ней?
– С головой у девочки было все в порядке, – ответил тот. – Как почти все мы, она искала бога, не ведая об этом, но в отличие от нас искала его в своих ближних. Я относился к ней с уважением, думаю, она ко мне тоже. Мы оба считали, что каждый человек замечателен, ибо несет в себе образ бога. Так что, Моника, если она видела в тебе Лукрецию Борджиа, то это скорее всего значит, что бог даже кухню может сделать раем или адом, но никак не просто местом тяжелой и нудной работы.
– Аминь, папа́. Да и мериендупора кончать. Чеденг, останешься ужинать?
– Нет. Мы сегодня работаем допоздна. Я зашла, чтобы подкрепиться. – Теперь на ней были джинсы и рубашка. – А ты куда направляешься, Андре?
– Мам, машину ведь надо заправить.
– Подбрось меня до конторы, а потом отвезешь Джека в отель.
– Но не раньше, чем он выкурит со мной сигару, – сказал, поднимаясь, дон Андонг.
– Он попозже придет к тебе в библиотеку, папа́, – сказала Моника. – А ты сначала зайди к себе, умойся, прими лекарства, переобуйся в шлепанцы. Сандалии выставь за дверь, их почистят.
Оставшись за столом вдвоем с Джеком, Моника попросила его рассказать о своем острове поподробнее. Еще за мериендойотметила, что с годами двенадцатилетняя разница в их возрасте как-то сгладилась. Он сообщил ей, что на острове у него жарко – куда жарче, чем в Маниле. И жизнь там – тоскливое одиночество. Она и не представляет, что это такое.
– Ах, Джек, ведь я загубила свою жизнь! Я вышла замуж за человека, который не любил меня, и он умер, не оставив мне ни сентаво. А теперь еще рассорилась со всеми своими детьми. И если папа выставит меня, мне просто некуда идти. Поэтому я стараюсь быть незаменимой здесь.
– Я бы не стал так его поддразнивать насчет обращения в веру.
– А я и не поддразниваю. Боже, разве я не помню, как мама все время молилась, чтобы это произошло? Жаль, она не дожила… Но последние дни я так скверно себя чувствую, что не могу придержать язык. А чего ты копаешься в этом деле, Джек? Ненита Куген… Знаешь, она мне нравилась. Но, похоже, она приносила только несчастье. Лучше быть осторожнее.
– Когда ты видела ее в последний раз?
– О, не помню. Она перестала бывать у нас. Но накануне того дня, когда ее нашли мертвой, она звонила. Хотела знать, где Алекс. Сказала, что ей надо спросить его о чем-то важном.
– В котором часу это было?
– Часа в четыре, в пять. Я дала его личный номер, не внесенный в телефонную книгу. Вечером Алекс появился у нас, и я сказала ему об этом. Он ответил, что Ненита до него дозвонилась и он ездил к ним, как она просила, только ее не оказалось дома. Тогда он решил заехать к нам, но Чеденг задержалась на работе, а папа участвовал в каких-то церковных бдениях. Дома была я одна.
– Почоло Гатмэйтан и я ужинаем сегодня с Алексом.
– Тогда Алекс сам тебе все расскажет. Да, и еще… Впрочем, папа ждет. Ты уж лучше выкури с ним сигару, а то он обидится. Но только, Джек, постарайся, чтобы он не пил больше одной рюмки бренди.
Джек задумался о ее судьбе.
– И все-таки не могу представить тебя на кухне, – сказал он. – Я помню тебя блестящей светской дамой, ты выезжала каждый вечер.
Он снова видел ее молодой красавицей, украшенной цветами и драгоценностями, – как она проплывала мимо в облаке духов или, задержавшись на минуту, награждала его, мальчишку, благосклонным подзатыльником.
– Вот так, Джек, принцесса из замка превратилась в Золушку, окруженную горшками и сковородками. До замужества я знать не знала, что такое кухня. Теперь все это занудство – моя ежедневная порция яда. Может быть, именно это и имела в виду Ненита Куген.
4
Окна в библиотеке были занавешены, пол покрыт ковром от стены до стены. В ней словно висел полумрак давних полуночных воскурений.
– Садись, Энсон, садись, – сказал дон Андонг.
Он включил фен под потолком и предложил Джеку сигару. Они закурили. Куда он приглашает меня сесть? – удивлялся Джек: они стояли у огромного стола с единственным креслом-троном, наполовину спрятанным в его чреве; но дон Андонг уже двинулся через просторы ковра-лужайки к круглому столику, стоявшему между двух кожаных кресел. Две дальние стены за ним – библиотека имела размеры весьма внушительные – были от пола до потолка сплошь заняты рядами книжных полок. Там не было видно ни одной книги в мягкой обложке, ни одна не радовала ярким супером. Тусклое золото и шершавые коричневые переплеты возвещали, что каждый том заключает в себе старинную премудрость: кодексы общественной жизни, своды законов…
На круглом же столике весьма легкомысленно устроились лампа, пепельница и пестрые плетеные салфетки, на которых стояли две рюмки, графин и бутылка. Лампа не горела, и Джек и дон Андонг опустились в кожаные кресла в благословенном сумраке. В бутылке был бренди: «Дон Карлос Примеро».
– В наши дни молодые люди считают пристрастие к бренди причудой, – сказал старик, ласково поглаживая бутылку, – но ведь они пить его не умеют. Глотают, как пиво. Налить тебе?
– Только немного, дон Андонг… большое спасибо. Итак, все повторяется. Мы – Алекс, я и Почоло – впервые отведали вашего бренди еще мальчишками, до войны, когда нам было лет по тринадцать. За родительскими спинами – и за вашей тоже, дон Андонг, – мы совершали набеги на ледник ради, как мы говорили, «los dos dones» [39]39
Двух донов (исп.).
[Закрыть]:«Дона Карлоса Примеро» и «Дона Педро Домек». Наши отцы питали пристрастие к «донам» и употребляли их вовсю. А пиво пить мы научились лишь после войны.
– У американских солдат, так? Мы в былые времена пили пиво только за обедом.
– Особенно с бобами или солеными орешками. А вы, дон Андонг, называли это своим супом – тот бокал ледяного пива, которым вы всегда начинали обед.
– Да, мальчишкой ты часто бывал у нас. И у тебя всегда были такие изумленные глаза!
– Потому что в вашем доме меня везде подстерегали чудеса, дон Андонг. Вот здесь, в этой библиотеке, я впервые увидел Кесона. Мы подсматривали, потому что услышали, как он орет, – а до чего здорово он ругался по-испански! В другой раз видел Осменью [40]40
Осменья, Серхио (1877–1961) – видный политический деятель, в 1944–1946 гг. президент автономных Филиппин.
[Закрыть], который в ярости бегал взад-вперед по комнате, а нам-то говорили, это такой уравновешенный господин. И вы представить не можете, как я был шокирован, увидев здесь еще одного гостя – архиепископа О’Дохерти.
– А, да, перед войной, когда я блокировал их предложение сделать преподавание закона божия обязательным в государственных школах. Он объявил мне тогда, что я рискую потерять голову, а я рассмеялся ему в лицо и ответил, что он может потерять улицу. Его дворец находился в Интрамуросе, на улице Арсобиспо [41]41
Центральная часть старой Манилы; букв.:«город внутри стен» (исп.).Арсобиспо – архиепископ (исп.).
[Закрыть], и я в шутку пригрозил, что потребую переименовать ее в улицу Вольтера или Аглипая [42]42
Аглипай, Грегорио (1860–1940) – глава независимой филиппинской церкви, отколовшейся от католичества.
[Закрыть]. Но с О’Дохерти мы, в общем-то, ладили. А вот того типа, который появился после войны, – первого папского нунция – я чуть не вышвырнул отсюда. Он не хотел, чтобы в школах читали Рисаля [43]43
Рисаль, Хосе (1861–1896) – ученый, писатель и поэт, национальный герой Филиппин, казненный испанскими колонизаторами; автор романов «Noli me tangere» («Не прикасайся ко мне», 1887) и «Флибустьеры» (1891).
[Закрыть], и явился ко мне выразить протест против занятой мной позиции. Я ответил ему, что такова же и позиция общественности, но он усомнился, откуда мне это может быть известно – ведь я вечно пьян. И я предложил ему убраться, прежде чем я вышвырну его вон.
Дон Алехандро Мансано вышибает из дома папского нунция! Однако сейчас, рассказывая об этом, дон Андонг выглядел не столько свирепым, сколько задумчивым – голова чуть повернута к книжным полкам, словно разум его искал там поддержки. И действительно, как всегда при виде этих выстроившихся вдоль стен томов, к которым теперь никто не прикасался, он будто ощущал запах полуночных воскурений времен его политической юности. Но призраки, обитавшие здесь или некогда возвращавшиеся сюда, больше не являлись ему, ибо давно уже свет знаний, которых он вновь так жаждал на склоне лет, горел не в библиотеках.
– Воспоминания о подобных вещах вас тревожат, дон Андонг? Я имею в виду папского нунция.
Старик вздохнул, отрываясь взглядом от книг.
– Да честно говоря, нет. Я делал то, что считал правильным, хотя, как теперь погляжу, в целом воспринимал ситуацию неверно. Но политики не могут и не должны исходить из требований момента.
– Этот дом, несомненно, отвечал требованиям момента, особенно бальный зал внизу и эта библиотека, где всегда можно было наткнуться на людей, о которых кричали заголовки газет: на Кесона и Осменью перед войной, на Рохаса и Кирино [44]44
М. Рохас (1894–1948) и Э. Кирино (1890–1956) – видные политические деятели, бывшие президенты Филиппин после второй мировой войны.
[Закрыть]после войны. Я помню, как однажды вечером вы, дон Андонг, давали прием в честь Макартуров, а потом пригласили их в башню полюбоваться видом, но перед ними предстала совсем иная картина: я, Почоло и Алекс в постелях, уже раздевшиеся для сна. Как мы нырнули под кровати! Когда я оставался ночевать, мы всегда спали в башне.
– Там теперь бак для воды, – сказал дон Андонг, протянув руку к бутылке. – Еще poquito [45]45
Немножечко (исп.).
[Закрыть],Энсон?
– Пожалуй, хватит, слишком жарко. Ну да ладно, совсем немного и, пожалуйста, с водой.
– Тебя просили присмотреть, чтобы я не пил слишком много?
– Вовсе нет, дело во мне – слишком много съел за мериендой.
– Aie de mi [46]46
Увы (исп.).
[Закрыть], Энсон, я все такой же горький пьяница. Тебя это шокирует?
– Я, дон Андонг, абсолютно не гожусь быть судьей кому бы то ни было.
– А про себя думаешь: вот обращенный, вот новый христианин – а что в нем изменилось? Разве я выгляжу как заново рожденный? Нет, перед тобой все тот же ветхий Адам, со всеми его вожделениями и страстями, с горячей головой и скверным характером. Чувствую ли я стыд? Нет, я чувствую себя христианином. Ты улыбаешься?
– Вы не первый обращенный, дон Андонг, который чувствует, что осознание зла есть начало спасения.
– А, ты меня не понял. Дело не в том, что я осознаю зло. Зло осознает меня. Так осознает, что искушает каждую минуту, и в этом постоянном искушении мое спасение. Я оступаюсь ко благу.
– Это говорит «Дон Карлос Примеро»?
– Да, если иметь в виду старое изречение об истине в вине. Но ради бога, выслушай меня, Энсон. Год моего обращения в христианство был счастливейшим годом моей жизни. Мне перевалило за семьдесят, и я с удивлением понял, что напрасно боялся старости. Я был как распорядитель на брачном пиру в Кане Галилейской, сказавший жениху: «Ты хорошее вино сберег доселе». Я ушел от общественной жизни и убедился, что меня ждала жизнь совершенно новая, доселе неизведанная.
– Духовный медовый месяц.
– Совершенно верно. И как точно сказано: когда человек счастлив, он добродетелен. К тебе это подходит?
– Что вы имеете в виду – счастье или добродетель?
– Я имею в виду удовлетворенность самим собой. Именно она, как я теперь вижу, снизошла на меня, когда кончился медовый месяц. Я был настолько удовлетворен собой, что разрешил выставлять себя напоказ на всех праздниках христианской любви как образец человека, преображенного благодатью господней.
– Пока это не стало вызывать в вас отвращение.
– Пока я не осознал, что демонстрируется не благодать, но гордыня. Поверь мне, я не так уж бесчестен и все же заставлял себя соглашаться, не желая обидеть братьев моих во Христе. Я стал штатным лицедеем в кругу сторонников возрождения религии, чуть ли не кинозвездой. Да и как я мог отказаться, если я привлекал столько заблудших душ? Но я-то знаю, что привлекало их: мое имя, моя слава. Я был великим и знаменитым доном Алехандро Мансано, который отринул политику, чтобы стать смиренным евангелистом.
– Но и здесь шел по старым колеям политических кампаний.
– Возможно. Мне даже говорили, что я добываю голоса для Христа, а это могло означать – для тех политиканов, которые снюхались с епископами.
– Дон Андонг, вас отталкивала мысль о том, что вас просто используют?
– Вовсе нет. Я уже не мыслю такими понятиями. Не было тут и лицемерия. Ведь я действительно, можно сказать, переродился. Но именно по этой причине меня такого, какой я есть, дона Алехандро Мансано, не следовало выставлять экспонатом.
– Для обольщения духовных снобов.
– Увы, это так, Энсон! Я не был слабым сосудом, призванным смутить сильных. Я был великим, богатым, мощным сосудом, выставленным для демонстрации вящей славы воинствующей церкви, некогда ярым ее противником, ныне поставленным на колени. Современные теологи имеют специальный термин для этого…
– Триумфализм. И что вы сделали?
– Pues chingarles, darles la puñeta [47]47
Испанское ругательство.
[Закрыть].Было большое собрание возрожденцев, с самим кардиналом во главе, и там я должен был совершить это свое действо – явление звезды. А я явился пьяным. Пьяным и непотребным.
– Вот и конец праведника-суперзвезды.
– О нет. Это было откровение. Они поняли, что я хотел этим сказать: если уж восславлять благодать во мне, то надо, чтобы я был сосудом не прочным, а весьма скудельным.
– Кажется, что-то в таком роде случилось со святым апостолом Павлом после его обращения.
– Знаю. Видимо, он стал слишком самодовольным и высокомерным. И тогда послан был ангел сатаны уязвлять его плоть. И смотри, как восславлен он был злыми побуждениями плоти, ибо напомнили всем, что ему самому не надо быть сильным, мощи Господа достаточно. Вот почему и я говорю: хорошо, когда совершаешь грехопадение.
– Я понимаю, что вы имеете в виду, дон Андонг. Это очень тонко. Вы, сэр, отринули главное искушение новообращенного – духовную гордыню. Это самая смелая из всех ваших кампаний.
– Выпьем за это?
– Непременно, сэр! Наливайте!
– Joder convo [48]48
Испанское ругательство.
[Закрыть],Джек, ты лучший собутыльник! Давай до дна! И налей еще! Когда ты едешь в Давао?
– Не знаю. Может, останусь здесь навсегда.
– Добро пожаловать домой, Джек!
– До дна, Энди!
– Ага, опять у тебя изумленные глаза!
– Потому что теперь, кажется, я вижу тебя насквозь, Энди, старина.
– Когда я отбросил прочь всякое достоинство? Э-э, посмотрел бы ты на меня во время того собрания, о котором я говорил. Черт побери, Джек, когда я был политиканом, я очень боялся разрушить свой образ почтенного человека. А на самом деле только этим и занимался: являлся в сенат пьяный, скандалил в барах из-за девок. На другой день мне бывало страшно стыдно. Но на том собрании, где присутствовал кардинал и куда я явился пьяный, я вовсе не испытывал никакого стыда от того, что валяю дурака, – ни тогда, ни после. Могу тебя заверить, это было зрелище – я шатался, орал, потом блевал и в конце концов отключился.
– Как бы я хотел видеть тебя тогда, Энди! Как бы я аплодировал!
– Погоди, Джек, погоди. Брось ты эти сучьи аплодисменты и слушай меня! Ну хорошо, я был честен вначале, когда хотел, чтобы во мне видели сосуд скудельный. Но честен ли я сейчас? Понимаешь, а не использую ли я все это теперь для того, чтобы и дальше оправдывать мою преданность гнусным порокам?
– Не порокам, Энди, и вовсе не гнусным. Очень святым. Зло – во плоти, такова воля господа. Налей еще по одной, человече.
– Добро, парень, давай выпьем. До дна! Но послушай, я ведь убил эту девчонку.
Джек Энсон вмиг протрезвел.
– Какую девчонку?
– Нениту Куген. Потому что, послушай, я ведь, наверно, растлевал ее своими разговорами о необходимости зла и о том, что падение есть благодать. О felix culpa! [49]49
Сладостная вина! (лат.)
[Закрыть]Разве могут молодые понять это? Им нужна уверенность, надежность, а не загадки.
– Так что же вы сделали, дон Андонг?
– Толкнул ее к язычникам. Они-то как раз предлагали уверенность и надежность. А я только запутывал ее своей сучьей доктриной о том, что добро есть зло и наоборот.
– Вы пытались соблазнить ее?
– О боже, нет, конечно! А впрочем, откуда мне знать? Как я уже сказал, мои побуждения вполне могли быть бесчестны. Пару раз я заставлял ее преклонять в молитве колена рядом со мной. Пытался ли я соблазнить ее или изгонял из нее дьявола? А вдруг она была ангелом сатаны, посланным уязвлять мою плоть? Впрочем, как ты уже знаешь, искушение мне только на пользу, но ненавидел ли я ее за то, что она искушала мою плоть? Да и искушала ли? Не знаю, не знаю… Зато я знаю, что она для меня теперь: жернов на шее, потому что я сбивал ее с пути, одну с малых сих. Нет прощения за это! Нет и нет! – Он швырнул рюмку через всю комнату. – Я грязный, похотливый старикашка, un viejo verde,вот кто я!
– Дон Андонг, возьмите себя в руки!
– Я убил девчонку! О господи, я убил девчонку!
Кто-то уже поднимал старика, рухнувшего на четвереньки посреди комнаты.
– Calma, abuelito, calma. Aqui estoy [50]50
Спокойно, дедушка, спокойно. Я здесь (исп.).
[Закрыть],– бормотал Андре Мансано, уводя рыдающего деда. – Мама ждет вас внизу в машине, – через плечо бросил он Джеку Энсону.
5
Вдоволь поиздевавшись над Джеком за сцену в библиотеке. Чеденг, перед тем как выйти из машины у своей конторы, сообщила главную новость:
– Наши визы в США могут быть выданы в любой момент. Так мне только что прощебетала по телефону одна маленькая птичка. Мы с Андре, возможно, соберемся и уедем еще до конца месяца. Так что, Джек, ты приехал как раз вовремя: и поздороваться успел, и еще скажешь «до свиданья».


