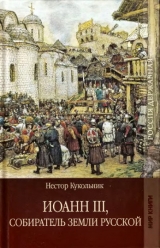
Текст книги "Иоанн III, собиратель земли Русской"
Автор книги: Нестор Кукольник
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц)
VI
РАБОЧАЯ ПАЛАТА
Иоанн встал; благовест призывал к обедне; государь поцеловал княгиню в чело, дал ей поцеловать свою руку и ушел вместе с Софьей. У обедни были и дети, за ними поодаль стоял и Василий.
Когда литургия кончилась, Иоанн, выходя из церкви, подозвал Васю…
– Ко мне, в палату! – сказал Иоанн, и Василий пошел за государем в числе сановников, шедших по обычаю в рабочую государеву палату. Все было ново для Василия. Вчера впервые он вкусил сладость поцелуя, вчера он был участником в событиях загадочных и странных, сегодня из беззаботного недоросля он стал юношей, лично известным государю, с какою-то заслугою, которой важности он не мог постигнуть. Все вчерашние тайны, которые так волновали его, пропали сегодня, будто пена с вина; глаза его разбегались, он не знал, на кого и на что смотреть.
Рабочая палата государя помещалась в особом деревянном доме, она была довольно обширна; по правую руку дверь вела в ту узкую, длинную комнату, где, как мы видели, Патрикеев принял Никитина; по левую – дверь от приемной палаты или, лучше сказать, от покоя ожиданий; на скамьях, обитых красным сукном и медными пуговичками, сидели священство, бояре, воеводы, окольничьи, дьяки, весь новый московский чин, который тогда еще не получил полного устройства. В главной палате огромный дубовый стол, обитый кожей, небольшой налой и шесть кресел с высокими спинками, также обитые кожею, составляли убранство; зато на столе – рукописные книги в кожаных переплетах, свитки, ларцы, окованные серебром и простые, чучело какой-то редкой птицы, наконец, глобус земного шара, походивший видом на грушу, – все это лежало в беспорядке и было покрыто пылью, потому что Иоанн сюда не допускал прислуги, запирал палату собственноручно и ключ носил при себе. Ключ этот был позолочен, и, вероятно, от этого палата называлась золотою, – впоследствии была действительно в том же Кремле Золотая палата; может быть, первая подала мысль устроить последнюю. Вынув ключ, Иоанн подал его Мамону, тот отпер двери; Иоанн вошел в палату, обратился к иконам, осенил себя прежде знамением креста, положил шапку на налой, жезл поставил в угол, разводя рукою густые кудри; Мамон в это время подошел к правой двери, что вела к Патрикееву, отодвинул железную огромную задвижку и тихо вышел. Государь сел на свое место. Возведя глаза на икону, Иоанн долго смотрел на лик Спасителя, наконец, вздохнув, сказал тихо:
– Трудно.
И снял печати со свитков, лежавших перед ним на столе. Прочитав несколько слов первого свитка, Иоанн изменился в лице.
– Мамон!
Боярин тихо вошел из приемной палаты.
– Кто там есть из священства?..
– Только Нифонт Суздальский.
– И благо! Проси сюда!
Нифонт давно стоял перед государем, но Иоанн так был увлечен чтением, что не заметил его присутствия. По временам только он шептал: «Господи, спаси и помилуй!.. Нечестивцы!..» Дочитывая уже свиток, Иоанн встал с места, и вид его стал страшен. «Как! Алексий, Дионисий… На дворе моем! Быть не может!..» Тут только Иоанн заметил епископа и, обратясь к нему, сказал:
– Присядь, владыко! Дело важное, дело страшное! Боюсь верить…
– Государь, и я получил грамоту, о которой пришел сказать тайно, зане писана мужем, в иерархии знаменитым, сияющим добродетелью христианскою, яко солнце…
– Угадываю! Отец Иосиф Волоколамский достоин такой хвалы… Пастырь добрый, ты знаешь труды мои на пользу церкви, ты ведаешь, как внимательно и осторожно избирал я для каждой епархии святителей. Вассиан Тверской, Тихон Ростовский, Геннадий Новгородский, Симеон Рязанский, Прохор, Филофей и другие святители не обманули надежд моих, но Зосима…
Государь нахмурился…
– Он нам глава, государь, – тихо сказал Нифонт, – но не мы его избрали на престол первосвятительский, на то была…
– Воля вашего государя! – гневно прервал Иоанн. – Протопоп Алексий, духовник мой, всегда восхвалял добродетели Зосимы. Одна уже открылась к соблазну христианства; вся Русь знает, что он пристрастен к вину… Трепещу, чтобы друг Алексия не разделил с ним и богоотступных мнений…
– Об этом-то пишет Иосиф…
Государь молчал, гневно глядя на Нифонта, тот потупил очи и сидел недвижно.
– Вот, владыко, – сказал он наконец голосом нетвердым, – Геннадий принялся за дело, как пристойно пастырю душ! В Новгороде началась жидовская ересь, тут и разгорелось сатанинское пламя; Геннадий, как пишет в этой грамоте, изловил и обличил всех сообщников; их везут на Москву, и горе богоотступникам!
– Нифонт, я избираю тебя моим помощником в этом трудном деле. Тайна и нелицеприятная правда – вот чего от тебя требую. На Зосиму не полагаюсь, но все указы должны идти от его имени. О каждом мне докладывай ежедневно вместе с Зосимой. Новгородских еретиков на Москву не ввезут, а придержат в Клину. А кто бы оттуда ни ехал, без моего ведома на Москву не впустят. С Зосимою ты будь неразлучен, и с кем он видаться будет и беседовать – отмечай и мне говори. Тех всех московских еретиков, что тут написаны, не забирать, но протопопу Дионисию наказать от имени моего, чтобы ехал в село мое Рождественское вперед меня, а там его келейно допросить; а меж тем послать указ во все города быть собору на Москве всего священства, и чтобы епископы, архимандриты, игумены и старшее светское священство – чтобы все ехали на Москву неотложно, с поспехом, и кто приедет, сказать мне; ересь – древо о многих корнях, не изженешь всех, только труд потеряешь, а древу дашь высшую силу. Грамоту Геннадия пришлю к Зосиме, с указом чинить вам по сему делу с тобою сообща. Постой!
Государь написал несколько слов и позвал Мамона.
– Пошли с надежным человеком указ и эту грамоту к митрополиту, да глади, чтобы тот, кого пошлешь, грамоты не умел разбирать; да не мешкая ни мига!.. По пути пошли ко мне Юрьича и Курицына… Прости, владыко! Не оставь меня твоими молитвами. Теперь ступай прямо к Зосиме; указ будет там прежде, а грамоту прочтете вместе. Испытую взором и словом совесть Зосимы; мне удавалось тем путем обличать искуснейших лицемеров. Благослови!..
Не успел Нифонт оставить рабочей палаты, как туда же взошли Курицын и несколько мгновений спустя Патрикеев.
– Садись, Юрьич, – сказал государь, и первый боярин, поклонясь низко, сел на кресло по левую руку, Курицын стоял за его креслом. – Казанские дела отвлекли нас от других дел, и теперь работы понабралось довольно. Федька, ты как был у короля Матвея, про римского императора, сыновей его и сродников ничего не разведал?..
– Я не считал того для твоего царского величества пригодным.
– Как же ты, Федька, не расчел того, что Польша стоит между нами и немцами; союз наш с римским императором стеснил бы моего соседа Казимира; с полудня – король Матвей, господарь Стефан да Менгли-Гирей, и нам бы выгоднее и удобнее было двигаться по Литовскому полю. Союз письменный, эта храмина из бренных и тленных грамот, – временная подмога; государственный муж теми союзами управляет, что веслами: сломается одно – другое возьмет. Сколько на белом свете было письменных союзов – вспомни, а скажи, который из них был исполнен?.. Есть союзы прочнейшие, и я для того хочу послать человека надежного, чтобы разведал и разузнал под рукою, что может нам быть выгодно. Дочери у меня подрастают. Выдать их замуж за кого из русских наших князей – значило бы поднять лежачих, которых повалить так много нам стоило. Я послал бы тебя, Федька, да ты мне здесь нужен… Есть ли у тебя на примете человек надежный?..
– Все слуги твоего царского величества надежны, но та беда, что чужеземных языков не разумеют…
– Важное препятствие! На толмачей трудно полагаться. Я указал тебе набрать способных юношей и учить их…
– Государь великий, Иван Васильевич, я исполнил свято по твоему указу; двенадцать юношей прибраны и на посольском дворе у меня живут; учатся они исправно у Мефодия в школе греческому языку, а итальянскому да немецкому… ходят с Греческой слободы серебряный мастер Лузо да пушкарь Майзер – хорошо учат; польскому и татарскому сам наставляю, а свейского учителя еще не приискал…
– Достань непременно. Свейское царство что туча, чреватая многими событиями для Москвы и Руси. Стен Стур плохой у них хозяин, он не разочтет, что для них полезнее бы было дружить с нами. Вижу его неразумие и готовлюсь. Я говорил князю Ивану Юрьичу, да и тебе, кажется, что не мешало бы послать кого сметливого в Копенгагу под таким образом, как у нас Поппель проживает: пусть, не будучи послом, посольское дело правит. Стен Стуровы замыслы теперь уже для меня не загадка. Лучше нам предупредить их быстрым походом в Гамскую землю, а датскому королю сказать, что мы то в угодность ему чиним, противу врагов его воюем. Теперь тому время. Посылай кого завтра же, только прежде покажи мне посланца…
– Не благоизволит ли твое царское величество отправить туда мистра Леона?
– Этого нельзя! Этот мне нужен и для сына, и для Поппеля…
– Поппелю, – отозвался Патрикеев, – я плохо верю. Что за посол, у которого двое слуг?..
– И двенадцать больших поместий в разных имперских странах. Он в личине странника, зачем ему посольский хвост. Ты, свояк, ничему не веришь; впрочем, я тебя за это и жалую… Я вам скажу, зачем здесь Поппель, вы оба должны знать – ваше то прямое дело; Поппель у нас сватом; меряет, придется ли Елена моя невестой жениху, но жениха, как вижу, не показал; твое дело, Курицын, подсмотреть того жениха: если римский король Максим – чета впору и польза не мнимая… Знаю я нравы западные, там женщины владеют правами, равными с мужчинами; по-человечески – оно и справедливо; на Москве того круто указать нельзя – соблазну будет много; пусть исподволь, если нужно. Изменять отцовских обычаев, безвредных, не хочу и не люблю. Показать открыто Поппелю дочь нельзя, а без того, знаю, жених будет опасаться женитьбы! И тем паче, что Москва для них из-за Польши едва видна; считали нас татарами, а теперь все еще признают нас их данниками, или, как называют по-своему, вассалами. Знаю, что если бы римский король увидал Леночку, то дело бы пошло скоро, но этому быть нельзя; пишут итальянские художники лики женщин, а мне самому такой привезли с Софьи Фоминишны, и лик тот много меня успокоил; к тому же Леночка – дитя; пусть художник при мне и для меня снимет ее образ, вот так разве…
Государь замолчал и задумался.
– Федька, – сказал он наконец, – Поппеля на Москве продержать переговорами, обещать ему, что я допущу его к руке и трапезе, а к императору послать через Датскую землю Юрья Трахонита: он два посольства зараз справит, и казны меньше надо…
– Боюсь, государь… – отозвался Патрикеев.
– Того я и ждал от свояка. Ну, в чем же твой страх?
– Боюсь я греков…
– Не думал я, что и ты, старик, походишь на мою невестку, что сама себе пугалища изобретает. Вы мои верные, старые слуги. Я к вам привык, но если бы я усмотрел в вас крамолу хитрую, то, смотря по вине, лишил бы милости или казнил.
Оба сановника вздрогнули.
– Мы служим тебе попросту, – сказал Патрикеев. – Мы русские, дорогá нам земля Русская и ее славный владыка, а грекам что? Им нужно серебро наше…
– И справедливо, потому что теперь у них своего нет…
– И не русское – всякое, лишь бы чужое, кто больше даст… А ты, государь великий, не возьми во гнев мое слово…
– Ты хочешь сказать, что я скуп; неправда, свояк, – не расточитель, не больше; где надо – дам лишнее, где можно – даю скудно; вот и теперь другу моему Менгли-Гирею пошлю три шубы: меха любит, а таких у него нет, и деньгами один корабельник – у него денег своих много: а из скудного дара хан заключит, что казна моя в нужде, и доброе сердце его дружелюбно затоскует… Я ему посылаю дар великий и дружбе нашей пристойный: посылаю целое царство Болгарское, ведь Мегмет-Аминь ему пасынок…
– Вот, государь, – заметил Патрикеев, – теперь, кажется, можно бы исполнить желание Менгли-Гирея: с дарами этими послать Нордоулата, брата ханского…
– Князь Иван, протри глаза, ты близорук, как Менгли-Гирей. Ни Айдара, ни Нордоулата не отпущу с Москвы: добряки – плохие сердцеведы. Менгли-Гирей пишет мне, что уступит Нордоулату полцарства, – значит, добровольно изгонит себя из другой половины; Нордоулат имеет хорошие качества, но в дружбе неизвестен, а Менгли-Гирей уже испытан. Не позволю другу учинить неразумного дела. Что вредно ему – вредно и мне… Вы знаете оба, как я опасаюсь доброты крымского хана; я принужден читать все его письма, что пишет он к казанским и другим единоверцам… Что-то давно этих писем не было. Вот, свояк, ты говоришь, что я скуп. А зачем мне держать на большом жалованье шестерых ямских приставов на крымской границе?.. Хан думает, что я устроил эти ямы для его удобства, чтобы ему покойнее было с сродниками грамотами меняться, а того и не ведает, что все его грамоты большой круг через Москву делают, пока дойдут до своего места… Доброта Менгли-Гиреева много у меня времени отымает, а время мне дороже денег…
– А кому из бояр твое царское величество повелит с грамотами и дарами ехать? Не укажешь ли князю Василию Иванычу Косому?..
– Моему сыну?.. – с удивлением спросил Патрикеев.
– Когда весть печальная или неважная, – перебил Иоанн, – можно и нужно посылать великое посольство, чтобы блеском и степенью посла придать ничтожному делу значение, но с казанской победой можно послать простого гонца. Впрочем, на этот раз у меня есть особенные послы; ты, Федька, приготовь только сейчас грамоты, а имена я сам впишу, а какие дары – спроси у казначея, я ему дал уже роспись.
Курицын уже шел исполнить приказания, как государь воротил его.
– Федька! Ты имеешь учителей разным языкам; нет ли у тебя кого из светских, кто бы знал твердо язык еврейский?
Курицын невольно вздрогнул. Иоанн заметил это и подозвал его к себе поближе. Вперив в него испытующий взор, Иоанн сказал:
– Давно слышу про тайное зло, которое быстро разливается во многих христианских странах. Зовут его жидовскою кабалою; рассказы очевидцев дивят и ужасают. Говорят, будто кабалой можно закабалить чью хочешь душу, умертвить без ножа и отравы кого пожелаешь, изъять всякий недуг из тела или вложить в него новый. Утверждают, будто те, что заражены кабалою, отрекаются от имени христиан, исповедуют старый закон иудейский; я вижу, что ты ведаешь про эту ересь, но сам не заражен этим злом. Радуйся, что устоял противу соблазна, не то я сжег бы тебя живого… Так нет у тебя такого человека на посольском дворе?..
– Какого, государь?..
– Скоро же ты позабыл, о чем я спрашивал. Вспомни и исполни. Ступай!..
Курицын ушел.
– Ничего! – как будто про себя, сказал Иоанн. – Будет осторожнее. Жаль, если я лишусь такого способного человека! Вот, князь Юван Юрьич, пришли плохие времена. Такая зараза – страшнее моровых поветрий! Прискорбна душа моя… Много тяжких испытаний упало на мою душу, и все вдруг. Тебе одному открою сердце мое, но, князь Иван, гляди, не покриви совестью! Знаю, сколько у меня недоброжелателей, а больно что? То, что никто за ними не смотрит.
Патрикеев встал и с видом упрека спросил:
– Как, государь? Разве мы?..
– Не перебивай меня! Ну, что же ты? Разве ты, например, знаешь, что Казимир выслал ко мне отравителя и что злодей уже третий день в Москве?
– Кто же это?
– Уж не меня бы о том следовало спрашивать. Не ты и не твои ленивые клевреты, а Бог любезной земли нашей сохранит и защитит Иоанна… Я всегда ожидал от Казимира подобного «подвига» и дождался. Но кого послал лукавый сосед, того никто не знает… Не боюсь смерти: она в руках Божьих; от Господа снисходит и ангел жизни, и ангел смерти; боюсь греха тяжкого, боюсь участия брата Андрея. Борис на такой грех не пойдет, но к измене также способен. Разве ты, например, знаешь, что у Бориса в Волоколамске проживает, к общему соблазну, польская боярыня с сыном и дочерью? Когда братья мне изменили и бежали в Литву, Борис жил в поместьях этой боярыни. Теперь затеяли, будто мужа ее посадили в темницу, а он покойно посольствует в Немецкой земле; поместье будто отняли, а боярыня с детьми своими бежала, Борис будто из благодарности принял ее. Князь Иван! Эта женщина – посол Казимиров. Что же ты знал, свояк? Не упрекаю, но надо же подумать, что нам делать. К Успению хочу, пусть соберутся в Москву все родные. Посмотрим, кто приедет. Напиши к великой княгине Анне Васильевне, пусть и она, добрая моя сестра, для вида приедет; а знаешь ли ты еще, князь Иван, что тверской и верейский тайно были в Суздале у брата Андрея и прогостили у него на запасном дворе трое суток?.. То-то же, старик! – гневно заключил Иоанн. – Ты знаешь то, что все знают, а мне и знать бесполезно! Скажи мне еще, князь Иван, какой в Москве завелся нищий или юродивый, что ходит по улицам и Кремль зовет Иерихоном?.. И это не знаешь! Гей, Мамон! Князь Федор!..
Князь Федор Пестрый вошел в палату.
– Что наш юродивый? – спросил государь.
– Бежал в Псков, да за ним посланы надежные сыщики. Как привезут, что повелишь чинить с ним?
– Отослать в кандалах на двор к митрополиту; пусть там сидит до указа… Теперь настает время трудное. Ересь разлилась, а мы с тобой, князь, ничего и не ведали. Тайные жиды имеют в Москве свои притоны, где беседуют и совещаются ночью, а Патрикеев не знает, а Пестрый по ночам не запирает решеток, как я указал. Слышь, Пестрый, теперь уже и не вели на время по улицам запирать рогаток, но в темных местах расставь стражу и засады, чтобы примечали, где ночью бывают скопища, и доложи. Я указал, чтобы кабаки отворять только по воскресеньям, и то после обедни, а на многих улицах каждый день вином торгуют; теперь допусти везде, пусть каждый день пьют, да изволь только слушать, что вино будет рассказывать; а где заслышишь про кабалу или жидовскую ересь, вели тех вести на двор городской исправы. Да и самая-то неправа у тебя не в порядке, но этому я положу скоро конец. Патрикеев, ты наряди двух или трех опытных и надежных дворян, пусть и по Кремлю шарят, не завелась ли где чума. Допрашивать можете всех, кого зазрите, но пытать без моего ведома не велите. Теперь ступайте, я не гневался на вас, но помните, что новое упущение будет гибельно для виновного. Пошлите мне Якова Захарьича и князя Данилу.
Призванные не замедлили войти в палату. Чело Иоанна, дотоле нахмуренное, разгладилось. Боярин Яков Захарьевич Романов был люб Иоанну своим прямодушием, примерной честностью и искренним желанием водворить в России на прочных основаниях единодержавие. Князь Данило Щеня, богатырь, украшенный многими победами, после Холмского справедливо почитался искуснейшим полководцем московским. Иоанн обоим указал сесть, они сели. Государь отер пот с чела и сказал тихо боярину:
– Что слышно о Вятке?
– Я вчера еще докладывал тебе, государь, – сказал Романов, – что дерзкие твои вятские ослушники отуманили воеводу твоего Шестака Кутузова…
– Вятчане богаты, не беднее своих братцев новгородцев.
– Не думаю. Взятки Шестак не возьмет, а на хитрых словах изловить его нетрудно. Я был в Вятке, знаю их лисьи души; а пуще других Иван Оникеев. Этот поумнее, чем Марфа и все Борецкие, о двух личинах ходит. Если есть гости из Москвы, да знатного сана, так поклонами измучит, голова заболит откланиваться; а нет, так не то что в гридне своей – на улицах Москву поносит. А другой крамольник Пахом Лазарев. Этот уже и не хитрит, Москву на убой ругает, говорит, что Новгород ты взял как тать, а что вятчанам то пример и наука, чтобы словам твоим не верили, грамот бы не писали, а снаряжали бы полки; и что если увидят то соседи, на тебя встанут; что у тебя только и войска, что под Казанью, так теперь и пришло время вятскую честь и волю отстоять, не то рассеешь их по лицу земли Русской, как племя жидовское.
– И рассею. Вятская держава дожила до конца своего. Напиши Коробову в Тверь, в Устюг Звенцу, на Двину князю Ивану Лыке, да царю Мегмет-Аминю в Казань тоже, пусть пошлет татар своих; да возьмите отряд Поплева, всего тысяч шестьдесят наберется; начало поручаю тебе, Щеня? Разгроми Вятскую землю, грамот с ними не пиши: покаются от страха, а там опять примутся за старое. Нет, Данило. Город взять, городскую казну и Лазарева да Оникеева забрать и сюда прислать.
– Да уж и третьего злодея, Пашку Богоданщикова: он твоего вятского наместника с крыльца столкнул, из-за него поднялась резня и смута.
– И этого прислать, а горожан расписать и разослать в Боровск, Кременец и Дмитров – там жильцов мало, да так, чтобы в одну ночь разнять змея на части, а не то отчаяние доведет до лишней крови… А в сподручники себе кого похочешь взять?
– Я просил бы Гришку Морозова…
– Быть по-твоему!
– Великий государь, позволь слово молвить.
– Слушаю.
– Вятчан и я знаю. Хлынов взять труда не много, а что до людей, так эта вольница от одного твоего знамени разбежится; а места в той стороне пусты: трудно кормить рать, нарочито великую. Не укажешь ли дружине Поплевой да Двинским полкам…
– Нет! Знаю, что для Вятки эта рать слишком велика, да там есть и земля Арская, и князья арские! С чего они взяли, что Москва не глава всей Руси; ни дани не шлют, ни сами на поклон не ездят, так пришли мне их в цепях, а землю вместе с Вятскою приписать к Москве. Этим годом и покончим. Когда не станет их, полков не распускай, а перейди со всею ратью в Двинскую землю; норови так, чтобы в две-три недели поспеть в землю Гамскую, под Выборг, дальше не ходи. А когда тебе туда идти, пришлю указ. Татар не отпускай в Казань: не надо ей лишней силы…
– По мне, – сказал Яков Захарьич, – и теперь надо было поставить в Казани не царя, а твоего наместника…
– Рано, Яша, рано. Такой казанский царь и без того мой наместник, а между тем мы сделали угодное Менгли-Гирею. Казань по правде наша. Дани не платят, зато дары стоят больше, чем дань; ратными людьми служат мне точно так же, как Тверь и другие города. Что в Твери, тихо?
– Там про своего великого князя Михаила и забыли, а надо бы тебе туда ездить.
– Знаю, надо бы… Да времени нет…
– Всего не переделаешь, а по мне – пока везет, так не худо было бы достроить Русскую твою державу.
– Что ты разумеешь под этим?
– Разумею Псков и Рязань.
– Псков умнее Новгорода и Вятки. Повинуется слепо и рабски воле моей, исполняет свято тягостные указы, часто прихоти; они усерднее москвитян на службе, от них на Москву серебро ручьем льется – зачем иссушать источник? Наше дело не дать их силе окрепнуть; когда истомятся угождать Москве, тогда еще будет время уничтожить вече и переселить граждан, а теперь мне они нужны и против рыцарей. На свой счет немцев в страхе держат. Еще и то возьми в расчет, Яша, что Новгород уже не ганзейский город, хотя Ганза еще там купечествует, но более во Пскове, куда, как слышу, перебираются многие чужеземные купцы; Новгород до конца опустеет; Псков пока мне нужен. Если же я построю город поближе к морю, о чем давно уже гадаю, тогда Пскову конец. А Рязань – удел любимой сестры Анны Васильевны… Пусть себе стоит Рязань… Это – дело моего сердца!..
– Государь, ты так не думал, когда добывал Тверь и уделы братьев твоих. Единство Руси было всегда твоею любимою мыслью. Не из жадности же все добыл ты умом великим!
– Ты прав, Яша; но Рязань что остров на Московском море; кругом наши земли – этого острова нечего опасаться; без смут, без крови сольется он в одну нераздельную державу. Я о Рязани не забочусь, я ее сестре будто на оброк отдал. Нет, Яша, если бы нам удалось вернуть города, что забрали у нас Гедимин, Ольгерд и Витовт? Это нужнее, это и труднее. Тут борьба долгая и упорная. Дай Бог на моем веку добраться до Смоленска, а Ивану моему угладить путь в Киев да в города курские и северские. Вот о чем я мыслю постоянно и прилежно. Об этом поговорить успеем, а теперь, Яша, пошли ты двух размыслов поискуснее, пусть осмотрят поморье в земле Новгородской да поищут, где бы город поставить сподручнее…
– Да об этом не велишь ли сказать Патрикееву? Кажется, это его дело…
– Кажется! Слово твое истинно. Правда, нет устройства в наших приказах, нет порядка между сановниками. Дела однородные в разных руках. Пора заняться этим важным делом. Позовите ко мне Гусева, если он здесь. Яков Захарьич, останься!
На смену князю Даниле вошел дьяк Владимир Гусев и, переступив порог, ударил, в полном смысле, челом государю.
– Здравствуй, Володька! – сказал Иоанн. – Опять с пустыми руками?
– Нет, государь, в сенях твоих оставил я больше ста судных и других грамот.
– Скоро ли ты мне скажешь, что ты собрал все?
– Государь великий, трудно одному управиться. Государи, великие князья, державные твои предки, не на одной Москве уставляли и судили дела судные и земские. И во Владимире, и в Суздале, и в Твери, и в Рязани, даже на Белоозере и Вологде чинили суд и расправу и грамоты записывали; и грамоты в тех городах почиют доселе, а из них многое делу было бы пригодно. Судебник повелениям твоим, великий государь, над всею Русью один стоять должен, а оттого одной стороне будет трудно, а другой льготно.
– Например?
– А вот, например, о полевых пошлинах скажу. Московский подлый народ весь списан и на боярских детей разверстан; знают они земскую и господскую службу и кому на войну идти. Указал ты им, сколько с трех коробей посева платить деньгой и сколько зерном, и казначей твой мне сказывал, что московский люд платит исправно, а в Двинской земле тех полевых пошлин и платить не могут – там денег мало, а прибыток главный не от сохи; а в Пермской земле – еще хуже.
– Пусть закон пока стоит как есть. А ты с казначеем да призови с городов наших приказчиков, или, чтобы от дела их не отнять, пусть пришлют по знающему сборщику, и как все соберутся, так ты полевые и всяческие пошлины и поборы с ними размысли и примерно на вид положи, согласуя подать с произведениями земли и другими источниками прибытка. А что ты сказывал о грамотах, так Яков Захарьевич сегодня же укажет по всем городам обыскать тайники дворцовые и монастырские и на Москву к новому году свезти к тебе, Володьке, на двор. А что до разрядов, то быть тому, Володька, как я уже уставил. На деле мера хвалится. Теперь, с какой стороны война ни загорится, войско на первую нужду местное есть. По этой части разрядным порядком я доволен. Надеюсь, что Холмский, Щеня и Стрига поставят войско в такое устройство, в каком оно у брата Матвея венгерского еще не бывало. Те разряды совсем отставь. Что в Судебник об этом вписать, то тебе Холмский передаст в свое время. А вот, Володька, ты займись другим делом, пока с городов грамоты пришлют. Царство Белой Руси, изволением Господним, разрослось, а дворецкий и весь городской чин стоит по-прежнему, как бывало, на дворах малых и скудных, что государственному величию державы уже непристойно. Ты у Курицына спроси, как тот чин устроен у кесаря, у венгерского, польского королей и у других, и на вид положи сообща с Патрикеевым, Яшей и Курицыным, как быть и нашему государственному чину, дворецкому особо, а городскому особо; и о приказах, которому что ведать, а я рассмотрю и исправлю. И это, Володька, дело спешное. На новый год быть и новому чину. Ступай!
– Бью челом тебе, великий государь, дай слово молвить.
– Говори!
– Многого и в старых, и в твоих грамотах нет; а обычай тому закон, а другое ты на словах уставил, и по глаголу твоему исполняется. Так вносить в Судебник или нет?
– Например?
– Помнить изволишь ли, государь великий, был на Москве знатный боец, из ярославлян; где только поле, его и нанимают. Никто с ним уже и не единоборничал…
– А Могглявич Литвин его хитростью убил… Помню, так что ж?
– Посмотрев на того Литвина, ты, великий государь, соизволил плюнуть и указать: к полю судному своих с чужестранцами не пускать…
– По найму и не пускать, а для Судебника ты все собери, что знаешь, слышал или услышишь.
– Так и про ямы, что ты указал построить для конской гоньбы под послов и гонцов…
– Сказал я тебе: все, а как соберешь, я рассмотрю и исправлю. Ступай, да позови ко мне Юрия Захарьича, если он здесь.
Брат Якова Захарьича, Юрий, хотя и носил звание боярина и дворцового казначея, но в существе он был уже государственным казначеем и управлял всеми доходами и расходами московскими. Он так же точно, как и брат, пользовался особенным доверием государя. Он вошел и по знаку Иоанна сел против брата.
– Я и забыл, дела помешали, а я вам еще не сказал, что Андрей Фомич, как слухи ходили, так и сделал. Сочетался с купчихой Зоей Меотаки законным браком сегодня в ночь. Надо поздравить; вели, Юрий Захарьич, приготовить ему ларец с казной в три тысячи гривен, без печатей, да две шубы: одну, лисью, Андрею да кунью его супруге; да лунскую однорядку с лаловыми пуговками, шелковых тканей и сукна, шесть лошадей да бочку вина, а Зое яхонтовое ожерелье. Станет с него на путевые издержки.
– А с кем укажешь отослать?..
– Вели только приготовить, а посланца я к тебе пришлю. Что, нового у тебя ничего?..
– Ничего такого, что бы стоило твоего внимания. У тебя и без меня много дела. Не смею пустыми делами тебя, государь, утруждать. Но, виноват, забыл, есть одно дело: зодчие твои Марко, да Антон, и Петр говорят, что они теперь все покончили и им нечего строить, потому что палаты твои, что за Благовещенским собором, другой строит. Что укажешь делать этим трем?
– Прах отцов наших покоится в бедной Михайловской церкви – непристойно. Для того думаю воздвигнуть тут же собор во имя архистратига архангела Михаила, пусть составят чертежи и сметы. Скажи им, пусть не скучают; в голове у меня много зданий необходимых, да я на тебя, боярин, оглядываюсь, да на соседей, что грозят войною ежедневной; много, много казны надо. Обнес бы я не Кремль один, а все посады московские стеною каменною с могучими стрельницами, если бы не Казимир, не Стен Стур, да ливонские немцы, да татары, что удалось растворить будто соль в воде, нельзя ей дать осесть… Куда ни глянь, везде большой казны надо… Но все-таки за Архангельский собор пора приниматься… У тебя все художники под рукою; есть у тебя и живописец фряжский Чекол. Пришли его ко мне сегодня после вечерни, когда я в садах ходить буду. А Павлу Фрязину, пушкарю, скажи, что, когда он будет лить большую пушку, пусть даст знать – хочу видеть. Еще тебе забыл сказать, что большое блюдо, которое вырезывал Иван Фрязин, так тонко, что, когда намедни стояло под кушаньем, края обтянуло. Так скажи ему, чтобы другие делал толще да украшал не мальчишками нагими, а цветами, плодами и листьями, а то непристойно. Им, развратникам, нипочем; они у меня в теремах вместо столбиков тоже нагишей болванчиков начертили; хорошо, что я чертеж рассмотрел. Юрий Захарьевич, ты все, что я сказал, исполни, а сам после вечерни тоже ко мне в сады приходи. Гей! Мамон, кто там еще в сенях?








