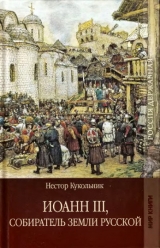
Текст книги "Иоанн III, собиратель земли Русской"
Автор книги: Нестор Кукольник
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
III
СТАРОЕ ПЕПЕЛИЩЕ – НОВЫЕ ТРЕВОГИ!
Не вливают вина нового в мехи ветхи.
Притча
Князь Василий Данилович Холмский опять в Москве, которую не чаял видеть, и в родительском доме, давно им не посещаемом. Ходит он один по пустым истопкам, по сеням – и гул шагов его отдается уныло. Люди заняты на дворе разбором барского скарба дорожного. Только глухо отдаются голоса носящих в подклете тяжелые вязки.
Владелец пустого дома, посидев в терему, где еще по местам на столах стояли братины и стопы после сорочин его матери, прошел в ложницу, где скончался отец. Это был покой в одно окно, самый крайний к соседнему дому. Кровать уже вынесена, а полог камчатный остался одиноким свидетелем прошлого в заветном покое, где увидел свет наш герой. Он сел на холодную лежанку и устремил глаза на полог, за широкими лопастями которого, начиная ходить, бывало, он прятался от няньки, аукаясь с нею, а сам перебегая на другое место. Вдруг раздался какой-то звук, как бы от размахиваемой двери, – полог заколебался, и чьи-то руки размахнули полотнища. Вася глядит и не верит. Перед ним – Зоя. Голос очаровательницы заставил его вздрогнуть и понять, что перед ним не видение, а действительность.
– Ты, кажется, Вася, испугался меня? – говорит деспина, садясь рядом с ним на лежанку.
– Да! Я никак не ожидал с тобой встретиться в Москве, а здесь – и подавно! Как это?
– Приехав сюда, я купила соседний дом с твоим, так что мы ближе, чем можешь представить.
– А я думал, что мы расстались, чтобы не сближаться уже.
– Что с тобою, Вася?
– То, Зоя, что я дал обет Богу бежать… от тебя!.. Грех и преступление – любовь наша!
– Я теперь свободна… Андрея нет… Он уже не топчет землю грешными ногами.
– Но… прошлое ставит между нами стену и пропасть, нас разделяющую. Ее уже не след переходить…
– Ты разлюбил, значит, меня? Я тебе опостылела?
– Нет, Зоя! Если бы ты могла видеть, что у меня в сердце, ты бы не сказала этого… Ты бы… пожалела меня!
– Ничего не понимаю… Ты никогда, значит, не любил меня?.. А я-то, безумная, я-то?! Думала, что он отвечает на страсть мою, что он настолько же мой, насколько я – его!
– Зоя!.. Разве мало, тебе кажется, я наказан от Бога: отца и матери лишился!.. Не мог принять последнего вздоха… усладить их предсмертной муки… получить благословение?! Я все равно что проклятый остаюсь на земле. Мне ли думать о сладостях, о взаимности?.. И ты беги от меня, если не хочешь испытать на себе кару небесную!
Глаза его горели, но смертная бледность и холод покрывали его изможденное лицо.
– Ты просто с ума сбрел или прикидываешься больным и исступленным! Эк тебя нашколила полька-то твоя непутная! Недаром ты так долго и пропадал у нее… Господь с тобой, когда хочешь меня оттолкнуть теперь, я не хочу тебе быть в тягость… ухожу…
И, горько рыдая, красавица скрылась за покрывалом полога. Новое веянье его возвестило вход Зои к себе в терем, недавно еще так занимавший вторичную вдову, а теперь представившийся ей могилою. Унижение отверженной любви вылилось потоками горьких слез. За ними последовало тягостное раздумье: что дальше еще пошлет судьба, не много радостей назначившая ей на долю до сих пор?
Докладывают о посещении Ласкира.
Красавец Дмитрий Ласкир был, как мы уже знаем из начала нашего рассказа, страстно влюблен во вдову Меотаки раньше князя Васи, соученика его у грека Мефодия. Весь пыл неразделяемой страсти вспыхнул у Дмитрия, когда узнал он, что предмет его хотя детской, но глубокой привязанности снова в Москве и что красавица – свободна. Зоя после слез, грустная и сосредоточенная, на пылкого молодого человека произвела тем сильнейшее впечатление, чем меньше занималась им. Он разливался в бурных потоках изъявления своей нежности. Она наполовину слышала, наполовину пропускала мимо ушей слова, звучавшие неподдельным чувством. Ей было не до того, чтобы спорить с восторженным обожателем. А он ее терпеливое выслушивание своего объяснения принял за соизволение и сочувствие к себе.
Что отнюдь не это совершается в душе деспины, невольный и невидимый свидетель страстной сцены, понимала пригретая Зоею Василиса. Она сама вздыхала, считая затаиваемые, но для нее слышные вздохи сильно страждущей, теперь к ней очень близкой, благодетельницы.
– Ну, слава богу!.. Теперь она, бедная, может хоть выплакаться вволю! – высказалась гадальщица, когда счастливый и не чуявший земли под собою выкатился от очаровательной вдовы молодой Ласкир.
Приятельницы, обе молодые и понимавшие силу страсти, сошлись и наплакались вдоволь. Слезы успокоили мало-помалу в сердце их поднимавшуюся бурю.
Переполох приготовлялся и в центре столичного движения, во дворце государевом. По чинам садились заслуженные высокостепенные члены боярской думы. Большая часть сановников были, конечно, седовласые, убеленные и изможденные борьбою с прихотливым счастьем, по капризу, а отнюдь не по достоинству рассыпающим саны и титла. Не только сам Иван Юрьевич поседел и совсем переменился в короткое время от постоянного беспокойства; не только потеряли последний блеск глаза доблестных вождей Иоанновых – Якова Захарьича и князя Даниила Щени, но даже и Косой, князь Василий Иванович, щеголяет серебром в своих рыжих волосах, не завивающихся в кудри. На лицах всех почти думских советников видна глубокая кручина. Патрикеевцы видимо сторонятся и вешают головы, уступая место и почет Беклемишевым, Траханиоту и Ласкирям. Князь Семен Иванович Ряполовский особенно грустен. Утром государь совсем нежданно-негаданно вздумал осматривать его наряд воинский и нашел столько неисправностей в самопалах самых и в сбруе; и на людях заметил недосужливость да и непригонку кафтанов. Горько упрекая за это главного воеводу-распорядителя, государь выразился, что он не потерпит, чтобы с таким небреженьем делалось важное служебное дело!
– И но, за одни бабьи угожденья да за всякие теремные безобразья будет тебе, Сенька, не сносити головы как пить дать! – И сам затрясся от гнева. А закончив громовые укоризны, державный так ударил об пол посохом, что железный наконечник его вонзился вершка на три в здоровую сосновую пластину и стержень посоха разлетелся в куски. Настолько гневным не видели Ивана Васильевича и в тот день, как посылал он под топор Стромилу с его крамольниками.
Вот растворились двери со стороны рабочей государевой палаты, и – Иоанн показался.
– Князья и бояре! – воскликнул государь, входя в думу, но не садясь на свое место. – Я призвал вас обдумать и порассудить: есть ли выгода да гоже ли нам заключать союз с салтаном шемахинским, с Махмудом, внуком Ширван-хановым? Обсудите и скажите – прежде чем допустим мы посланца его перед наши светлые очи! Взвесьте выгоды и невыгоды от этого союза: коли заключить дружбу, может он от нас потребовать помощь оружием? Стоит ли нам связываться условиями такими из-за выгод торговли? Да велика ли и важна ли для нас эта торговля? Решите же по совести и по крайнему разумению вашему. Надеюсь, что тут личных сметок (и сам значительно при этом взглянул на патрикеевцев, сплотившихся вокруг Ивана Юрьевича) да и перекоров взаимных будет не из чего вам поднимать? – промолвил государь, глядя на Щеню и Якова Захарьича, отчего-то при словах державного потупившихся. – Судите же и рядите, как довлеет мужам разумным и опытным!
И исчез сам да с силою запер двери в думу, оставив советников своих теряться в море догадок: к чему этот наказ, полный как будто упрека?
Пока советуются думные люди, внимая чтению запросной отписки выборных гостиной сотни, государь воротился в свою рабочую и велел позвать князя Василья Холмского, внезапно вызванного державным в столицу.
Когда вошел молодой посол и воевода, Иван Васильевич сам сделал шаг к нему навстречу – редкая честь, которой удостаивался не всякий и заслуженный боярин.
– Князь Василий Данилыч, я обязан тебе жизнью и доволен остаюсь верною службою твоею, что ты, не щадя живота для нас и трудяся неусыпно, послужил нам, великому государю, по присяге и по душе. Здрав буди! А от нас, великого государя, забвен не останешься. Родитель твой волею Божиею призван к вечному животу, и тебя, нашего любимого, оставил нам, государю своему, на наше попеченье; и то мы николи не забудем. Да и матушки твоей забот о чадах наших також из памяти николи не утеряем. И на всем на том, перед тобою останемся мы должником с лихвою, хотя воздати… во благо время. А ты буди надежен на нашу милость: ни на ково тебя мы не променяем. Сядь! Поговорим по душе. Рассказывай по ряду… все, что тебе молвил свойственник наш Стефан-воевода… Какие непорядки в Угорской земле ты заприметил?.. Что набедокурил шуринок наш, не тем будь помянут, напоследях?.. И про Лукомского… И про новгородский поход к свеям… Все поведай – мы послушаем!..
Вася принялся рассказывать, конечно, с большею подробностью, но все, что мы уже знаем. Потому повторять его, во всяком случае интересного для государя, личного пересказа не будем, ограничась только несколькими замечаниями о впечатлении того либо другого эпизода на Ивана Васильевича, выслушивавшего все с напряженным вниманием. Когда же дело дошло до поступка Максимова – Иоанн привскочил даже с места.
– Да зачем ты не сковал этова безобразника, меня позорящева… в лице посла моево?
– Государь, покойник Никитин ево под стражу велел отвесть, но Иван взмолился, и я отпустил ему ево грубость и невежество. Буди милостив, не карай ево за прощенное.
– Червь!.. От удавки выскользнул да новые ковы начинает?! Ну да… Бог с ним, коли ты прощаешь… Ин, быть до другой вины: тогды прикинем все воедино!
Но повести об открытии злодейства ляхов, подославших Лукомского, государь только дивился благости провидения, спасающего своих избранников путями неведомыми. Наивный же рассказ очевидца Васи о неуспехах подвигов войск со свейскими силами из-за лишений всякого рода, при трудностях, неразлучных с недостатком наряда самопального, распрями воевод и бездействием московского управления, не внимавшего жалобам и требованиям ратных людей, взорвал наконец гнев долго сдерживавшегося государя.
– Крамольники все меня окружают… Кровопийцы! Передо мною рассыпаются в преданности, а пальцем ни один не двинет, чтобы послужить делу, на которое я посылаю бедных людей, истинных мучеников за веру христианскую и за наше спокойство! Стойте же вы, лицемеры, я сорву с вас ваши дьявольские обличил: искореню вконец хищенья и подкапыванья ваши друг под друга – трепещите!..
И, почти не владея собой, Иоанн стремительно направился в думу, вяло обсуждавшую незнакомое, чуждое ей дело, не доведя и до половины его.
– Ну, бояре, что скажете мне хорошего, ужо я послушаю вас, умников? – сильным голосом, в котором звучала ирония, крикнул Иоанн, садясь на свое место под сенью. – Ну, что ты думаешь, Иван Юрьевич?
– Мы, государь, не пришли еще к заключению; но, как видно по смыслу сказок гостиных людей, солтан этот вред большой может нанести торгу, значит, задобрить его и поважать не мешало бы…
– Я не о том велел думе входить в рассуждение! Мое дело, как поступать, а ваше дело показать мне: какая корысть нам на Москве от шемахинскова торга? Так скажи мне, примерно на сколько наши там получают да своего сбывают?
– Доподлинно не могу выложить; а не на одну тьму московок, кажись, доходит оборот.
– Дьяк думный, правду ли говорит дворецкий?
– Нет, государь, до тьмы не доходит, потому что все на менок… Да и народ-от не таков, чтобы забрал много.
– Так ты, Иван Юрьевич, по своему обыкновенью, как привык мне выставлять все наоборот, и теперь также думаешь, что я поверю?.. Ошибся, князь; я раньше тебя уже знал, в чем суть дела. Я вас, крамольников, для виду собрал, чтобы доподлинно убедиться мне: насколько вы входите в подлинный смысл дела нашего да норовите государю своему по присяжной должности. Советы твои я давно знал, что не стоят выеденного яйца. Я давно знал, что ты продажен и хвалишь то, где тебе бы что перепало. И теперь я узнал, еще севодни утром, как посланец Махмутов привел на твою конюшню степного аргамака с серебряными подковами. Вот чем и перевесил он тебя на сторону своего повелителя, тяготу выгод, в ущерб нашим! Лицемер! Не хитрить бы тебе теперь-от, когда давно уж я изверился и сам за тобой наблюдаю. Косой, сынок, в тебя! Дерет взятки с моих приказчиков черноволостных за то, чтобы не допытываться правды в их кривых, хитрых счетах. Князь Семен Ряполовский жалованье наше берет, а дела не делает! С бабой возится, а наряду не бережет. Люди в Водской пятине зерна, зелья не имеют для ручных самопалов, а зелье самопальное у ево на Москве сыреет да мокнет от недосмотра. И то нам не корысть. И то нам гибель людская без пользы, врагам в посмеяние. А вы, крамольники, знай бражничаете, брюхи отращиваете да хлеб земской иждиваете вотще. Теперь я положу конец вашей потехе. Самсон Тимофеев!
– Здесь! – рявкнул знакомый нам великан, сегодня повышенный в головы московского полка дворянского и в начальники дворцовой кремлевской внутренней стражи. – Убери мне сейчас князей Патрикеевых, отца с сыном, Семена Ряполовского да из девяти десятого возьми из челяди невестушки моей, Алены прекрасной!.. Бери их, крамольников, да стереги пуще своево ока этих дорогих мне сродников. Много и из вас… остальных, думские люди, достойны опалы нашей, но мы, великий государь, желая показать над вами меру нашево долготерпения, покамест оставляем вас исправляться, кто может. А кто не сроден к исправлению, покопит пусть новых неправд, дондеже взыщет наш праведный суд слезы притесняемых с неправедных приставников, – ступайте!
И величественным мановением руки указал двери.
IV
ПРИМИРЕНИЕ
Несть дражайшая сладость, паче мира и любви к присным твоим.
Стремительный выход из рабочей государя оставил, как мы видели, князя Василия на месте, там же в палате, крепко запертой сильным размахом руки Иоанна. Не зная, уходить ли ему или дождаться возвращения монарха, князь Вася остался посреди комнаты, в нерешимости смотря на дверь. Вдруг слышит он, входят с противной стороны и нежно так называют его по имени. Он оборачивается. В слезах, но не горьких, а каких-то торжественных, благодарных, теплых и восторженных, бросается к нему в объятия княжна Федосья Ивановна, уже совсем развившаяся из ребенка в девушку. Полная приятности, она сохранила ту же былую наивность, с которою высказывала все, что начинало волновать ее теплое сердце.
– Васенька, голубчик мой, чем мне благодарить тебя за то, что ты спас батюшку! Всю жизнь готова я служить тебе рабски за эту великую твою услугу. Дай расцеловать тебя, ненаглядный мой! Ты похудел, Вася, но ты тот же добрый наш Вася, с которым мы игрывали при няне, княгине Авдотье Кирилловне. Нет ее, моей голубушки!.. Много она плакала о тебе, Вася… и мы с нею. И маменька плакала… Кабы ты знал, Вася… что у нас сделалось? Маменька заперта; батюшка прогневался на Васю-брата за то, что Стромилка, негодяй, подбил ево ехать на Вологду… бунтовать, говорят бояре… Послушай, скажи, Вася, что это за слово «бунтовать»? Это нехорошо?.. Коли батюшка прогневался так и на матушку… держат в терему, взаперти, никово не пускают… и меня даже… Вася наш бедный сидит на казенном дворе… за приставы, говорят. Вот что, голубчик Вася, у нас подеялось! Много всяких чужих людей к нам навели в терем… Как я рада, что тебя вижу… И батюшка к тебе милостив… может… Бог даст, опять мы будем вместе все, дорогой Васенька… и матушка… и Вася-брат.
И повисла на шее старого друга, с которым выросла в тереме, за восемь лет разлуки сохранив к нему теплоту чувства, воспринятого незаметно, но окрепшего в долгие годы удаления. Тогда имя Васи не сходило с уст и княжон, и княгини великой, вторя понятным, всеми ими разделяемым ощущениям да тоске грустной матери далекого изгнанника.
Княжна Федосья Ивановна, вся предавшись теплому чувству приязни к явившемуся неожиданно участнику детских игр, увлекла и его своим восторженным пылом до полного забвения условий этикета. Ни князь Холмский, ни дочь Иоанна не думали нисколько, чтобы в их задушевной беседе и дружеских ласках было что-либо подлежащее неодобрению. Тем более им в голову не могли прийти гневные упреки, обрушившиеся над головами счастливцев, предавшихся чистой радости свидания, для обоих, как оказалось, имевшего одинаковую цену.
– Что это? – загремел над ушами Васи и Фени грозный вопрос государя, когда, войдя в свою рабочую, он увидел дочь свою, дружески обнимавшую молодого посла-воеводу.
Молодые люди вскочили с места, но руки их по-прежнему крепко сплелись взаимно на шее друг у друга.
– Федосья! В моем присутствии… Василий? – еще более гневно крикнул князь великий озадаченным друзьям детства. – Как смел ты посягнуть на это, нечестивец?! – гремел Иоанн, тряся Холмского и стараясь оторвать из рук его руки княжны Федосьи, крепко державшиеся за приезжего.
– Я, государь, – робко отозвался Холмский, все еще не понимая вины своей и гнева великого князя, – н-не п-по-ся-гал, кажется, н-ни на что!
– А это? – тряся руками дочери перед лицом его, спрашивает государь. – Это что?
– Это я, батюшка, сперва обняла Васю! – наивно и не робко отвечает княжна Федосья Ивановна. – Мы с ним, бог весть, как давно не виделись… Он дикой такой стал.
Иван Васильевич отпрянул от детей в свою очередь и остался, сбираясь с мыслями.
Ответ княжны Федосьи открыл ему глаза. Он понял, что не было резона так вспылить. Что слово «нечестивец!» не имело места там, где не существовало никакого позорящего обстоятельства. И что, возвращайся он менее воспаленным предыдущею сценою с людьми, действительно совершавшими неправды, он сам не представил бы себе тут ничего иного, кроме естественного проявления отрадного чувства, гнать которое не входило даже и в расчеты его политики. Светлый ум мгновенно сообразил несоответственность грозы, здесь особенно. И, приучившись сдерживать порывы страсти разумною волею, Иоанн, после минутного молчания, просветлел. Вот он старается дать оборот грозной вспышке, если не совсем шуточный, но настолько милостивый, чтобы в нем можно было видеть нравственную цель необходимости пожурить: за выход не вовремя девушки и забвение служебной роли со стороны сановника, не кончившего своей обязанности, для которой призван он к государю.
– Это не оправдание князю Василью, – сказал государь строго, но видимо смягчая голос свой, – что ты его обнимаешь. Когда здесь, он не Вася – теремный ваш, – а слуга своего государя, приказавшего ему ждать своего возвращения, зане делу еще не конец!
– Виноват, государь, – поникнув головою и становясь на колени, отозвался почтительно молодой воевода, – не повели казнить, а отпусти ради беспредельной милости твоей вину мою, непростимую… от забвения.
– То-то, от забвения?! Охотно прощаю: повинную голову меч не сечет. Только ты у меня впредь не забывай дела думского и не сваливай вины на жену, что задержала, мол, дома баснями да сказками. Ты как думаешь, Феня? Простить его за тебя?
– Прости, батюшка мой родной, я тебе ручки перецелую: я одна виновата!
– Принимаем: будь же и ответчица! Князь Василий, ввела она тебя во искушенье своим здорованьем: и – бери ее себе! А от нас, за провинность дочери нашея… княжны Федосьи… Давай руку правую!.. Вот так (и сам соединил их руки взаимно). Быть тебе боярином в думе нашей! Вот что ты сделала, щебетунья, не к сроку подсунувшись со своим здорованьем! – заключил государь, шутливо целуя дочь. – Поцелуемся, Вася!
Холмский робко подошел и получил лобзанье Иоанна.
– А на радостях простим вся прегрешения! Феня, бери жениха за руку и иди к матери: скажи, что зову ее к нам, великому государю, благословить вместе… вас, детей наших! Ступайте, – и указал им рукою в сторону терема великой княгини Софьи.
Просветлевший отец остался на пороге, смотря вслед за удалявшеюся парою. Сердце у него билось теперь сильно, но отрадно, не болезненно.
В то мгновение, когда призванный с ключами великан Самсон, уже рассадивший по казенкам своих недавних патронов, отмыкал тяжелый замок на дверях терема великой княгини со стороны теплых сеней государевых, Иван Васильевич получил разом две вести: донесение Мамона о возвращении из Литвы и приезде посла.
В душе великого политика при чтении правдивого донесения слуги его восстала новая буря гнева, но, сложив отписку, он сумел скрыть горе от возвращавшейся с половины матери счастливой четы. А прибытие посла казалось политику новою кознию зятя.
Отдав приказ собрать на утро думу, государь пошел навстречу торжественно шествовавшей на зов его, украшенной всем блеском уборов, великой княгине Софье Фоминишне.
Подойдя к мужу, Софья хотела склониться перед ним – он не допустил. Взял ее за руку и только промолвил:
– О прошлом – ни слова!
– А Вася, сын-то наш? – со слезами проговорила великая княгиня.
– Самсон Тимофеев! Выпустить сына нашего князя Василья Ивановича, да пусть в терему уберется, но приличнее… и, как довлеет князю… явится на прощенной пир к нам, великому государю родителю.
Сцену примирения предоставляем представить себе читателям.
Наступило следующее утро, и собрались члены думы на постельное крыльцо палат государевых. В очах у всех почти сановников выражалось смятение. Оно еще более увеличилось, когда вошел Иоанн под руку с сыном Василием. Смертная бледность разлилась по лицам патрикеевцев, как известно принимавших главное участие в раскрытии интриги, стоившей головы советникам старшего сына государева. Впрочем, и сам Иоанн и прощенный сын его казались веселыми, довольными и отнюдь не гневными.
В должность дворецкого определен боярин Яковлев, распорядившийся раскрытием дверей в палату для впуска членов; он, царедворец опытный в разумении дворских тайн, прошел на половину княжича Василия и, взяв за руку беседовавшего с другом детства князя Василия Холмского, ввел его в думу, принеся поздравление с возведением в боярство. Для прочих членов думы и внезапность возвышения Васи, и это чуть не раболепное поздравление нового дворецкого отзывались чем-то обидным, словно вызывающим укоризны маститым советникам.
– Ох!.. Стары, слабы стали – умирать пора нам, старикам! – вполголоса, садясь на свое место, не без горечи вымолвил соседу хитрец Сабуров.
Сосед его, Русалка, только заморгал своими свинцовыми маленькими глазками, ничего не сказав, но думая: мошенник ты, думаешь, я поверю твоему невзгодью? Ведь понимаем, на что ты вызываешь нашего брата. Да мы ведь не совсем олухи, слава те Господи, не ловимся на такую нехитрую удочку.
И Русалка был совсем прав, так думая о своем товарище, вызывавшем на откровенность. Она могла погубить неосторожного и доверчивого. Еще темно было, как честолюбец Сабуров приехал в город к утрене: будто службы не было в приходе? Встал на лесенке Сретенского собора и начал издавать стоны да класть поклоны земные. Дворцовая прислуга, наполнявшая церковь, дивовалась даже такой горячности обращения к вере боярина. Простаки подумали, может, что Сабуров сбирается сегодня проситься на обещанье у гневного государя. Но только окончилась служба, как этот же покаянный грешник пробрался к терему князя Василия Ивановича и щедрым дождем московок купил у прислуги лестное право – обуть чулочки на государские ножки княжича, выпущенного на волю и, ясно, более сильного, чем прежде. Мало того, увидав, что на постели против Василия Ивановича спит какой-то детина молодой, а приветливый княжич, будя его, назвал раза два братом, сообразительный Сабуров поспел и ему привет сказать, когда при пробужденье чихнуть изволил спросонья этот названый братец сына государева. Новый посев московок из мошны боярской открыл, что братцем возвеличал князь Василий Иванович недавно ненавистного Сабурову Ваську Холмского. Но это открытие не охладило теперь усердия искателя за ним ухаживать. От истопника верхних сеней государевых Сабуров получил удостоверение, что государь сам трижды возвеличить изволил того самого Ваську – сынком своим, за ужином посадил его за одним столом с собою в тереме подле княжны Федосьи.
– Эвона, куда хватил! Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!.. – произнес набожный боярин Сабуров и зачитал скороговоркою: – Помилуй, Господи, раба твоего князя Василия… помяни, Господи, раба твоего князя Даниила, княгиню Василису, Татьяну и всех сродников их. Добрейшие люди были.
Добравшись таким путем узнания тайны, еще известной немногим боярам, низкопоклонный, для кого следовало, и внимательный к действиям тех, кому предстояло возвышение, Сабуров неприметно выкатился из опочивальни сына государева. Он сумел и вовремя представиться великой княгине Софье Фоминишне, вручив ей данную ему на благословенье благовещенским ключарем на дороге просвирку.
Подавая освященный хлеб, придворный царедворец нашел себя в состоянии точить слезные потоки, всхлипывать и уверять великую княгиню, что у него все дни минувшей счастливо теперь опалы государя на хозяюшку свою начинались и оканчивались слезами от душевной туги и боли безмерной… Много и другого, настолько же чувствительного и трогательного, наговорил достойный Сабуров государыне, разливаясь перед нею в выражении глубочайшей преданности.
Ну как такому мученику преданности отказать в сладчайшем наслаждении, по его словам, облобызать государскую ручку?
Всякий со стороны подумал бы, что это мучится кающийся за тяжкий грех вольного или невольного предательства. И знавший степень участия в оплакиваемой им опале, конечно лисичьим манером всегда маскированной, – мог бы, без натяжек, допустить в боярине пробуждение совести, если бы таковая находилась у него.
Сделав эти обходы и заручившись преданностью новым силам, вчера еще не принимавшимся в расчет, Сабуров направился на постельное крыльцо и вошел вслед за другими в думу.
Маневр относительно Русалки сделал достойный сановник без всяких дальних расчетов, а единственно для испытания почвы.
Что будет? По тону ответа можно было слова друга сердечного или принять к личному сведению, или довести до ушей кого следовало. На этот раз, как мы видели, уда брошена была неудачно и в том только отношении принесла пользу Сабурову, что он сам встал в оборонительную позу, на всякий случай.
Со входом государя с сыном и с указанием дворецким места молодому Холмскому с края, на правой передней лавке, в трех шагах от трона, водворилось мертвое молчание в палате. Из бояр никто не садился, ожидая знака.
Государь, сам о чем-то задумавшись, простоял несколько мгновений и потом простер руку, указывая, чтоб садились.
Опять еще большая тишина и сосредоточенность. Слух всех страшно напряжен ожиданием: что будет?
– Я собрал вас, бояре, – начал кротко и медленно Иоанн (и при первых звуках государева голоса у всех отлегло от сердца), – посоветоваться: что делать нам… с зятем-недругом… Мамон пишет, что все, что доходило до ушей наших о притеснениях дочери нашей, великой княгини Елены Ивановны, мужем Олександром Казимировичем, – истина святая? Что он, великий князь Олександр Литовской, дочерь нашу, жену свою, в нелюбии крайнем держит. Веру нашу правити ей не соизволяет; панов и паней нашего греческова закона держати при себе ей не дает. Священника нашево православнова не допускати до княгини великой своей повелевает. Церкви наша строити не попускает и во всех наших, великого государя, делах, нами ей, дочери нашей, наказанных, шкоды чинит с препятием. Да еще нам, великому государю, и насмешки на письме со укоры посылает, будто мы вас, слуг наших верных, не обуздываем… И вы будто, бояре и дворяне, промежду мною, тестем, да им, зятем моим, рознь и ворожду разжигаете. И в том на вас, на слуг моих, взводит он напраслину. Мы и без вас зело добре сведомы про порядки непутные на Литве! И без переезжих князей и бояр знаем мы, как русская вера римским попам не люба. Ведаем, что привилей дан зятем нашим Иосифу – епископу смоленскому, нарицая ево на митрополью киевскую, тоже неспроста. Великие князи литовские папскова закону как стали держатца, так нашим духовным грецким восточным свою ласку ни с тово ни с сево не показывали. Стало быть, то, о чем нам писал Мамон, как владыку Иосифа этова прельстили честью – да он сам стал поважати папскому делу, – за привилеем Олександровым, само по себе в ум приходит. – Иоанн замолчал и задумался.
– Да, затяюшко наш кривды на нас насчитывает, а уряженова титла в грамотах писати отлагает, опять же, до конца, какой-те межа нами распри. А распри я, князь великий, с Олександром не имею, како ведомо вам, бояре, и самим не хуже нас. Стало, князь великий литовский шкоду чинит нам беспричинно и нас, великова государя, умаленьем титлы бесчестит! Да ащо послов засылат: нам все то всказати из уст с укоры. И то чинит он не гораздо! А он же, князь великий литовский, дочерь нашу, как Мамон-самовидец нам, великому государю, отписал трижды, держит нелюбовным обычаем; не так, как говорилось нашими бояры с ихными послы. И ссылается князь великий, зять наш, на то, што, мол, не все записано было по статьям, а што записано, он, мол, держит право и твердо. И то (Александр молвит лестью! Сами вы, думные люди, со послы говорили, чтобы наша княгиня Олена веры нашея священника крестовова имела бы при себе невозбранно. И тому бы попу ходити до нея препятства не было. И церковь бы в палатах у княгини великой была наша же, крестовая. Супроти тово строити крестову церковь зять наш медлит. Попа крестовова ко Олене не пускают; боярынь русскова закону ей не дают, нож и панов во двор, а поставил при ей, при Олене, панов и паней папских. И все то чинено нам на укоризну, а не в любленье! Злобу же имеет зять наш на нас, великова государя, опять же неразумно! Коли стал он нудити в свой, в папский закон, нашево закону князей служилых, искони православье державших, они, князья, люди вольные и отъехати, к кому похотят, могут по старине, по обычаю. И наши братья, князи удельные, в Литву поотъезжали же, и тамо их князь великий к собе приимал. Стало, и нам князей Хотетовских, как и князя же Бельскова, прияти было мочно. Тож и бояра Мченески! А каждому из них доступати своего добра опять же мы помехи чинити не можем. Сам за ся ответчик. А военным обычаем котору и распрю с зятем с нашим, с князем великим литовским, мы не вчинали никоимы делы! И коли злобу свою зять наш на нас не отложит, дочери нашей претити веру грецкую держати не престанет, как по Любови да по душе довлеет; да нас унижати титлом нашим государским от своево льстивова неладнова обычая не уймется, – ино нам, великому государю, правды своея вздобывати… Како, мнят думские люди, было бы здеся сотворити изряднее, вы нам вскажите? Твой смысл, дворецкой, каков?








