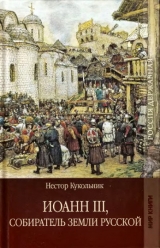
Текст книги "Иоанн III, собиратель земли Русской"
Автор книги: Нестор Кукольник
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)
Никитин в это время вздохнул, как бы приходя в себя. Деспот сомнительно покачал головою и приветливо подал руку Холмскому, как будто ничего между ними не было.
– Что старого друга не навестишь, князь Василий Данилович? Мы скучаем… без тебя, – добавил он несколько сухо, но приветливо.
Вася посмотрел на него недоверчиво. Деспот, подмигнув как-то дружески и давая руку, уверял, что соскучился по молодому князю, взяв слово заходить к ним непременно, и – вышел. Воевода посидел молча еще с полчаса, говоря мало и сам все посматривая на Никитина. Вот он встал, перекрестил больного, помолился на иконы и оставил грустного Васю, обещав прислать испытанного знахаря недугов.
Прошло еще несколько времени; Афанасий успел наконец собрать свои силы. Приподнялся, велел Васе позвать священника и твердо заявил юноше:
– Не горюй обо мне, а я вижу, что… умираю! Вася!.. Пока жил я с тобою, – начал он едва слышно и с трудом переводя дыхание, – я не рассказывал тебе секретного наказа царя Ивана: воля его – держать тебя в чужой земле подольше… пока не вызовет тебя сам он, державный… Ведай это… и… прими свои меры… Он подозревает тебя в любви к своей дочери… княжне… но к которой, я не узнал. А подозрение это верно. Вот и цель твоего посольства в чужие земли! Ох… жжет в груди!.. Близок мой конец… Батюшку! – и больной заметался.
Вошел священник, и все оставили отходящего из этого мира с духовным утешителем. Перед Васею все сделалось ясным. Через несколько минут священник вышел, и в глазах служителя алтаря несчастный юноша прочел, что руководителя его уже нет на этом свете. Он бросился на прах Никитина и рыдал как ребенок, чувствуя свое одиночество. Мало-помалу слезы привели успокоение. Молодому князю пришли на память внушения умершего друга помедлить решительным ответом князю Очатовскому ввиду невозможности увидеть скоро родину. Вася перебрал в уме своем все обстоятельства знакомства с княжною и особенно сцены своего прощания. Ему показалось теперь, что, отталкивая от себя так холодно бедняжку, он, чего доброго, разрушал сам достававшееся счастье, манившее его приветливо в свои теплые объятия. Если бы княжна была здесь, кто знает, не нашел ли бы юноша в откровенном объяснении с нею решение дальнейшей судьбы своей? Но снова перед памятью сердца, рисующей бывшую невольницу полною страсти к одинокому, брошенному в чужбине юноше, возник знакомый образ, принявший мгновенно формы утешительницы Зои. И то была не мечта распаленного воображения, а сама деспина, пришедшая, не скрываясь, в жилище послов с мужем, деспотом Андреем, при вести о кончине благодушного посла, путешествователя в Индию.
Рука Васи очутилась в руках Зои, и он поднял голову, долго не приходя, однако, в полное сознание: спит он или бодрствует?
Отрезвили юношу окончательно приказы деспота (принявшего на себя роль распорядителя похорон) о выносе обмытого тела в ту комнату, где находились убитый горем Холмский и его бескорыстно преданная утешительница.
Наутро явился чуть свет переходивший из одной крайности в другую, как все нервные и слабохарактерные люди, теперь струсивший при неудаче Максимов. Поклонясь трижды в землю телу Никитина, он отвесил низкий поклон и предмету своей, мнимо непримиримой, ненависти, князю Васе. Тот, разумеется, ответил нехотя на поклон, изумленный появлением врага. Удивление его дошло, впрочем, до крайних пределов, когда человек, незадолго заявлявший, что их разделит и примирит одна могила, падает на колени перед ним и униженно, жалобно умоляет:
– Прости, княже милостивый, дурость мою предерзкую, ради Христа Господа и здравия ради родительницы твоей.
– Иван Максимыч! – отвечает тронутый грустный юноша. – Если ты помянул матушку мою и призываешь ее в свидетельницы своего раскаяния, Господь тебя простит. Я неспособен зло долго помнить.
Максимов вышел повеселелый и успокоенный. Чтобы получить разгадку этого крутого поворота, считаем нужным заметить, что накануне Максимову прислал цидулу Косой с требованием объяснений на разные недочеты по хозяйству княгини Елены Степановны, и боязнь ответственности и розыска заставили труса, по чувству самохранения, обмануть Холмского притворным раскаянием. «Теперь же он один посол – может и в казенку меня упрятать да скованного послать на Москву. А там уж явно Косой с Патрикеевым очернят меня больше, и – погиб человек. А Васька недалек. Повинюсь и – разжалоблю. Да еще, коли пойдет на то, заступу в нем найдем».
Расчет оказался верным, и дела Холмского пришли с обеих сторон в порядок.
VI
ДВОЙНАЯ ИГРА ВНИЧЬЮ
Хоть наше бывало,
да долго плутало,
а к нам не попало.
Пиши, что пропало!
Пословица
Теряя друга – пестуна, данного случаем, Вася не знал еще всей глубины своего несчастья. В Москве в это время навеки смежил вежды, утомленные трудами, доблестный отец его.
В обширном тереме горят погребальные свечи. Монотонное чтение Евангелия дьяконом тяжело отдается в ушах княгини Авдотьи Кирилловны. А как переменилась кроткая страдалица, княгиня, со времени разлуки с сыном?
Не проходило дня, чтобы не плакала она, вставая с жесткого ложа и отходя ко сну в молитве, не стирала случайных слезинок, прося Создателя уберечь ее Васю от всякой напасти. Чуть не внезапная кончина мужа на руках ее перелила через край чашу горести молчаливой страдалицы, физические силы оставили ее, и внезапный обморок погрузил княгиню в беспамятье.
Вдруг унылый, грустный, сам как привидение, неслышным шагом вошел Иоанн в храмину усопшего друга-слуги своего. Знаком руки он велел удалиться читавшему Псалтырь дьякону. Совершив земное поклонение перед телом, государь в немой печали склонился на грудь навеки уснувшего воителя. Приложившись затем к образку, лежавшему на персях у покойника, Иоанн взглянул как-то робко в лицо ему.
Восковой грозный лик мертвого князя, на котором застыла тяжелая дума и что-то вроде неясного ощущения предсмертной муки, мгновенно остановил на себе взгляд впечатлительного и, вероятно, уже болезненно настроенного Иоанна.
– Ты, друг, упрекаешь меня за удаление сына? – невольно сорвалось с уст содрогнувшегося политика. – Прости!.. В горних селениях ты узнаешь, что сын твой для меня так же дорог, как мои собственные дети. Теперь нельзя только мне призвать его… Я лишаю его сладости в последний раз проститься с тобою, но… – и, махнув рукою, умолк монарх. Садясь на лавку и ощупывая на ней место, коснулся он холодной как лед руки княгини Авдотьи Кирилловны. Фигура бесчувственной совсем скрывалась во мраке при тусклом освещении нагоревших свечей.
– И это еще обуза на плечах моих! – прошептал Иоанн, коснувшись холодной руки ее. Взял маленькую свечку с шандала, зажег и осветил ею помертвелое лицо своей пестуницы.
– Никак, она в обмороке? – заботливо отозвался монарх вслух. – Эй, кто там?
Вошли дьякон и дворецкий князя Холмского.
– Сомлела, вишь, голубка! – кротко сказал им государь. – Снести бы ее в ложницу, что ль. Да лекаря послать скорей сверху от нас, живее!
Княгиню подняли и понесли. Государь остался перед телом и, видимо, был убит горем.
– Думал ли я, князь Данило, – начал Иоанн, оставшись один, – что тебя мне придется хоронить?! О ты, судьба моя! Судьба моя! Потерял сына, прибираются братья… жена враждует… В семье нет счастья… а дело мое, ответ мой перед Богом, налегает тяжелее… щекотит совесть. Сон бежит от глаз моих, когда все покоятся, а силы докладывают, что их мало. Милые создания, девочки мои, вы грустите в терему своем… тоскуете по нянюшке… Она ведь ближе, чем мать… а княгиня, чего доброго, тоже бы не свалилась… Ее крушит Вася!.. Да, Иван Васильевич, перед собой тебе нечего увертываться… приходится сознаться, что дело нелегкое вести людей, куда хочешь. И сердце у самого болит. А не болеть оно не может, как подчас подстроит судьба тебе разом западню в двух местах.
– Князь Данило! – вновь взывает державный к усопшему, испуская необыкновенно тяжелый вздох, словно сделав над собою отчаянное усилие… – Князь Данило! Не думай, чтобы я не любил тебя, при жизни обременяя службою, все вразгон да вразгон… Друг мой! Никто больше тебя не был мне дорог.
+Я знал твою кротость, скорбел наедине, а ты… горд был, не высказывался ни полусловом… ни на что!.. Я верил твоей дружбе и, как на стену каменную, надеялся на мужественную грудь твою. Теперь кто у меня – Патрикеевы! Холопы! Юлит с нечистою совестью Иван Юрьевич. Ты думал, верю я льстивым словам его? Мамоне служит он… Не мне… власти моей… Ты меня оставил… ос-та-вил… те-пе-рь… и… оди-нок я… – рыданья заглушили слово его. Слезы облегчили, однако, державного страдальца, и он мало-помалу успокоился. Вдали раздался благовест к утрене. Скорбный государь встал и начал молиться. Поклонился телу и вышел.
Спустя четверть часа входил он на свое приспешное крылечко в Кремле, вступая как бы украдкою в свои чертоги. Продолжительное исчезновение государя, впрочем, не утаилось от придворных: успели дать знать князю Патрикееву, и тот, с лицом, вытянутым от страха, встретил в теплых сенях монарха, бросившись снимать с него убеленный рыхлым снегом охабень.
– Прогуливаться изволил, государь, в тиши? – вкрадчиво начал было он, ожидая ответа. Но Иоанн посмотрел мрачно на оторопевшего своего дворецкого и отдал приказ – созвать бояр к выносу!
– Я разослал уже с оповещением.
– Без меня, стало, обошлось? – иронически отозвался Иоанн и ушел к себе.
Из-за углов, скрываясь до того в тени, повскакали бояре и дворские люди партии Патрикеевых и вполголоса начали шушукаться.
– Не ровен час… как видите, бояре… и преданность гнев возбудит! – робко заявлял Патрикеев.
Тут подошел великан Самсон, повышенный теперь уже в московские дворяне и бессменно державший ночную стражу у верхних переходов.
– Прибег с холмского подворья рассыльный… по приказу, молвит, государеву… ищут они лекаря к княгине Авдотье Кирилловне. Повелишь пропустить посланца?
– Пустить скорее… разумеется! Экой олух! Кому из вас влезло в глупую голову останавливать посланца, коли по указу, говорит, пришел государеву?
– Да мы, государь, сомненью дались: откуль государев-от приказ к им произошел!
– Дураки! Разве ваше дело это самое спрашивать? Эки олухи, ей-богу, пропадешь сам с этими неучами. Коли государь велел, говорит, чего же тут?
– Да государь князь иногда изволил приказать, вашество, рачительно испроверить прежь волю государеву, коли называют… Мы так было и порешили… вот я докладывать тебе и прибег…
– Пустая голова! Не говори вздору, не терплю… Пшел! – И топнул ногой на усердного слугу, выполнителя своего же веления.
Бояре переглянулись. Великан без души убежал, вступая легонько на пальчики, так что все бы расхохотались в другое время.
– Вот оно куда метнула нашего владыку нелегкая!.. Тут и разбирай, как знаешь, – отозвался князь Семен Иванович Ряполовский, подлаживаясь под образ мыслей своего патрона Патрикеева.
– Надо, стало быть, к Авдотье Кирилловне примазываться? – ввернул язвительно Косой. Отец взглядом дал ему понять неуместность выходки.
Прошло несколько минут затишья; приунывшая от взрыва неудовольствия государя на предводителя партия Патрикеева, видимо, находилась в затруднении.
Вдруг вбежал опять Самсон и говорит:
– Как угодно, а лекарь отказывается идти без приказа вышнего, потому что постельница Елены Степановны велела ему ждать, как позовут к заболевшему княжичу Дмитрию Ивановичу.
– Что ж молчат, олухи… Надо известить государя, – отозвался князь Иван Юрьевич, обрадовавшись случаю идти к державному.
– Кто там? – раздался голос Иоанна, когда Патрикеев осторожно вошел в горенку перед ложницею государя, еще не могшего заснуть.
– Княжич Дмитрий Иванович недомогает: жар, что ль, вступил. Лекарю велено быть наготове. Так благоизволишь ли, государь, приказать ему идти в дом княгини Холмской с посыльным оттуль?
– Вероятно, дитя простудили мало-маля… пройдет; пусть спешит к княгине. Ясно, не важное дело наверху, когда только велят готовиться… А Авдотья Кирилловна… в беспамятстве, голубчик… ей нужнее помощь. Спроси еще, Иван Юрьевич, что так долго они медлили…
– Лекарь замешкал за приказом о явке к княжичу. А посыльной-от давно уж разыскивает… не скоро пустили и в терем незнакомого.
– Так вели ехать уж…
– Коли изволишь, государь, я и сам с ним поеду.
– Хорошо бы было… Там некому порядка дать, а как воротишься… коли не в труд… забеги, дай мне знать, как и что… Ты у меня хлопотун… я знаю… Спать-то когда тебе? (Последние слова Иоанн произнес, видимо, смягченный, с заботливостью о слуге своем.)
Иван Юрьевич совсем просветлел и веселый вышел сверху, приказав подать лошадей, всегда готовых у крыльца государева. Половина его клиентов последовали за ним.
Хлопоты оказались излишними. Патрикеев застал уже княгиню пришедшей в себя и хотя, конечно, в горе, но – на ногах, распоряжается печальными приготовлениями. Спросив по воле державного о здоровье княгини, князь-дворецкий скоро отправился назад. Переезжая Сретенку, натолкнулись путники наши на обоз изо ста, почитай, подвод, направлявшийся к выезду из столицы.
– Чьи такие?
– Князя Андрея Васильевича…
– А что везешь?
– Скарб княжий с московского подворья его милости.
– Стой! Надо попрежь доложить державному… велит ли пустити?!
– Да чаво не пускать, коли наш не волен ехать в свой удел… домой к себе?!
– Ну, не разговаривать… Стой!
И, оставив своих людей при остановленном обозе под начальством сына, Иван Юрьевич пришпорил коня, сам помчавшись в Кремль.
Государя застал Патрикеев уже в крестовой, оканчивающего утреннюю молитву.
– Что она? – спросил Иоанн вошедшего.
– Здорова! Хлопочет о похоронах.
– Слава богу! Все хорошо… значит…
– Одно неладно, государь… братец твой с чего-то воровски вывозит свое именье все дочиста из твоей столицы… Неспроста… я думаю, это самое!
– Кто!.. Как вывозит?
– Да мы наткнулися на Сретенке на обоз князя Андрея Васильевича… Подвод до сотни… Люди его говорят, вывозит все до синя пороха из московского дома… Видно, государь-от их задумал глаз на Москву не показывать, а куда ни на есть укрыться?..
– Какая-то загадка тут, – отозвался медленно Иоанн, раздумывая. – Люди что молвят, говоришь?
– Да им-то верить не приходится: молвили, что велено привезти старье, чтобы обновить заново хоромы княжие… а хоромы те не тронуты, и не слышно, чтоб припасы требовались.
– Куда же, отвечали, добро им велено доставить?
– Один говорит – в Вязники, а другой – в Вязьму… а Вязьма, сам ведаешь государь, не твоей державы… и не старицкого княженья…
– Попридержать, коли так, их… Да брата… к нам позвать. Ведь он здесь?
– Был, говорят… Верно не знаю…
– Так, людей пустить лучше да следить издали, куда поедут… Коли же брат узнал про остановку… извиниться, что, мол, по ошибке случилось… так и так.
– Сумеем… государь… пошлем Шастунова. Он краснобай ведь, хошь кого разговорит.
– Так возы пустить… сейчас же!.. И утром, если здесь брат, послать Шастунова к нему: ко мне просить… что считаю себя неправым… принимаю вину рабов моих на себя и… готов удовольствовать, чем пожелает…
И Иоанн стал ходить, погрузившись в раздумье.
Скоро стало рассветать… зазвонили к обедне. Государь пошел на отпеванье Холмского и сам не мог удержать слез, когда заголосила княгиня Авдотья Кирилловна свои причитанья.
– Успокойся, княгиня… твоего и моего друга не воротишь, – говорит ласково и сочувственно сумрачный Иоанн своей пестунице.
– Государь… как не плакать мне, одинокой… осиротелой! Был муж… с ним поговорим о своем Васе… теперь же… – она зарыдала и не могла договорить.
Иоанн отошел от Холмской расстроенный, но не гневный. Бросил лопатку земли на гроб вождя своего и, тяжело вздохнув, остановился над могилою, пока предавали земле ее достояние. Княгиня Авдотья Кирилловна тихонько плакала в стороне, поддерживаемая Косым, и Ряполовским.
К государю, стоявшему особняком, подошел князь Андрей Васильевич и что-то стал говорить вполголоса. Иоанн вздохнул при первых словах, оторвавших его от мечтаний, но отвечал ласково; взял под руку брата и вместе с ним воротился в кремлевские палаты поминать почившего вождя.
Давно уже братья не показывались настолько дружными. После стола Иоанн привел брата в терем к жене, где великая княгиня оказывала грустной пестунице своей всю нежность соучастия к ее горю и несчастию. Вечер в разговорах летел скоро, и уже под конец его Иоанн, простившись с женою, прошел с братом в терем невестки.
Княгиня Елена Степановна совсем заждалась свекра и не раз уже посылала свою няньку к половине великой княгини: узнавать, что там делается. Князь Иван Юрьевич еще чем свет бегал к невестке государевой оповестить, что державный всенепременно будет. А он после допытываний о стригольниках за множеством дел к невестке не заглядывал, так что это начинало беспокоить молодую княгиню, тесное сближение которой с патрикеевцами ни для кого не было тайною. В ее тереме происходили советы их и в тот вечер, когда умер князь Даниил Васильевич Холмский.
Шел раздел мест и обсуждались повышения.
– По мне, Юрьеву быть на месте князя Данилы, иначе и советовать нельзя державному: он сам знает своего кума и службу его по Новугороду, – говорил князь Иван Юрьевич. – Стало, о воеводстве правой руки большого полка говорить неча. О наместничестве казанском – тоже. А тебе, князь Семен Иваныч, – обратился он к Ряполовскому, – может, пригодно воеводство над нарядом. Первое дело – в Москве останешься, второе – опричь приказу своего – ни в чем не ответчик. А это самое главное: гуляй, душа, на все на четыре. Ухорониться захочешь – никто не спросит, зачем, мол; съехать куда – на всем себе господин. И досуга вволю, и в наряды не вступаешь.
– Оно, конечно, выгодно, что говорить, – ответил в раздумье князь Семен, которому улыбалось счастье в лице вдовы княгини, но не хотелось и опускать ратных подвигов, изведав поэзию боя с его пылом и увлечением.
Княгиня Елена Степановна взглядом, полным благодарности, наградила Ивана Юрьевича за выдумку, оставлявшую красавца Ряполовского, так сказать, прикованным к столице, где могла она каждый день его видеть и слышать. А слышать и видеть красавца, сама она не знала как, теперь для нее сделалось потребностью, и отнятие его или удаление на короткое время было бы нестерпимым мученьем. Все бы она готова глядеться в его черные проницательные очи да слушать его мужественный голос. Шушуканье сенных девушек уже начинало выводить на свет и не одни взгляды, и не одну прелесть взаимных разговоров, один на один, княгини-вдовы молодой с красавцем Ряполовским.
От взглядов перешли они к вещественным выражениям привязанности. А так как время в подобных упражнениях льется незаметно, то зачастую князь Семен выходил неслышною стопою из терема Елены, когда начинала уже вставать дворская прислуга. Так что нянька княгини, ворча себе под нос далеко не лестные для красавца суждения, выводила его на Москву-реку через свой подклет, когда занималась заря. Много, следовательно, утекло воды с тех пор, как робким шагом вступал герой Ряполовский в первый раз в терем Елены Степановны, сделавшийся ему настолько знакомым. Жена, содержимая в строгости, хотя не знала, где проводит ночи дражайший сожитель, но возымела уже подозрение, что покидает он неспроста свой дом и, чего доброго, не ввязался ли, сердешный, в какое неподобное дело? Мало ли озорников на Москве? Беда безысходная! А как спросить? Рыкнет: «Не твое дело!» И замолчишь поневоле. Еще обиднее будет да больнее сердцу. Лучше – плакать на свой пай втихомолку. Вот бедная княгиня в терему своем обливается слезами горючими, никому своего горя не поведывая.
Оборот медали – перемена в расположении недавно еще грустной и убитой горем княгини Елены Степановны: она расцвела розою. Огонь очей ее стал еще восхитительнее, как подернулся туманом страсти. В чаду ее она меньше обращает внимания на своего ненаглядного Митю. Бывают минуты даже, когда Елена не может глядеть на него. Дитя ласкается, а мать смотрит в землю. Тогда овладевает ею непреодолимое волнение, так что жар ярким багрянцем выступает на смуглые ланиты княгини и грудь ее начинает ходить, словно волны в бурю. Действительно, что-то похожее на бурю поднимается тогда в ее помыслах. Несчастная трепещет, сознавая, что катится в пропасть, ни за что не могши удержаться. Перед глазами ее пробегает обыкновенно милый образ князя Семена, в ту минуту получающий зловещее выражение. В ушах звенит, но этот звон отдается погребальным пением по чистоте и непорочности. В такие мгновения Елена сама себя ненавидит и готова избить, искалечить, истерзать своего Митю. Старая няня качает неодобрительно головой и старается в такие минуты от матери увести княжича на половину великой княгини. Так было и в памятный вечер смерти Холмского.
После совета патрикеевцев – на этот раз скоро порешивших свой дележ, и даже без споров – князя Семена зачем-то позвали вверх, по делу. Елена, оставшись одна, раздумалась. Мысли, одна другой чернее, стали выступать перед ее памятью, и яркий румянец загорелся уже на щеках – предвестник скорой бури. Нянька схватила ребенка князя Димитрия и привела его к дядям и теткам – князьям Василию, Юрию и Димитрию Ивановичам, сверстникам Митеньки или близким по годам, да к княжнам Елене, Федосье и Евдокии Ивановнам.
Дети любят своих однолетков, и между Васильем с братьями да Димитрием существовала если не полная дружба и приязнь, то взаимное расположение. Разногласия производили при играх их общие желания и сходство в привычках. Все дети любили в князья играть: командовать, войско разводить, биться, посольство принимать. Чтобы сколько-нибудь отвлечь от споров, однажды великая княгиня Софья завела между детьми очередь: один раз роль князя выполнять Васе, в другой – Юрью, Дмитрию и племяннику Мите, в последнее время хворавшему и оттого несколько капризному. Теперь была очередь Васи, и он с приходом племянника велел подать себе новую ферязь, приладив и крестик на шею к бисерной цепочке, а в шапочку свою вставил павлинье перо. А вместо скипетра у ребенка, разыгрывавшего повелителя, была точеная крепкая скалочка. Митя, войдя и поздоровавшись с тетками, поцеловал руку обыкновенно задумчивой бабушке Софье Фоминишне. Придя к старшему дяде, он встал перед ним, отвесил поклон по чину и проговорил, картавя: «Здолов буди, госудаль, князь великий Василий Иванович! Цесь тебе, госудалю, воздаем».
– Здрав буди, князь Дмитрий, все ли честь твоя исполнил, что мы указали ономнясь?
– Все… Воеводу послали мы на Суздаль, длугова на Колцеву. Узо сами пойдем с Москвы на леку, на Оку.
– Ладно! Благодарствую. А недругов наших покарал?
– Покалал!.. – и сам задумался, не прибрав имен чьих-нибудь и не успев припомнить.
– Кого же покарал, ин молви.
Тут в детской памяти княжича Митеньки проскользнуло имя, вероятно произносившееся матерью его со злобою, и, не долго думая, крикнул он:
– Князя Холмскова!
– Как ты смел?! Это друг мой! Рази его приказал я? Ряполовского, Патрикеевых.
– Не хоцу! Окломя Холмскова ни в зись. Ляполовской у нас бывает. Патликеев гостинцика дает… Холмскова, Холмскова, Холмскова!
– Говорят тебе – нет. Холмского не трожь. Он наш, великого государя присный друг и слуга, а патрикеевцев твоих… наушников, – под топор!
– Ни в зись…
– Слушай, Митька! Не перечь. Коли я, великий государь, ково милую, значит – милую и не выдам!.. А ослушникам вот что! – И он погрозил племяннику скалочкой, заменявшей скипетр.
Княжич Дмитрий, вспыльчивый и, как мы заметили, к тому же избалованный и хворый, задрожал от злости и бросился на дядю-повелителя с криком:
– Не месай! Не хоцу и не хоцу! Давай длаться?!
Няньки смеялись, а князь, замахнувшись своим импровизированным скипетром, сдержанно, по-видимому, но уже сердясь, крикнул:
– Не подходи!
Но уже было поздно. Ребенок рванулся к нему и повалился как сноп. Скалочка больно ударила по левому уху и челюсти, к счастию, скользнув только по виску. Няньки бросились к упавшему княжичу: видать, тот закатился так, что не слышно было его голоса. Звонкий крик и рев раздался уже, когда вносили его к себе.
– Что это? – выбежав из повалуши в передние сени, спрашивает трепещущая, встревоженная Елена мамку, старающуюся закрыть рукою личико кричащего княжича. Увидев из-под пальцев женщины выступавшую кровь, мать, в которой неожиданная катастрофа возбудила давно уже незамечаемую нежность, непритворно испугалась, вне себя заголосив:
– Его убили! – И сама готова была упасть.
– Не убили, зашиб князь Василий Иваныч! Наш-от резвой такой, бросился драться. (
– Не верю! Он весь в крови. Лекаря! Воды! – и Елена с возбужденною нежностью стала отдавать приказания оторопевшим женщинам. Кровь не скоро уняли. А ребенок, уложенный в свою постель, продолжал тихо плакать и метаться в жару. Заснул он уже поздно, почти под утро, и все стонал как-то да метался беспокойно.
Тогда-то и призывали лекаря, дав ему наказ не уезжать домой, а быть поближе на случай, буде потребуется.
Расправа Василья Ивановича вызвала со стороны матери, не потакавшей вообще детям, немедленное штрафование. Его поставили в тюрике в угол, но герой и наказанный не переставал уверять, что он сделал, что следовало.
– Мама! Ты послушай только, что за озорник делается Митька. Я, когда он княжит, поддаюсь ему, совсем приказывает – исполняю! Он же – не хочет делать по указу моему. Ошибся – сознайся. Велю карать непокорных – он казнит моего лучшего друга. Васю Холмского, говорит, вздернуть! Я запрещаю – он все свое. Да еще лезет в драку со мною, великим государем своим и повелителем! Ну – и попал! Жаль мне самому, да сам он виноват!
– А ты не знаешь разве, как этот твой поступок перетолкуют, да еще с прибавкою, патрикеевцы?
– Да пусть их. Батюшка сам не милует непокорных; я в него: не покоряешься – казнь!
– Я ужо тебя и велю высечь!
– Безвинно, мама. Подумай, что я был государь, – повторяет он. Софья Фоминишна закрыла лицо руками, и верный такт ее здорового мышления доказал ей возможность вывода из настоящего случая новых неприятностей со стороны невестки-враждебницы.
– Что Митя мой? – входя к невестке, ласково спросил Иоанн Елену.
– Ничего теперь, как боль уняли.
– Заснул… а сегодня полегче, – ответила за княгиню старая няня, поднося к деду ребенка с перевязкою, закрывавшею почти все его личико, видимо опухшее от слез.
– Да это-то что намотали ему на личико?
– Завязали, чтобы кровь унять.
– Отчего кровь?
– Дядюшка, князь Василий Иванович, кокнул нашего княжича по головушке скалкой… Уж текла, текла кровь… из ушка и из ротика, не приведи Бог как!
– Осерчал за что-то на племянника, – рассеянно добавила Елена.
– Мой Васька? Да чего же нянька-то да мать-то смотрят? Я его, мошенника, так велю высечь! Чтобы не смел впредь озорничать…
– Ударил, да промолвил еще: на, мол, тебе… за то, что батюшка тебя жалует не по достоинству! – прибавила с злорадством мамка.
– Оставь, няня, – отозвалась Елена с плачем, – заведомо ребенок не свои это речи пересказывает!.. Что государя на гнев наводить без пользы?.. Будет ужо князь великой Василий Иванович… пуще гнать станет нас с Митинькой… недаром похваляется теперь экой клоп еще, – что всех князей искоренит… не нужны они!
– Не разумно, государь, отроку эки речи внушать! – кротко заметил Андрей Васильевич, видимо взволнованный последними словами невестки.
– Все это бредни, душа моя! – успокаивая Елену, ответил Иоанн. – Велю разыскать: кто между детьми вселяет вражду… С того примерно взыщу, а озорнику не дам потачки. Почем ему или вам, бабам, знать, кого государь пожалует великим княжением? Темна вода во облацех! Еще подрасти надо… прежде. – И сам стал ходить по терему невестки, видимо недовольный открытием замашек сына при брате.
– Княгиня великая, матушка, нас не жалует, – заметила Елена грустно, с горечью, – вот ребенок растет; видит все и смекает, что можно ему срывать сердце на нелюбимом племяннике… При жизни родителя не дали бы нас в обиду! – И заплакала.
– И я не дам, коли на то пошло! – отрывисто высказал государь и, гневный, оборотился в терем жены.
Увидя отца, идущего не в себе, и общий ужас на лицах нянюшек, навстречу гневному бросилась княжна Федосья Ивановна и, обняв ноги его, закричала:
– Батюшка… прости! Не пущу, покуда не помилуешь.
– Поди прочь! – крикнул отец, но Феня уцепилась за ферязь его еще крепче, с плачем.
Иоанн был гневен, но отходчив. Неожиданность сцены и мольбы девочки, от которой никто не ожидал такой выходки, скоро смягчили его.
– Оставь меня, Феня… Что ты, дурочка, так всполошилась? – уже почти ласково сказал Иоанн, стараясь освободиться от детских ручек, мешавших шагнуть ему.
– Прости! – повторяла неотвязчивая сильная девочка.
– Кого и за что? – стараясь показать вид, что ему ничего неизвестно, пытался спрашивать Иоанн, гладя по голове ласковую дочь свою.
– Васю, брата, – проговорила она, зарыдав… – Он Митеньку ушиб! Ненароком вечор… Мне так было жаль его!
– Кого?
– Митю! – пренаивно ответила просительница.
– Люблю, Феня, за правду! – посадив дочь на колено себе, сказал Иоанн. – Рассказывай, как было?
– Да Вася чтой-то не поладил с Митею… Митя и бросился на него – драться. Вася как держал скалочку – и ударил его! Так мальчик и закатился. Прибежала мамка – он в крови весь как баран, его и унесли к матери.
– Какого жестокосердного растишь ты сына! – с упреком обратился государь к Софье Фоминишне.
– Я не учу его злости, – робко ответила великая княгиня. – Жаль мне самой бедного внука. Тотчас же наказала я Василья: у меня и теперь он еще в углу стоит в тюрике… да прощенья просит.
– Так и надо разбойнику! Ужо вот я сам расправу учиню.
– Батюшка, а обещание? – подскакивая к отцу, опять стала канючить Феня.
– Василий! – крикнул государь.
Виноватый с опухлыми глазами подошел к нему боязливо.
– Поди-ка, поди-ка ближе, злодей! Как это ты похваляешься, величая себя государем? С чего ты это взял? Дмитрий сын старшего твоего брата – ему, а не тебе величаться следует! Чего научают тебя наставники? Прислать ужо ко мне Мефодия-грека, я внушу ему, как учить княжича… Говори мне сейчас, кто тебя научил так обращаться с Митею?
Виноватый уставил глаза в землю и молчал, по обстоятельствам дела – как мы видели прежде – считая себя правым. Объяснять же отцу, что и как происходило у них, он не смел за приказом умной матери. Гнев вновь начал овладевать Иоанном при мнимом упорстве мальчика, причины которого он не знал и не предвидел.
– Это, Софья Фоминишна, твои наговоры?! – с горечью обратился опять государь. – Тебе же хуже будет и этому упрямцу. Я знаю, что ты ненавидишь Елену, а оттого и мальчишка так самоуправствует… Да назло же вам я поставлю Дмитрия. Вот и знайте!








