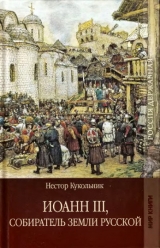
Текст книги "Иоанн III, собиратель земли Русской"
Автор книги: Нестор Кукольник
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
Вдруг – шум. Максимов вскочил и принялся утирать глаза рукавом. Вошел Косой и, бросив взгляд, не обещавший добра изгоняемому слуге Елены, громко сказал:
– Иван Максимов, государь Иван Васильевич требует тебя перед свои светлые очи немедленно! Пойдем.
Елена не нашлась что сказать. Только сильно забилось сердце у ней, когда они вышли.
Скорыми шагами пошли Максимов с Косым по направлению к Грановитой. Войдя в палату, полную бояр, Косой подвел трепещущего Максимова к государю, который сказал громко, но не гневно:
– Иван, мы жалуем тебя в стольники наши и посылаем тебя на нашу государскую службу: ты поедешь немедленно к свойственнику нашему Стефану, воеводе воложскому, от нас с грамотою. К вечеру изготовься неотменно. А ты, князь Иван Юрьевич, напиши ему наказ поспешнее. От службы при дворе невестки нашей мы ево освобождаем.
Рынды заставили Максимова поклониться в пояс государю, как требовал этикет, и повели его под руки из палаты на боярское крыльцо, где оказан ему чин стольника.
Патрикеев, по прочтении дьяком указа государева, запретил Максимову видеться до отъезда с кем бы ни было, кроме матери, и послал его домой готовиться в дорогу.
Все это сделалось в несколько минут.
Только по выезде из Кремля Максимов, оставшись один, дал волю течению своих грустных мыслей. Милость Елены. Холмский, проникший в тайны жидовствовавших. Донос его. Козни Патрикеевых. Обиды Косого особенно. Предчувствие бед и… это назначение – все предстало перед мыслью бедняка, как ряд щелчков враждебной судьбы, мстившей ему, видно, за минутное увлечение. Конь, почти неуправляемый всадником, пугался и бросался все в сторону да в сторону – от движений толпы народной, разливавшейся широким потоком с замоскворецкого болота. Там земная кара над преступником уже совершилась. Сложенный в виде ниши (в которую приковали мистера Леона), костер наконец упал, прекратив дикие стоны жертвы, извлекаемые медленным жжением. Только столб смрадного дыма высоко еще поднимался к небу да порывистый ветер, свистя между рядом шестиков, окружавших место казни, срывал с них столбцы с приговором. Крутясь, свертываясь в трубочку и снова разгибаясь, неслись невысоко над землею раскаленные листочки по ветру, вдоль улиц, от болота. Один из таких отрывков, самый нижний, бросило вдруг под ноги коню Максимова, и глаза всадника упали прямо на слова: «Тако погибнут все творившие злое!»
Максимов невольно содрогнулся, читая эту угрозу. И попалась она ему в такое время, когда полученное назначение мог и должен даже он был считать не иным чем, как опалою, сулившею в будущем скорее худшее, чем лучшее.
V
ОТКРЫТИЯ НЕ НА РАДОСТЬ
Не первый снег на голову.
Пословица
Прошло немного часов после победы. Наступил прекрасный полдень. В природе так было тихо, что скрип телег по уступам неровного пути, спускавшегося зигзагами к излучистому Днестру, отдавался с каким-то болезненным дребезжаньем, трогавшим за сердце. Кони утомились совсем под напором тяжелых, уродливых экипажей с горы, и волы даже выступали неровно и упираясь. Пришлось для облегчения бедных животных совершить этот спуск к картинной реке пешком. Началось высаживанье, понятно, с приметным оживлением обоза, в котором было немало женщин. Пересеченная рытвинами местность, поросшая высокими деревьями – а на пологих покатостях молодым кустарником, – скоро представила нечто вроде приятной прогулки, тем более что до реки и переправы оставалось не больше двух верст. Освобожденные пленницы составили группы; обозы перемешались. Провожатые, кроме татар, также спешились. Никитин вступил в роль распорядителя транспортировкою, выбирая удобные тропы на трудной дороге. Вася присел под развесистым дубом на краю крутизны, с дороги почти совсем закрытый стволом могучего кудрявого исполина, давшего ему приют под лиственною сенью своей. Долго ли сидел он, погруженный в думу, мы не беремся определить, да это и не настолько необходимо, чтобы кто на нас посетовал за упущение. Вдруг чья-то рука ласково обвила стан его. Он взглянул – подле него Зоя. Выражение лица деспины шло, однако, вразлад с ее дружеским объятием. Очи готовы были сжечь молниями того, кто возбудил против себя гнев красавицы, казалось совсем не владевшей собою.
– Как это ты без княжны? Я думала вас встретить тут вдвоем!
– Ошибочное подозрение, потому и обманулась в расчете.
– Зоя не может обманываться, когда сердце у нее ноет и щемит… и обливается кровью…
– Ни к чему так убиваться.
– Переношу попреки мужа… томлюсь… плачу наедине ночь целую… а ты?
– А я не показываюсь на глаза Андрею Фомичу, видя, что он избегает со мною встречи. Вижу, что Зоя клеплет на меня понапрасну… за что, и сам не знаю…
– Полно, Вася… Ты уж не ребенок. Я все знаю… Я все слышу!.. Мне все передают!.. Как твоя полька нахальная пожирает тебя глазами, а ты целые дни едешь подле кибитки, из которой уставлены на тебя глаза этой… твари!
– Зоя, ты не помнишь, что говоришь. За что поносишь невинную?.. Дядя Афанасий писал к подольскому воеводе, чтобы дал знать отцу княжны, что может получить ее в Сучаве или бы прислал за ней, кого изволит. Не бросить же нам бедняжку на дороге?! А самим нам в Польшу съездить тоже нельзя, коли посланы не туда править государское дело.
– И это – так?! Верно, не льстишь? – спрашивает подозрительная деспина, крепко сжимая руку Васи, сама глядя в глаза ему и стараясь вычитать в них всю подноготную.
– Поверь Богу, – отвечал искренне Холмский, протягивая здоровую руку ревнивице, бросившейся целовать его.
После этого излияния бурной страсти Зоя совсем ожила. Обняла и смотрит на Васю с такою нежностью, что от объятий и взглядов этих он тает. Приближение многих голосов заставило обоих вздрогнуть и – очнуться. Зоя встала, заботливо поправила перевязку раненого и помогла ему подняться. Несколько шагов прошли они рядом, как добрые знакомые, сдержанно.
– Меня, никак, ищет Андрей? – вполголоса высказала Зоя и перебежала под купу деревьев на другой стороне тропки; только мелькнула фата ее в зеленой чаще кустарника. Вася остался прикованным к месту. Смотрел он на что-то, но видел ли? Если бы вы спросили, что ему кажется, он едва ли был бы в состоянии собрать свои мысли, чтобы дать какой-нибудь ответ. Сердце было полно, но испытываемое ощущение передать не мог он. Случайно, проходя, взял Холмского под руку старец Никитин, и вместе с ним дошли оба молча до реки.
Скоро началась переправа через излучистый Днестр, занявшая наших путешественников до позднего вечера. Всю ночь ехали спокойно. Утром из Бельцов послали нарочного к воеводе Стефану с известием о приезде русских послов и тихонько дотянулись до Скулян по тяжелой дороге. Ответ с приглашением в Сучаву не замедлил, и дня через два последовало прибытие да аудиенция наших героев. Подробности въезда и приема, – чтобы не повторять общих мест и тогда уже соблюдавшегося церемониала, как малоинтересные для читателей, – мы опустим. Нас занимает не форма, а суть дела и выяснение похождений князя Васи, начавшихся с посылкою его царем Иваном в Крым.
Когда ввели послов наших в полутемную, с небольшими редкими оконцами приемную устаревшего бойца с турками на Дунае, воевода лежал лицом к стене и нехотя повернулся, охая. Он был серьезно болен. Старые раны под впечатлением огорчений и неудач ныли и делали для Стефана едва выносимым бремя грустного существования.
Матовое, желто-смуглое, исхудалое, но все-таки круглое лицо вождя было мертвенно; взгляд тусклый и, казалось, апатичный. Широкие плечи и мощная голова с седыми кудрями, высовываясь из-под ковра, казались принадлежащими великану, на самом же деле воевода был вовсе не высок, и, статный смолоду, под старость он получил полноту, представлявшую резкий контраст с его тощею шеею и присохшею к костям кожею на лице. Лицо это, за всем тем, было очень миловидно. Особенно очаровательною была улыбка уст, редко, впрочем, показывавшаяся. Князь-воевода страстно любил детей и с молодости до старости был постоянным поклонником прекрасного пола, не выказывая никакой разборчивости в выборе мимолетных подруг, подаривших ему целые десятки сыновей и дочерей, большая часть которых оставалась едва ли известною. Любимым чадом из этого случайного потомства оказывался красавец Юраш. Недавняя потеря его так тяжела была для старого вождя, что долго о милом чаде не мог он вспомнить без слез.
Лицо молодого князя Холмского, по странной игре природы, напомнило воеводе вечно незабвенные черты убитого на глазах его юноши сына и на чело Стефана вызвало невольную грусть. Старый воевода не вдруг совсем пришел в себя и успел отогнать навеянные гибелью Юраша тяжелые воспоминания.
Отдавшись родительской скорби, сидел воевода на ложе своем, склонив опущенную на руки голову, ничем не давая заметить своего внимания к происходившему вокруг него. Тем временем Никитин прочел грамоту московского свойственника, в которой Иван Васильевич уведомлял о предстоящем открытии со своей стороны военных действий с Польшей, прося для разобщения врагов ударить на Речь Посполитую. Чтоб нанести ей удар с юга – почувствительнее.
Последние слова приглашения не ускользнули, однако, от чуткого слуха воеводы, и он мгновенно оживился.
– Хорошо было, коли бы так?.. – прошептал недоверчиво Стефан, испытывавший давно уже одни неудачи и, видимо, стеснявшийся хоть номинальною зависимостью от Польши. И глубокая сосредоточенность выразилась в энергических чертах воителя.
При дальнейшем чтении узнал он, впрочем, еще худшее для себя, что готовили ему сыновья Казимира: отнятие престола и увоз в плен.
– Ну! Столкнуть меня да увезти… им будет нелегко, пока я в ладу еще с этим другом! – крикнул он с одушевлением, указав очами на кривую саблю свою, лежавшую на столике подле его ложа. Глаза воеводы совсем оживились при этом былою отвагой, с которою напускался он на султанские полчища, иначе не считая врагов, как по срубленным головам.
– Рано други ляхи вздумали делить мое наследство! – добавил Стефан не без примеси резкой иронии. – Не пришлось бы самим раскошеливаться!
Сообщения Иоанновы оживили неожиданно старого бойца, возбудив в нем давно не замечавшуюся энергию. Он, казалось, стряхнул с плеч десятка два-три лет. Разговорился. Сделался шутлив и общителен.
Апроцы (пажи), молодцы красивые и пышно одетые, с моснегами (отроками) принялись накрывать стол, одним краем приставив его к ложу воеводы. Затем явилась придворная многочисленная челядь: приспешники, товара и столовые услужники. Во время приготовлений к трапезе находчивый Никитин поддерживал оживленную беседу, рассказывая о своих похождениях. Больной владыка не уступал ему в словоохотливости и, когда все уже было готово, пригласил послов разделить с ним простую трапезу. Садясь за обед, воевода вызвал членов своей семьи и за первою чарою, называя по имени наличных родных, назвал им послов, добавив, что они могут сообщить, как живет-поживает Елена.
Никитин отозвался малым знанием дворских порядков, объяснив, что князь Вася, воспитанный в теремах, может обстоятельно рассказать про обиход тамошний, а что он готов быть за переводчика, если бы потребовалось.
– Я сам по-вашему понимаю. Пусть юнак говорит, – высказался Стефан.
– Елена Степановна больно обижает государыню Софью Фоминишну, – откровенно высказал Вася, но, приметив неудовольствие, выразившееся на лице воеводы, поспешил добавить: – Может, и злые люди сомущают их промеж себя…
– Ты мне, брате, правду реки: какие злые люди совращают Алену?.. Мы ей отпишем: непригоже жену отца мужнина не почитать! Даже совсем негодно… Не люблю…
Скорый на гнев и на милость Стефан вспылил даже при этом, но скоро спохватился, подумав, что молодой человек может объяснить его вспышку против себя. Протянул ему руку и, быстро перенесясь воспоминанием к сыну, образ которого живо представляли ему черты Васи, сказал ласково и с чувством:
– Каков ты, друже, и у меня был Юраш, сынок прекрасный… Скосила его сабля турецкая… Ох! Тяжело мне вспомнить про это. Жив у тебя отец? И мать есть?
– Здравствовали при отъезде нашем.
– И говорит так точно, как мой Юраш! – прибавил воевода с тяжелым вздохом, принявшись ласкать юношу. Об отце и матери Васи Никитин счел за нужное объяснить воеводе, выставив в настоящем свете значение в глазах Иоанна князя Даниила Холмского да подвиги, его прославившие.
– Еще больше ты мил мне, юнак, как узнал я, что сын ты вояка мужественного! Он мне брат по оружию, а ты, стало быть, племянник. Так тебя и называть стану…
Зашли речи о дворских интригах. О них, как оказалось, Стефан был несколько сведущ и считал в числе державших сторону его дочери князя Ивана Юрьевича. Хвалил искусство Курицына, называл его правою рукою Иоанна в делах внешней политики. Но, пустившись и в политику, не раз сводил разговор на погибшего своего сына, начиная каждый раз с большим проявлением нежности относиться к Васе, принимавшему эти знаки благоволения воеводы с почтением, хотя далеко не с подобострастием, отличающим искусного придворного. Воевода сам был прост в обращении, и под гостеприимным кровом его послы московские нашли для себя дружеский приют, сделавшись с ним неразлучны и пользуясь его полною доверенностью. Стефан часто наказывал Васе при случае рассказать Ивану Васильевичу действительное положение дел его. При этом, одаренного от природы восприимчивым умом, вводил он князя Василья Холмского в полное знакомство со средствами страны своей, своими планами, опасениями и надеждами. В жару беседы, бывало, старый воевода положит ласково руку на плечо Холмского, а другою указывает ему, как ученику разумный наставник, что следует сделать.
Среди одной из подобных интимных бесед (при которых Никитин и Вася оказывались неизменными разделителями времени Стефана) вдруг докладывают воеводе о приезде из Москвы еще посла с грамотою.
Входит Максимов и подает досканец. При виде заведомо дружественных отношений Стефана к Васе Холмскому посланец московский до того остается поражен, что не может сказать слова. Так что на повторительный уже приказ воеводы прочесть, что пишет Иван Васильевич, Никитин взял из рук Стефана послание государя и исполнил эту нетрудную обязанность.
Из письма Ивана Васильевича наши послы узнают не без скорби о потере наследника и вдовстве княгини Елены. Воевода не может владеть собою, у него навертываются слезы, и он не старается скрыть их.
Теперь только Максимов получил употребление слова во вред себе, но распорядился языком своим.
– Государь воевода! – крикнул он, указывая на Холмского в порыве слепой к нему ненависти. – Этот презренный холоп гречанки и к твоему величию успел втереться в милость! Знай, что он первый клеветник на благородную дочь твою…
Воевода только плечами пожал при таком приступе и добродушно заметил, что такой добрый отрок, как сам он успел уже довольно узнать Васю лично, не способен не только на низости и клевету, но и ни на какое грязное дело по самому свойству своего искреннего характера, благородного и откровенного.
Максимов, пристыженный, умолк, затая бешенство в душе… Можно представить себе, как воевода остался недоволен ярым посланцем московским, начавшим так оригинально знакомство свое с прямодушным старцем. Стефан замолчал, не глядя на клеветника, а затем, не скрывая неудовольствия, приказал отвести новому гонцу помещение и дал знак, чтобы увели его куда следует.
Оставленный один, Максимов понял, что его непростительный поступок произвел действие во вред ему же самому, но пришел еще в пущую ярость от неудачи. Неудовлетворенный гнев, подстрекаемый горечью бессилия, довел сторонника Елены Степановны до неистовства. Он бился головою об стену, вне себя, с пеною у рта, повторяя: «Убью! Не отвертишься… Идем на поле. Двоим нам не жить на свете. Смерть так смерть! Терять мне нечего…»
Утро застает его в лихорадке, ослабевшего, но злого до чрезвычайности.
Предупредительность слуги открыла ему, что послы московские сами живут у воеводы, в его дворце, и редко выходят из него, но что приехавшие вместе с ними какие-то, тоже знатные, люди помещены уединенно. Что самих господ – бояра с куконицей – часто можно встретить на улице, а особенно регулярно посещают они греческую церковь. Соображая, кто бы это были такие, сводя вместе ответы на разные вопросы, Максимов стал догадываться, что это должен быть деспот Андрей с женою. И вот он велит вести себя к ним.
Андрей Фомич, постаревший чуть не на десять лет под гнетом измучившей его ревности, встретил московского дворянина с видимою неохотою. Услышав с первых слов его, что он принадлежит к противникам Софьи, сообразил, что и принимать его у себя ему неприлично. Поэтому, посидев несколько минут, он ушел и выслал объясниться с Максимовым Зою, знавшую лучше, чем он, москвичей. Сам Андрей Фомич поместился, однако, в укромном уголке, чтобы не проронить ни одного слова из того, что будет говорить Зое пришедший. В нем почему-то начал было он подозревать переряженного посланца от Холмского.
Зоя знала дурно Максимова и слышала о нем только от мистра Леона. Поэтому встретила она его, как незнакомого, холодно, вопросом: «Как поживают Ласкири?»
– Дмитрий Ласкир, – отвечал уклончиво Максимов, – здоров, посылается в посольство. Старик в большой милости у великой княгини, как говорят.
На все следующие вопросы о московских знакомых ответы отрицательные: «Не знаем таких!» – привели деспину в большое затруднение даже: как понимать и как смотреть ей на прибывшего?
Поставленная в это положение, Зоя, случайно будто, спрашивает, виделся ли он здесь с русскими послами. И попадает удачно в самое больное место загадочного посетителя, открыв в нем заклятого врага ее ненаглядного Васи.
– Провалиться бы этим злодеям сквозь землю! Обошли глупого старика да еще чванятся… – ответил деспине Максимов, не стараясь нисколько скрыть обуявшего его бешенства.
– Чем же тебе старик Афанасий так досадить мог: он, кажется, учтивый такой?
– До него мне дела нет; с языка сорвалось… Не он!
– Так ребенок, Холмский?
– Хорош ребенок! Пусть бы память об этом ненавистном пройдохе закончилась холмом над могилою его либо моей. Двоим нам не жить!..
И он замолчал, затрепетав от злости.
– За что же так?
– Это… тайна моя.
– Что же наделал он тебе?
– Напрасно будешь допрашивать, боярыня… Твоей чести ужо, может, доложат, что Холмского либо Максимова хоронят. А больше говорить нам не приходится…
И, не продолжая далее, не поклонясь даже, бешеный Максимов поспешно выбежал, бросив в сердце Зои новые страхи за Васю.
В темном коридорчике дружески схватил его за руку Андрей, чуть не зажимая рот и знаками приглашая быть осторожным.
Максимов не знал, что подумать, но – удержался и последовал за деспотом.
– Ты ненавидишь Холмского!
– Ваську?
– Да!
– Пуще жида и турчина!
– Руку твою, синьор Массимо! Я питаю к нему подобные же чувства, понимаешь… за… жену.
– Убей!
– Он силен… да мне и неприлично со всяким входить в столкновение. Ты… сослужишь мне и себе службу, отправив его в ад…
– Был бы случай только. Не спущу-у!
– Случай… случай! Чего же лучше твоего личного оскорбления у мистра Леона! Я теперь вспомнил, как это было.
Несколько слов, сказанных вполголоса, разъяснили разъяренному Максимову истинные рыцарские права его, неудовлетворение жажды мести над ненавистным Холмским, и враждебник нашего героя вышел, побеседовав с экс-деспотом, счастливый, утешенный и вполне уверенный в насыщении своей мести достойною отплатою наутро.
Послы уже давно встали и вели между собою беседу об отправке в Москву гонца с нужными донесениями к Ивану Васильевичу. Длинный столбец был исписан весь четкою скорописью, и Никитин только приписывал скрепу по склейкам, как вбежал к ним в покой неугомонный клеветник.
Окинув послов взглядом слепой и неукротимой мести, он, не ломая шапки перед хозяевами терема, гордо подступил к Васе и проговорил задыхаясь:
– Вызываю те-бя, Ва-си-лий, обидчика мо-его, на по-ле!
– Ты, видно, взаправду с ума сбрел? – спокойно отозвался за Холмского Никитин. – Князь Василий Данилыч – посол государев, а ты вызываешь его, когда он представляет лицо твоего и моего повелителя?
– Что тут разбирать, смотреть на ваши старые бредни. Я вижу в нем обидчика и жить мне с ним вместе не довелось.
– Так есть много дорог и средств отделаться от жизни самому, коли свет постыл стал. Набрасываться на люд ей-то не приходится. Да еще на первого посла.
– По мне, он враг и только!
– Не забывайся и ступай, любезный, подобру-поздорову, пока цел, – заговорил уже строго Никитин, войдя в свою подлинную роль посла да становясь между Холмским, тоже вскочившим с места, и Максимовым, к нему порывавшимся. – А не выйдешь вон – выведут. Эй, Лефеджи!
Вбежало трое копейщиков полошских.
– Возьмите этого молодца… бережно да… спрячьте куда ни на есть. Теперь покамест не до него.
И храбреца вывели.
– Что это за озорника такого выслали к нам из Москвы? Ужо написать нужно будет… про его безобразия да отправить скорее… – снова входя в обычное спокойствие, повторил кроткий странствователь за три моря.
Князь Василий поник головою и думает, что Никитин своим вмешательством даст повод бешеному Максимову утверждать, что он трусит от его вызова. Помолчав немного и дав Никитину успокоиться, Вася и начинает возражать:
– Неладно сделал ты, одначе, дядюшка, что выслал этого моего ворога.
– Так, по-твоему, дозволить тебе, послу государеву, дать сквернить руки на всякой сволочи? Черт его, бесова сына, знает, откуда его только выискали.
– Я-то знаю… он наш же… сверху, от княгини Елены… Вся беда, что, видишь… в ночь ту самую, как свадьбу справлял Андрей-то Фомич… у мистра Леона мы с Ласкиром подсмотрели беззакония всех аленовцев. Этот Максимов было топорщился схватиться со мной за намеки. Да ты еще выручил, кажись… помнишь, явились мы с Ласкиром на беседу вашу незваные? Вот он и злится с тех пор… Да я плевать хочу! А подсунется – пусть на себя пеняет: с таким противником еще справимся. Только не след тебе было входить в наше дело.
– Да ведь ты посол? Как же тебе, князь, с им расправиться?! Ты забыл али не знаешь, что посольское дело – святое дело и оружие поднимать послу… нельзя!
– Зачем так?
– Не водится!.. Ведь ты не по своей воле здесь? Кончи службу – тогда и разведывайся как знаешь. И я сам понимаю, что за одну клевету его воеводе проучить его следует… Да не теперь только!
– Да, видишь, дядя Афоня, Максимов этот самый и того еще трусит, что знаю я, как он возымел блажь про княгиню свою Алену Степановну… Это ему… как хошь суди – гибель! Он и думает меня уничтожить, чтобы свидетелей не было… его признанья.
– Так он совсем греховодник… – отрывисто отозвался Никитин, погрузившись в думу.
– Смотри, Вася, – через несколько минут промолвил старец кротко, – и тебе подумать следует, что делать с подарком хана да как отделаться от деспины Зои. Неладно ни то ни другое. Она вона меня все просит, как бы ей поговорить с тобой, тайком… А тут выслали этого самого ворога, на беду нам… Андрей Фомич ревнует. Полячка закидывает на свой пай сети… Берегись попасться в один из этих силков. Есть о чем поразмыслить тебе и без полей с нахалами!
– Ты мне, дядюшка, новость поведываешь о полячке этой! Ей-от что до меня?.. Благо, вывез из татарщины.
– Ты дитя, Васенька! – со вздохом сказал старик. – Рано державный послал тебя в омут, что светом зовут… из теплого терема… Как – ей что до тебя? Рода ты знатного, из себя красавец; она – невеста. Да, может, и всего уж навидалась?! Пойми же сам, в каком она положении? Будь только она не латынка, я бы тебе сказал, что лучшей полюбовницы у нас с огнем не сыщешь… А то латынская блажь… Не приведи Господи, что за беда русскому человеку! А кабы приняла веру нашу – и рассуждать тогда не о чем – бери с руками ее. Лучше ведь, чем греховодить-вздыхать по чужой-от жене?
Этот упрек искреннего Никитина вскипятил желчь Васи, никак не мирившегося с мыслью, что отношения его к Зое действительно не оправдываются совестью.
– Выслушай, дядя, мою исповедь! Ты думаешь о Зое дурно, а обо мне еще хуже. Она меня жалеет, и таково сладко бывает мне с ней наедине оставаться… Поцелуи ее прожигают мне сердце… Я вижу, что она меня любит… да разве грех любить человека?
– Не мужа своего?.. Жене – грех! Уж и любовь ее одна делает тебя самого… преступником.
– Да я не совершил никакого преступления… Она! – И, красный как огонь, он не мог продолжать, закрыв лицо руками.
Принесли и подали письмо на имя князя Холмского. Никитин прочел по-польски содержание грамоты – это был ответ князя Очатовского на уведомление о спасении дочери. В письме князь приглашал Холмского в свою отчину; клялся, что считает себя неоплатным должником перед ним, и в заключение намекал, что рука княжны Марианны была бы предложена спасителю ее с горячею преданностью отца, если бы молодой человек изъявил желание на это. Что теперь возникает для Литвы дружественная связь с Москвою и браки русских бояр с литвянками или польками нисколько не могут встречать затруднения ни в заключении их, ни в утверждении прав на вено. В конце же письма высчитывал князь Очатовский свои маетности; объяснял, что он последний в роде: не имеет детей мужского пола. И он считал бы благословением Божиим, если бы устроилось дело так, чтобы можно было считать сыном своим спасителя дочери, без сомнения питающей к своему недавнему повелителю чувства вечной признательности, если не любви еще.
– Ну что ты скажешь на это, князь? – заботливо спрашивает юношу Никитин.
Холмский молчит. Им овладело незнакомое до того ему чувство смятения и нерешительности. Да вдруг возникла и Марианна со своими нежными взглядами из-под опущенных, казалось, ресниц перед воображением юноши, приняв новую, обаятельную прелесть. Образ Зои, однако, с ее страстными объятиями мало-помалу затмил черты соперницы, и, сделав над собою видимое усилие, не без глубокого вздоха томно отозвался наконец Вася Никитину:
– Отвечай, дядя Афоня, что княжну мы отправляем… немедленно… с присланными для препровожденья ее. А за ласку и честь благодарим покорно.
– Умно! Но подумай: не подсказывает ли тебе сердце другого ответа? Может быть, обстоятельства и не скоро еще приведут тебя на Русь? Деспот увезет жену… Меня – не будет… и придется жить в Польше… Как знать?.. Тогда княжна… и предложение отца ее могли бы, я думаю, представиться с интересом, уже не совсем согласным с первым твоим, мгновенным, может быть, теперешним решением?
– Оно не мгновенное, дядя Афоня! Когда я просил тебя уведомить князя-отца, я уже решился расстаться с нею… Различие вер… Любовь… к родине, – поспешил после минутного смятения закончить Вася, – все… заставляет меня решиться… послать княжну.
– Быть так!
Явились люди князя Очатовского, и на утро решен отъезд. Вечером по приглашению пленницы Вася явился к ней в сопровождении Никитина. Присутствие неожиданного свидетеля смутило ее, как видно, сильно: она хотела что-то высказать, но из речей ее выходило какое-то темное, не совсем понятное выражение тоски при расставании и боязни за переезд. Она, кажется, хотела бы, чтобы Вася сопровождал ее в дороге. Никитин со своей стороны с непрошеною словоохотливостью распространился о делах, не дозволяющих послам даже на один день оставить воеводу Стефана. Совсем уничтоженная, убитая горем, грустная дева церемонно подставила в конце концов щеку на прощанье, сама поцеловав в уста Васю. Дрожание очень заметное, невольный перерыв на несколько минут и это прощанье были ясными, красноречивыми комментариями борьбы, которую вела с собою полька, ожидавшая не такой развязки начинавшегося романа. Когда уже все было переговорено и запас фраз, видимо, истощился, а нагоревшие свечи указывали переход за полночь – Никитин встал. За ним поднялся машинально Холмский. Положив охолодевшую руку в руку недавнего своего повелителя, княжна Марианна с неохотою выпустила из своих пальцев эту полную руку молодого человека, остановив на нем бесконечный взгляд, полный нежности и упрека, как ему показалось.
В следующее утро княжна Очатовская уехала, а воевода Стефан позвал на совещание Никитина, приняв и деспота Андрея Фомича (обратившегося наконец к местному правительству). До того он от владетеля Молдавии скрывался. Рассуждения велись о путешествии шурина Ивана Васильевича, которому предлагал владетель Молдавии ехать через Сербию на Венецию. Деспоту же хотелось прокатиться по Венгрии, отправившись опять туда с московскими послами. Без Никитина Вася в своем помещении сидел один, погрузившись в глубокую думу. Он до того увлечен был мечтами или ожиданием бед в будущем, что, как вошла Зоя, как села подле него, не видел и не слышал даже. Из этой тяжелой задумчивости вывели его звуки знакомого голоса.
– Прости меня! – были первые слова деспины, так нежно прозвучавшие в ушах юноши и еще нежнее заключенные долгим поцелуем. – Теперь я вижу, что польке не удалось прельстить тебя. А как я боялась этого, – откровенно признается Зоя. – Я мучилась от неизвестности, томилась в печали и… сердилась на тебя. Даже была не в состоянии спокойно переносить горечь приносимых мне известий. Теперь я буду спокойна уже, – прибавила она со вздохом, облегчившим грудь ее, как казалось, совершенно. – Теперь я люблю тебя больше, чем когда-нибудь!
Объяснения страстной гречанки заключили дружеское примирение.
– Я прикинусь совсем холодною, и Андрей, теперь наполовину уже успокоенный, совсем забудет про свою гадкую ревность. Теперь он хочет с вами же вместе ехать в Венгрию; за тем и пошел к Стефану. Воевода получил новую грамоту из Москвы, и вы, вероятно, скоро должны ехать в Буду. В дороге мы будем неразлучны. Берегись только этого страшного человека – Максимова! Он перепугал меня своею злобою и планами мести тебе. Берегись его.
– Пустые страхи… Что он мне?
– Не говори этого. Он страшен в своей злости. Он, должно быть, даже коварен… готов на всякие средства. Ты в выражении любви ко мне будь осторожен… Однако… что это за странные звуки вдали?! Вот они уже ближе… Пойдем! Надо узнать, что это такое?
Зоя встала и пошла, закинув свою фату, за ней Холмский. У ворот встретили они четверых моснегов воеводы Стефана, несших к жилищу послов что-то тяжелое. Вася и Зоя последовали издали за несущими. Во входе спросили огня. Вышли со свечами, и при багровом свете факелов представился бесчувственный Никитин. Вася поспешил в свой терем, Зоя исчезла. Через минуту пришли воевода Стефан и деспот Андрей Фомич.
Воевода, искренне соболезнуя о несчастий, рассказал Васе происшествие.
– Все было ладно. Мы беседовали дружески. Пили токайское. Вдруг Афанасий покатился и упал без чувств с пеною у рта. Пустили кровь – едва потекла, но он перестал хрипеть; унялась и пена. Авось, даст Бог, успокоится, и это пройдет.








