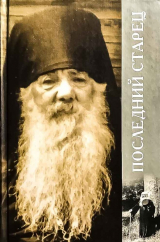
Текст книги "Последний старец"
Автор книги: Наталья Черных
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
В тюрьме людей много, а крыс еще больше. «А что поделаешь! Да творение Божие, не тронь ты меня, крыса, хвостом, не кусай ты мое грешное тело!»
Дня три посидели. «Собирайтеся с вещам!» «А какие у арестанта вещи? – восклицал батюшка. – Да ничего нет! Ладно. Погрузили вещонки в вагоны, поехали. Привезли в Самару. Пересыльная тюрьма. Там уж у них комендант распоряжается: «Эй, попы! Вон туды. Блатные, в эту сторону подите». На вышке охранник стоит с автоматом».
В самарской пересыльной тюрьме отец Павел вместе с другими заключенными встретил Пасху 1950 года. В этот день – воскресенье – выгнали их на прогулку в тюремный двор, выстроили и водят по кругу. Кому-то из тюремного начальства взбрело в голову: «Эй, попы, спойте чего-нибудь!»
«А владыка – помяни его Господи! – рассказывал батюшка, – говорит нам: «Отцы и братие! Сегодня Христос воскресе!» И запел: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав…» Да помяни, Господи, того праведного стрелка – ни в кого не выстрелил. Идем, поем: «Воскресения день, просветимся людие1 Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни и от земли к небеси Христос Бог нас приведе…»
В пасхальных песнопениях – а вся служба на Пасху поется – есть одно удивительное место: «К свету идяху Христе веселыми ногами». Как только я впервые услышала вот это – «Ко Христу идем веселыми ногами» – так сразу же вспомнила о. Павла в самарской тюрьме и Пасху 1950 года. С тех пор это песнопение для меня неразрывно связано с батюшкой. Из Самары повезли арестантов неизвестно куда. В вагонах решетки, хлеба на дорогу не дали. «Ой, да соловецкие чудотворцы! Да куды же вы, праведные, нас отправляете?» Едут сутки, двое, трое… Из дальнего окна горы видать. И снова – «с вещам!» Вышли все, собралися, стали на поверку. Выкрикивают вновь прибывших по алфавиту.
– А! Антонов Иван Васильевич! Заходи.
Номер 1 зашел.
– Августов… Заходит.
– Б!.. В!.. Г!.. Заходи! В зону, в зону! Гривнев, Годунов, Грибов… Донской, Данилов…
– А Груздева что нет? – спрашивает о. Павел.
– Да нету, – отвечают ему.
«Как нет? – думает. – Я у них самый страшный фашист. Не вызывают меня! Видно, сейчас еще хуже будет».
Всех назвали, никого не осталось, только два старика да он, Павел Груздев.
– Паренек, ты арестант?
– Арестант.
– И мы арестанты. Ты фашист?
– Фашист.
– И мы фашисты.
«Слава Тебе, Господи! – облегченно вздохнул о. Павел и пояснил. – Свои, значит, нас фашистами звали».
– Дак паренек, – просят его старики, – ты ступай к этому, который начальник, скажи, что забыли троих!
– Гражданин начальник! Мы тоже из этой партии три арестанта.
– Не знаем! Отходи!
Сидят старики с Павлушей, ждут. Вдруг из будки проходной выходит охранник, несет пакет:
– Ну, кто из вас поумнее-то будет?
Старики говорят: Так вот парню отдайте документы.
– На, держи. Вон, видишь, километра за три, дом на горе и флаг? Идите туда, вам там скажут, чего делать.
«Идем, – вспоминал о. Павел. – Господи, глядим: «моншасы да шандасы» – не по-русски всё крутом-то. Я говорю: «Ребята, нас привезли не в Россию!» Пришли в этот дом – комендатура, на трех языках написано. Заходим, баба кыргызуха моет пол.
– Здравствуйте.
– Чего надо?
– Да ты не кричи на нас! Вот документы настоящие.
– Э! – скорчилася вся. – Давай уходим! А то звоним будем милиция, стреляю!
– Ах ты, зараза, еще убьют!
– Завтра в 9–10 часов приходим, работа начнем! Пошли. А куды идти-то, батюшко? Куды идти-то?
Спрашиваем тюрьму. Да грязные-то! Вшей не было. Обстриженные-то! Господи, да Матерь Божия, да соловецкие чудотворцы! Куды же мы попали? Какой же это город? Везде не по-русски написано. «Вон тюрьма», – говорят. Подходим к тюрьме, звонок нажимаю:
– Передачи не передаем, поздно!
– Милый, нас возьмите! Мы арестанты!
– Убежали?
– Вот вам документы.
– Это в пересылку. Не принимают. Чужие.
Приходим опять в пересылку. Уж вечер. Солнце село, надо ночлег искать. А кто нас пустит?
– Ребята, нас там нигде не берут!
– А у нас смена прошла, давайте уходите, а то стрелять будем!
«Что ж, дедушки, пойдемте». А чё ж делать? В город от боимся идти, по загороду не помню куда шли напрямик. Река шумит какая-то. Водички попить бы, да сил уж нет от голода. Нашел какую-то яму, бурьян – бух в бурьян. Тут и упал, тут и уснул. А бумажку-то эту, документы, под голову подложил, сохранил как-то. Утром просыпаюсь. Первое дело, что мне странно показалось – небо надо мной, синее небо. Тюрьма ведь всё, пересылка… А тут небо! Думаю, чокнулся. Грызу себе руку – нет, еще не чокнулся. Господи! Сотвори день сей днем милосердия Твоего!
Вылезаю из ямы. Один старик молится, а второй рубашку стирает в реке.
– Ой, сынок, жив!
– Жив, отцы, жив.
Умылись в реке – река Ишим. Солнышко только взошло. Начали молитвы читать:
«Восстаете от сна, припадаем Ти, Блаже, и ангельскую песнь вопием Ти, Силъне: Свят, Свят, Свят еси Боже, Богородицею помилуй нас.
От одра и сна воздвигл мя еси, Господи, ум мой просвети и сердце…» Прочитали молитвы те, слышим: бом!.. бом!.. бом!.. Церковь где-то! Служба есть! Один старик говорит: «Дак вона, видишь, на горизонте?» Километра полтора от нашего ночлега. «Пойдемте в церковь!»
А уж мы не то чтобы нищие были, а какая есть последняя ступенька нищих – вот мы были на этой ступеньке. А что делать – только бы нам причаститься! Иуда бы покаялся, Господь бы и его простил. Господи, и нас прости, что мы арестанты!
А батюшке-то охота за исповедь отдать. У меня не было ни копейки. Какой-то старик увидал нас, дает три рубля: «Поди разменяй!» Всем по полтиннику, а на остальное свечки поставили Спасителю и Царице Небесной. Исповедались, причастились – да хоть куда веди нас, хоть расстреляй, никто не страшен! Слава Тебе, Господи!» Во городе большом
есть церковь новая.
Воздвигла Божий дом
сума торговая.
И службы Божий
богато справлены.
Икон подножия
свечьми уставлены.
И стар, и млад взойдет,
сперва помолится.
Поклон земной кладет,
кругом поклонится.
И клира стройное
несется пение.
И дьякон мирное
твердит глашение
о тех, кому в удел
страданье задано…
А в церкви дым густой
стоит от ладана.
«Выходим из церкви, – продолжал рассказ о. Павел, – а народу-то, старух-то около паперти! Увидали нас: «Це ж арестанты, це заключенные, це голодающие!» Там украинцы в основном. Матушки! Кто поляницы – хлеб так у них зовут, кто сушеных дынь, кто соленых арбузов, макитры с медом – кто чего нам навалили!
– Сынок, не утруждай желудок, – предупреждает меня старик, – лопнет с голоду-то!
– Батюшка, ем, да и лишка вроде, а охота…
– Ну, сытый?
Взял этот старичок буханку хлеба – поляницу, перекрестил, поцеловал и говорит:
– Спасибо вам, добрые люди! Вы нас, несчастных, на земле накормили, а вас Господь на небе накормит.
Дает мне буханку, второму старику – буханку. Идем городом, он спрашивает: – Парень, ты монах?
– Рясофорной.
– Где жил?
– В Хутыни.
– А я – грешный архимандрит Ксенофонт Верхотурского монастыря.
– Благослови, батюшка!
– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
– А ты кто, старик?
– А я грешный иеромонах Елисей, Соловецкого монастыря ветеринар.
– Благослови, батюшка!
– Бог благословит!
Идем – мы всех богаче! Буханку хлеба-то я дорогой съел. Есть охота! Приходим в это учреждение, в комендатуру. Тут уж не по номерам, а по фамилиям:
– Груздев!
– Да.
– Ну, что – святоша?
– Ребята, какой уж святоша, я грешный и окаянной.
– Работать можете?
– Да могу, наверно.
– Так вот что, заключенный Груздев, отправляем вас в Облстройконтору, там вам дадут работу.
– Давайте, ребята…»
Так началась ссыльная жизнь Павла Груздева в городе Петропавловске, где в первый же день причастились они со стариками-монахами в соборной церкви Петра и Павла. Настоятелем Петропавловской церкви был протоиерей Владимир Осипов. Исповедуя стариков, узнал он, что они служители церкви и обещал похлопотать за них. Восьмидесятилетнего архимандрита Ксенофонта определили вскоре в Петропавловскую церковь алтарником, сказав ему при этом в комендатуре: – А ты, дедушко, ступай в храм, тебя попы приютят. Иеромонаха Елисея отправили в колхоз, заведовать
фермой – видимо, сочли его трудоспособным. Отцу Елисею было 60 лет, да к тому же он имел специальность врача-ветеринара. А Павла Груздева в областной строительной конторе поставили на камнедробилку:
– Тебе, святоша, только камни дробить… У нас никто план не выполняет, а ты и подавно!
Жил он первое время в подвале школы вместе с другими ссыльными, много там было разного народа: и баптисты, и националисты, как говорил о. Павел – «до фига».
«Пришел на работу, – рассказывал батюшка, – как поглядел, а камни-то вот такие! Но план надо выполнять. Кувалду дали.
Утром-то работа начинается примерно с восьми, а я в шесть часов приду, да и набью норму, еще и перевыполню.
– Ох, – урки говорят, – попы нам дорогу засирают! Ну, чего тут сделаешь! Живу-то в подвале.
– Ребята, бриллиантовые, какие вы красавчики, глаза у вас, как огонь, черные!
Какой уж там огонь – киргизы! А они мне – иди в церковь, там попов много!
В Петропавловском соборе настоятель о. Владимир сразу Павла Груздева заприметил:
– Ты, паренек, петь умеешь!
Поставил его на клирос. И пел, и «Апостола» читал. «А грязный-то! – вспоминал о себе отец Павел. – Рубашки купить не на что еще! Получил зарплату – первым делом рубашонку да штанишки купил. А уж на ногах наплевать – что-нибудь…»
Однажды в храме подходят к нему старичок со старушкой, Иван Гаврилович и Прасковья Осиповна Белоусовы: – Сынок, – говорят, – приходи к нам жить.
Улица у них называлась так же, как в Тутаеве – имени Крупской, дом 14/42. «Двадцать рублей денег в месяц да отопление мое – поступил я на квартиру, – вспоминал о. Павел. – А тут собрание, землю дают.
– Груздев!
– Что?
– Вот земли целинной край. Надо земли?
Я дома спрашиваю:
– Дедушко, сколько брать земли-то?
– Сыночек, бери гектар.
Я прошу гектар. «Меньше трех не даем!» «Давайте три». Вспахали, заборонили, гектар пшеницы посеяли, гектар – бахча: арбузы, дыни, кабачки, тыквы, гектар – картошка, помидоры. А кукурузы-то! Да соловецкие чудотворцы! Наросло – и девать некуда. Прихожу к завхозу:
– Слушай, гражданин начальник, дай машину урожай вывезти.
– А, попы, и здесь монастырь открывают!
– Да какой тебе монастырь, когда и четок-то нету!
Ладно. Привезли всё. То – на поветь, то – в подполье, пшеницы продали сколько-то, картофель сдали, арбузы на самогонку перегнали, за то, за другое, за подсолнухи много денег получили! Да Господи, чего делать-то! Богач!»
Давно ли скитался бесприютный арестант по ночному пригороду Петропавловска – нищее нищего? А вот уже сыт и одет, и дедушка с бабушкой как родные, и хозяйство крепкое, словно «и здесь монастырь открывают»! Да и на работе премию дали за хороший труд.
– Дедушко, давай корову купим!
«А я в коровах толк понимаю, – рассказывал о. Павел. – Пошли с дедушкой на базар. Кыргыз корову продает. – Эй, бай-бай, корову торгую!
– Пожалуйста, берем.
– Корова большой, брюхо большой, молоко знохнет. Э, кумыс пьем! Бери, уступим!
Гляжу: корова-то стельная, теленка хоть вынь. Я говорю:
– Дедушка, давай заплати, сколько просит.
Взяли корову, привезли домой. Прасковья Осиповна увидела нас:
– Да малёры, да что же вы наделали, ведь сейчас околеет корова-то! Закалывать надо!
– Бабушка, попросим соловецких чудотворцев, может быть, и не околеет.
Корову на двор поставили, а сами уснули. Ночью слышу неистовый крик – старуха орет. Думаю: матушки, корова околела! Бегом, в одних трусах, во двор! А там корова двух телят родила. Да соловецкие! Вот так разбогатели!»
«Жить бы да жить и радоваться!» – как говорил о. Павел. Только в 50-м году нашли у него рак. «Вот здесь, на губе, – рассказывал батюшка валаамским монахам. – Пошел в больницу, врач говорит: «Ох, сейчас вырежу». Выдрали этого рака – и рака нету! С тех пор не бывало ничего».
Всё-то у отца Павла с шуткой-прибауткой – как будто не о страшной болезни вспоминал, а о забавном случае. А уж остроумия ему было не занимать, и оно частенько выручало его – даже в общении с уголовниками.
«А урки-то меня не любили, – говорил батюшка, – за то, что работал хорошо. Один из них как-то нарисовал мой портрет на стенке – я ходил не знаю в чем, а тут изображен в сапогах, в рясе, шапка, на шапке крест, и сам с кадилом и с крестом и написано: «Груздев – поп». И лицо мое. Ну, чего делать-то? Стирать? Я взял и подписал внизу: «Умный пишет на бумаге, а дурак на стенках». Пока в контору ходил, всё стерли!» И в лагерях, и в ссылке люди были самой разной национальности – латыши, эстонцы, украинцы, немцы, киргизы, туркмены – в общем, полный интернационал. И о. Павел как-то очень схватывал всякие словечки из других языков, ему нравилась эта определенная языковая игра, он чувствовал вкус речи не только русской. Бывало, сядет в Тутаеве за стол – а уже знаменитый старец – и начинает командовать:
– Так, керхер брод!
Кто знает эту игру, тут же подхватывает:
– Шварц или вайе?
Он говорит:
– Шварц.
Скажет «мэсса» – ему ножик подают, «зальц» – соль»
Из Казахстана вывез словечки: «агча» – деньги, значит, «бар» – есть, «йек» – нет.
Даже в батюшкином дневнике записано: «Кыргызы, когда проголодаются, говорят: «Курсак пропол».
И различия в вере решались о. Павлом как-то запросто.
Был у него сосед-туркмен по имени Ахмед. Однажды идет Ахмед на рыбалку с удочками:
– Паша, моя пошла рыбу ловить. Пойдешь со мной?
– А есть еще удочка?
– Есть.
Пошли. Приходят на речку.
– Твоя здесь лови, моя туда пошла.
«Покидал, – говорит о. Павел, – покидал – ничего не ловится. Вернулся домой, подоил корову. Потом прихожу на базар, а там две арбы рыбы. Я взял целое ведро рыбы за копейки, принес домой, смотрю – сосед идет, несет два хвостика жиденьких.
– Ну как, Ахмед, рыбалка?
– Да вот, плохо.
– А у меня вон ведро целое. – А ты где ловил?
– Да там же, где и ты.
– А как же так?
– А ты кому молился?
– Магомету.
– А я – Петру и Павлу.
Упал Ахмед на колени, руки к небу воздел и говорит:
«Петр и Паша! Бей Магомет наша!
Наш Магомет совсем рыба нет!»
Столько всяких людей и событий повидал о. Павел за годы своих лагерных странствий, что стал он как бы кладезь неисчерпаемый – иной раз диву даешься, чего только с ним ни случалось! Как-то раз командировали их, административно-ссыльных, в поселок Зуевку на уборочную. Совхоз Зуевка находился в тридцати-сорока верстах от Петропавловска и будто бы там что-то случилось: без присмотра осталась скотина, птица домашняя, урожай не убран. Но правды никто не говорит.
«Привезли нас на машинах в Зуевку, – рассказывал о. Павел. – А там что делается-то! Родные мои! Коровы ревут, верблюды орут, а в селе никого, будто все село вымерло. Кому кричать, кого искать – не знаем. Думали, думали, решили к председателю в управление идти. Приходим к нему… ой-й-ой! Скамейка посреди комнаты стоит, а на скамейке гроб. Мат-тушки! А в нем председатель лежит, головри крутит и на нас искоса поглядывает. Я своим говорю:
– Стой! – а потом ему: «Эй, ты чего?»
А он мне из гроба в ответ:
– Я новопреставленный раб Божий Василий.
А у них там в Зуевке такой отец Афанасий был – он давно-давно туда попал, чуть ли не до революции. И вот этот-то Афанасий всех их и вразумил: «Завтра пришествие будет, конец света!» И всех в монахи постриг и в гробы уложил… Всё село! Они и ряс каких-то нашили из марли да и чего попало. А сам Афанасий на колокольню и лез и ждал пришествия. Ой! Детишки маленькие, ба-м. – и все постриженные, все в гробах по избам лежат. Коров доить надо, у коров вымя сперло.
– За что скотина-то страдать должна? – спрашиваю у одной бабы. – Ты кто такая?
– Монахиня Евникия, – отвечает мне. Господи! Ну что ты сделаешь?
Ночевали мы там, работали день-другой как положено, потом нас домой увезли. Афанасия того в больницу отправили. Епископу в Алма-Ату написали – Иосиф был, кажется, – он это Афанасиево пострижение признал незаконным, и всех «монахов» расстригли. Платья, юбки свои надели и работали они как надо.
…Но семена в землю были брошены и дали свои всходы. Детишки маленькие-то бегают: «Мамка, мамка! А отец Лука мне морду разбил!» Пяти годков-то отцу Луке нету. Или еще: «Мамка, мамка, мать Фаина у меня булку забрала!» Вот какой был случай в совхозе Зуевка».
Начнут, бывало, в Верхне-Никульском бабки приставать к отцу Павлу:
– Батюшка, когда конец света?
А он этих разговоров терпеть не мог – о светопреставлении, об антихристе… Никакой новомодной мистики отец Павел не признавал, а относился ко всему реально, по-житейски.
Был еще такой случай в Петропавловске. На улице Крупской умерла соседка Прасковьи Осиповны и Ивана Гавриловича, звали ее Елена Ефремовна, а в просторечьи Ахремовна, подруга хозяйкина. «Хозяйка у меня вдруг варит квашёнку, – вспоминал о. Павел.
– Иван Гаврилович, что такое?
– На поминки пойдет, Ахремовна умерла. Самогонку делали вроде пива – 15 градусов – варили целую кадку и пили ковшиком. Ушла Прасковья Осиповна на поминки к подруге, а там старух набралось человек двадцать, над усопшей псалтирь читают.
«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых…»
– Врешь, не прочитаешь!
– Ну, давай еще по ковшичку нальем.
«Читали, читали, – рассказывал батюшка, – и уснули. Аух! Час ночи. Шли по Крупской два охломона:
– Давай зайдем, простимся с Ахремовной!
– Пойдем простимся.
Когда покойник в доме, дверь не запирают. Зашли – старухи все спят. И читалка спит, зараза, – по ковшичку хватили. Выпили и парни по ковшичку:
– Ахремовна, прощай!
Один говорит:
– Эх, Ахремовна, и читать-то по тебе некому – все спят.
А второй:
– Пускай сама читает!
Ахремовну из гроба приподняли, под голову повыше подложили, очки одели.
– Давай псалтирь-то!
Положили ей псалтирь и ушли. Читай сама!
Вот среди ночи одной старухе приспичило. Встала кума:
– А-а! Ахремовна читает! – как заорет.
И молнией из дома! Кто из окон, кто из дверей повыпрыгивали – все, никого нету! Ахремовна, читай сама!
У кого-то из мужиков ружье висело в клубе. Схватил ружье, в окошко наставил:
– Ахремовна, не шути! А то выпалю! Из обоих стволов!
Наутро приходит домой Прасковья Осиповна. Ей Иван Гаврилович и говорит:
– Ну что, малёра, помянула?» «У нас «дура», у них «малёра», – поясняет о. Павел.
С Прасковьей Осиповной и Иваном Гавриловичем, своими хозяевами, Павел Груздев жил душа в душу, как одна семья, они считали его своим сыном. Люди это были простые, глубоко православные – «и дедушко, и бабушка», как ласково называл их Павлуша. Как и в Вятских лагерях, сложилась у них небольшая православная общинка: монашек в ссылку привезли верхотурских – мать Егора, мать Тавифа, мать Асинефа, игумения Олимпиада Верхотурского женского монастыря, монахи с Соловков, отец Паласий…
Раз в месяц ходили отмечаться в спецкомендатуру Петропавловска – «придем, документы проверят, никуда не убежал ли». И вот у главного коменданта Юртонова, который им печати ставил, умер отец. А он НКВДешник, но отца захотел отпеть. «Его на кладбище принесли, – рассказывал о. Павел, – флаги спустили… А я говорю:
– Ребята, граждане начальство, разрешите и нам свое дело делать.
– Пожалуйста.
Запели мы на глас восьмый «Благословен Бог» и «Аллилуйя».
– Попы, попойте еще! – стали просить нас. – Приходите!
Аух, нельзя!»
Так день за днем, месяц за месяцем наступил и 53-й год. «Прихожу с работы домой, – вспоминал о. Павел, – дедушка мне и говорит:
– Сынок, Сталин умер!
– Деда, молчи. Он вечно живой. И тебя, и меня посадят.
Завтра утром мне снова на работу, а по радио передают, предупреждают, что когда похороны Сталина будут, «гудки как загудят все! Работу прекратить – стойте и замрите там, где вас гудок застал, на минуту-две…» А со мною в ссылке был Иван из Ветлуги, фамилия его Лебедев. Ой, какой хороший мужик, на все руки мастер! Ну все, что в руки ни возьмет – все этими руками сделает. Мы с Иваном на верблюдах тогда работали. У него верблюд, у меня верблюд. И вот на этих верблюдах-то мы с ним по степи едем. Вдруг гудки загудели! Верблюда остановить надо, а Иван его шибче лупит, ругает. И бежит верблюд по степи, и не знает, что Сталин умер!»
Так проводили Сталина в последний путь рясофорный Павел Груздев из затопленной Мологи и мастер на все руки из старинного городка Ветлуга Иван Лебедев. «А уж после похорон Сталина молчим – никого не видали, ничего не слыхали».
И вот снова ночь, примерно час ночи. Стучатся в калитку:
– Груздев здесь?
Что ж, ночные посетители – дело привычное. У отца Павла мешок с сухарями всегда наготове. Выходит:
– Собирайся, дружок! Поедешь с нами! «Дедушко ревит, бабушка ревит… – «Сынок!» Они за столько лет уже привыкли ко мне, – рассказывал о. Павел. – Ну, думаю, дождался! На Соловки повезут! Всё мне на Соловки хотелось… Нет! Не на Соловки. Сухари взял, четки взял – словом, все взял. Господи! Поехали.
Гляжу, нет, не к вокзалу везут, а в комендатуру. Захожу. Здороваться нам не велено, здороваются только с настоящими людьми, а мы – арестанты, «фашистская морда». А что поделаешь? Ладно. Зашел, руки вот так, за спиной, как положено – за одиннадцать годов-то пообвык, опыта набрался. Перед ними стоишь, не то чтобы говорить – дышать, мигать глазами, и то боишься.
– Товарищ Груздев!
Ну, думаю, конец света. Все «фашистская морда», а тут товарищ. – Садитесь, свободно, – меня, значит, приглашают.
– Хорошо, спасибо, но я постою, гражданин Начальник.
– Нет, присаживайтесь!
– У меня штаны грязные, испачкаю.
– Садитесь!
Всё-таки сел я, как сказали.
– Товарищ Груздев, за что отбываете срок наказания?
– Так ведь фашист, наверное? – отвечаю.
– Нет, вы не увиливайте, серьезно говорите.
– Сроду не знаю. Вот у вас документы лежат на меня, вам виднее.
– Так по ошибке, – говорит он.
Слава Тебе, Господи! Теперь на Соловки свезут, наверное, когда по ошибке-то… Уж очень мне на Соловки хотелось, святым местам поклониться. Но дальше слушаю.
– Товарищ Груздев, вот вам справка, вы пострадали невинно. Культ личности. Завтра со справкой идите в милицию. На основании этой бумаги вам выдадут паспорт. А мы вас тайно предупреждаем… Если кто назовет вас фашистом или еще каким-либо подобным образом – вы нам, товарищ Груздев, доложите! Мы того гражданина за это привлечем. Вот вам наш адрес.
– Ой, ой, ой! – замахал руками. – Не буду, не буду, гражданин начальник, упаси Господь, не буду. Не умею я, родной…
…Господи! А как стал говорить-то, лампочка надо мной белая-белая, потом зеленая, голубая, в конце концов, стала розовой… Очнулся спустя некоторое время, на носу вата. Чувствую, за руку меня держат, и кто-то говорит: «В себя пришел!»
Что-то они делали мне, укол какой, еще что… Слава Богу, поднялся, извиняться стал. «Ой да извините, ой да простите». Только, думаю, отпустите. Ведь арестант, неловко мне…
– Ладно, ладно, – успокоил начальник. – А теперь идите!
– А одиннадцать годков?
– Нету, товарищ Груздев, нету!
Лишь укол мне сунули на память ниже талии… Потопал я».
Дома дедушка с бабушкой встретили известие с великой радостью. В этот августовский вечер 1954 г. ссыльные – а было там человек двести – сняли самую лучшую квартиру и пели песни:
Ой да станут воды…
На душе у всех был праздник.
Два дня понадобилось, чтобы оформить паспорт – «он и теперь еще у меня живой лежит», как говорил о. Павел. На третий день вышел Груздев на работу. А бригадиром у них был такой товарищ Миронец – православных на дух не принимал и сам по себе был очень злобного нрава. Девчонки из бригады про него пели: «Не ходи на тот конец, изобьет тя Миронец!»
– Ага! – кричит товарищ Миронец, только-только завидев Груздева. – Шлялся, с монашками молился!
Да матом на чем свет кроет:
– Поповская твоя морда! Ты опять за свое! Там у себя на ярославщине вредил, гад, диверсии устраивал, и здесь вредишь, фашист проклятый! План нам срываешь, саботажник!
– Нет, гражданин начальник, не шлялся, – отвечает Груздев спокойно. – Вот документ оправдательный, а мне к директору Облстройконторы надо, извините.
– Зачем тебе, дураку, директор? – удивился товарищ Миронец. – Там в бумажке все указано.
Прочитал бригадир бумагу:
– Павлуша!..
– Вот тебе и Павлуша, – думает Груздев.
Разговор в кабинете директора получился и вовсе обескураживающим.
– А! Товарищ Груздев, дорогой! Садитесь, не стойте, вот вам и стул приготовлен, – как лучшего гостя встретил директор «товарища Груздева», уже осведомленный о его делах. – Знаю, Павел Александрович, всё знаю. Ошибочка у нас вышла.
Пока директор рассыпается мелким бисером, молчит Груздев, ничего не говорит. А что скажешь?
– Мы вот через день-другой жилой дом сдаем, – продолжает директор Облстройконторы, – там есть и лепта вашего стахановского труда. Дом новый, много квартирный. В нем и для вас, дорогой Павел Александрович, квартира имеется. Мы к вам за эти годы присмотрелись, видим, что вы – честный и порядочный гражданин. Вот только беда, что верующий, но на это можно закрыть глаза.
– А что ж я делать буду в доме вашем-то? – удивляется Груздев странным словам директора, а сам думает: «К чему все это клонится?»
– Жениться вам нужно, товарищ Груздев, семьей об завестись, детьми, и работать! – довольный своим предложением, радостно заключает директор.
– Как жениться? – оторопел Павел. – Ведь я монах!
– Ну и что! Ты семью заведи, деток, и оставайся себе монахом… Кто же против того? Только живи и трудись!
Нет, гражданин начальник, спасибо вам за отцовское участие, но не могу, – поблагодарил Павел Груздев директора и, расстроенный, вернулся к себе на улицу Крупскую. Не отпускают его с производства! Как ни говорите, а домой охота… Тятя с мамой, сестренки – Олька со шпаной, Таня, Лешка, Санька Фокан… Пишет Павлуша письмо домой: «Тятя! Мама! Я уже не арестант. Это было по ошибке. Я не фашист, а русский человек».
«Сынок! – отвечает ему Александр Иванович Груздев. – У нас в семье вора сроду не было, не было и разбойника. И ты не вор и не разбойник. Приезжай, сынок, похорони наши косточки».
Снова идет Павел Груздев к директору Облстройконторы:
– Гражданин начальник, к тяте бы с мамой съездить, ведь старые уже, помереть могут, не дождавшись!
– Павлуша, чтобы поехать, вызов тебе нужен! – отвечает начальник. – А без вызова не имею права тебя отпустить.
Пишет Павел Груздев в Тутаев родным – так, мол, и так, без вызова не пускают. А сестра его Татьяна, в замужестве Юдина, всю жизнь работала фельдшером-акушером. Дежурила она как-то раз ночью в больнице. Господь ей и внушил: открыла она машинально ящик письменного стола, а там печать и бланки больничные. Отправляет телеграмму: «Северный Казахстан, город Петропавловск, Облпромстройконтора, начальнику. Просим срочно выслать Павла Груздева, его мать при смерти после тяжелых родов, родила двойню».
А матери уж семьдесят годков! Павлуша как узнал, думает: «С ума я сошел! Или Танька чего-то мудрит!» Но вызывают его к начальству:
Товарищ Груздев, собирайтесь срочно в дорогу! Всё про вас знаем. С одной стороны, рады, а с другой стороны, скорбим. Может, вам чем подсобить? Может, няню нужно?
– Нет, гражданин начальник, – отвечает Павел. – Крепко вас благодарю, но поеду без няни. – Как хотите, – согласился директор.
«Сейчас и пошутить можно, – вспоминал батюшка этот случай. – А тогда мне было не до смеху. На таком веку – покрутишься, и на спине, и на боку!»
Для Прасковьи Осиповны и Ивана Гавриловича это было тяжелым ударом:
– Дедушко! Бабушка! Меня отпустили домой!
– Ничего не отдадим тебе, – расстроились старики. Все вещи, которые были у Павла – одежду и прочее, заперли в комод на ключ. – Приедешь обратно, всё твое будет!
Чтобы утешить стариков, пообещал Павел Груздев, что вернется к ним. А сам в чем был – в худой фуфайке, во всем рванье – сел на поезд, приехал домой. Но вернуться в Петропавловск ему уже не пришлось – вскоре после его отъезда умерла Прасковья Осиповна. «Думаю, из-за меня», – печалился отец Павел. Всю жизнь вспоминал их как самых близких людей, как отца с матерью. На старинном дореволюционном евхаристическом сосуде было у него выгравировано в церкви в селе Верхне-Никульском: «Прасковья. Иоанн». Это – петропавловские дедко и бабка, чей дом стал для него, ссыльного изгнанника, родным домом на далекой чужбине…








