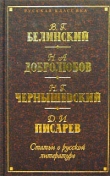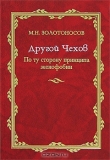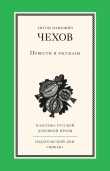Текст книги "Журнал Наш Современник №7 (2004)"
Автор книги: Наш Современник Журнал
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Меня не сломит ни стужа,
Ни бешеный шквал огня,
Родина, дай мне оружье,
В строй призови меня!
В 1944 году пролег путь его 119-й гвардейской морской дивизии по тем местам, где жил теперь Иван Васильев, и, конечно, Овидию Михайловичу хотелось вернуться во фронтовую юность. Он даже написал по этому поводу стихотворение: “Тянет и давно и сильно – вяжут ноги пустяки! – Глянуть, как Иван Васильев здравствует в селе Борки”. И в 1989 году Овидий Михайлович собрался на День Победы к Ивану Афанасьевичу. Вернувшись, он с восторгом рассказывал нам, писателям, какую огромную и благородную цель поставил знаменитый очеркист, создавая культурный центр. 45 лет не был Овидий Михайлович в этих местах. Помнил город Великие Луки в руинах. Тогда, по словам Ивана Васильева, “исконно русская, скупая на хлеб, щедро политая кровью Псковщина” была разорена до серого пепла. А теперь и город был восстановлен, и Борки гостеприимно встречали фронтовиков.
От Великих Лук до Борков около сорока километров, и все машины идут туда на праздник фронтовой поэзии, который проводился уже в пятый раз. Гостей встречала Фаина Михайловна. Иван Афанасьевич оказался в больнице. Сердце. Но вырвался, чтобы повстречаться с долгожданными гостями.
В районе считали Васильева мечтателем и фантазером. Еще бы: взялся с кучкой единомышленников осилить такое неподъемное дело. Но Овидий Михайлович и другие писатели-фронтовики, художники с восторгом оценили его дело как подвижничество во имя народа и для народа. Гости прибыли не с пустыми руками. Писатели привезли библиотечки, а художники – свои полотна. Ведь продолжала в Борках расти картинная галерея. В этом году приехали на выставку академики живописи, народные художники братья Ткачевы – Сергей Петрович и Алексей Петрович, а также председатель правления Союза художников России Валентин Михайлович Сидоров. Академики предложили устроить в Борках свою персональную выставку. Благодаря поддержке живописцев открылась в Борках студия “Юный художник”. И опять всех тронули слова Ивана Афанасьевича: “Без помощи города духовное обнищание деревни не остановить!”.
Восхитил Овидия Михайловича Дом экологии. Такого он еще не встречал. Экологическое, а значит, нравственное воспитание человека, особенно молодежи, считал Иван Афанасьевич наиглавнейшим делом. Борки стали маленьким университетом. Оказывается, работала здесь “школа публицистов”, в которую съезжались журналисты чуть ли не из семи соседних областей.
Тут у Васильева тоже был свой взгляд. Овидию Михайловичу, немало лет проработавшему в газетах, было любопытно услышать взгляд известного очеркиста на публицистику.
“В первую очередь, – сказал он, – нужны знания, не верхоглядом на лету схваченные. Знание коренных сельских профессий, знание психологии крестьянства вообще и современного в особенности... И, конечно, знание экономики. Публицист – это непременно исследователь, настырный, въедливый, сам себе до конца не верящий, проверяющий и перепроверяющий свои выводы мнением десятков людей, лучше всего душевно близких и компетентных... А ещё публицист ни на минуту не должен забывать: всякое дело людьми славится, а бытие человека – это не только труд, но, если хотите, и быт. Во всем так или иначе проявляется душа человека. Вот к ней-то, душе, обращается публицист, а не к одному разуму. Я думаю, перед нами сейчас встал самый сложный “объект” – психология”.
Сильная сторона очеркиста Ивана Васильева как раз заключалась в знании психологии крестьян всех профессий, от председателя до пастуха. Поэтому так авторитетны были его суждения и выводы. И с большой охотой ехали журналисты в Борки на учебу в “школу публицистов”.
Овидий Михайлович рассказал о своих впечатлениях от поездки в Борки к Васильеву в газете “Кировская правда”. Я по-хорошему позавидовал ему, пожалев, что не собрался к Ивану Афанасьевичу.
Известный поэт, замечательный публицист и, если можно так сказать, организатор публицистики Сергей Васильевич Викулов, много лет возглавлявший журнал “Наш современник”, “открывший” прекрасных прозаиков и публицистов, прислал мне летом 2003 года свою выстраданную, взволнованно написанную книгу “На русском направлении”, в которой доверительно и достоверно рассказывает о близких ему писателях: Василии Шукшине, Александре Яшине, Ольге Фокиной, Николае Рубцове, Сергее Орлове, Александре Романове, о том, как ему нелегко было ставить на ноги “Наш современник”, выковывая злободневный, острый и, конечно, высокохудожественный журнал.
Добротный, обстоятельный очерк посвящен в этой книге Ивану Афанасьевичу Васильеву. По-моему, очень верно и четко отметил Сергей Васильевич трагедию Ивана Васильева. (Впрочем, многие из публицистов, стремившихся к перестройке, тоже пережили ее.) “Всей душой отдаваясь новому для себя просветительскому делу, Иван Афанасьевич вдруг стал замечать, поначалу даже не веря сам себе, что жизнь-то поворачивает совсем не в ту сторону, куда устремлялся он. В слове “перестройка” для него все явственнее стал раскрываться тайный и грозный смысл, из него выпадало корневое, главное – “стройка”. Каждый новый шаг в направлении “пере…” означал не обновление, не созидание, а его противоположность – разрушение.
Поняли это и широкие народные массы. Самым популярным суждением в низах стало: “Рыба гниёт с головы”. Убедились в этом люди и сами пустились “во все тяжкие”… “Цинизм политиков, – записал Иван Афанасьевич в своей “Тетради”, – передается народу, в людях исчезает всякое подобие совести. Таким букетом гадостей начинается капитализация России”.
Цифра “4” во всех датах жизни Ивана Афанасьевича оказалась значимой: родился 19 июля 1924 года, умер в декабре 1994-го, когда было ему всего 70 лет. Еще бы работать да работать, бороться за правду и справедливость, но не выдержало сердце. Умер за рабочим столом. Нынче, в 2004-м, отмечаем двойной юбилей Ивана Афанасьевича – светлый – 80-летие со дня рождения и горький – 10-летие со дня смерти.
Отрадно, что дело, начатое им, не заглохло: работает культурный центр в Борках, приходят и приезжают люди, чтоб увидеть все своими глазами, по-прежнему помнят его публицистику ветераны колхозного движения, литераторы-деревенщики, среди которых он по праву был главным закоперщиком.
Савва ЯМЩИКОВ • Вопросы простодушного (Наш современник N7 2004)
Савва ЯМЩИКОВ
ВОПРОСЫ ПРОСТОДУШНОГО
ТАК ЖИТЬ МОЖНО?
Начиная сегодня задавать вопросы, я не составлял специального плана и не старался определить очерёдность того или иного события, заставившего меня задуматься. Из огромной массы лезущих в голову сомнений буду отбирать наиболее жгучие и волнующие и делиться с тобой, мой читатель.
За последний месяц я уже второй раз попадаю в святая святых Госдумы. Не по своему, конечно, желанию. Эйфория, захлестнувшая чиновников от культуры, спешащих под радостные камлания журналистов отдать остатки трофейных коллекций Германии, заставила меня, посвятившего сей проблеме не один год жизни, подставить плечо Н. Н. Губенко, в одиночку вышедшему на борьбу с забывшей родство “культурной ратью”; по сей проблеме я ещё озадачу вопросами спешащих разбазарить государственные ценности.
Впервые я увидел так близко целый конгломерат народных избранников, озабоченных проблемами реституции. Сидящий рядом со мной паренёк, румяный, кудрявый, смахивающий на куклу Барби, зачитал громко, по бумажке, призыв к нации немедленно вернуть немцам всё, дабы не прослыть туземцами и зулусами! Поинтересовавшись у сидящего рядом депутата, кто есть сей пылкий вьюнош, узнал, что зовут его Владимиром Семёновым и славен он инициативами по узакониванию браков между геями и “гейшами”. Задавать ему вопрос, помнит ли он о своих дедушках и бабушках, хлебнувших горькую чашу военного лихолетья, после полученной информации было бесполезно. А вот следующего оратора я слушал с открытым от потрясения ртом.
Держа в руках погасшую трубку, соблюдая сталинские диктаторские паузы, напоминая говорящий бронзовый бюст, вечный депутат Говорухин пел громкую осанну тогда еще министру Швыдкому. Пожалев несчастного коллегу, так некстати для себя затеявшего процедуру сбагривания Бременской коллекции, создатель нашумевшего некогда сериала про Высоцкого с уверенностью и беззастенчивостью джигарханяновского Горбатого восторженно констатировал небывалый доныне расцвет отечественной культуры в отдельно взятых губерниях.
Особенно страстно говорил невозмутимый оратор о коренных сдвигах в истории современного кинематографа, достигнутых также стараниями министра Швыдкого, первого, по словам Говорухина, из занимающих министерский пост лица, умеющего общаться с чужеземцами и даже читать лекции на других языках.
Хотелось сказать: ответьте, господин Говорухин, в чём же вы видите расцвет русского кинематографа? Может быть, в еженедельно проводимых по всей многострадальной России фестивалях, на которых и показывать-то особенно нечего? Впрочем, извиняюсь, вам есть чем удивить публику. Раскрывая журнал “7 дней”, прежде чем добраться до сетки вещания, вынужден я любоваться фоторепортажами с этих “праздников, которые всегда с вами”. Как же любите вы и компании ваши раздеваться до исподнего и услаждать своими далеко не молодыми телесами озадаченных подписчиков и покупателей глянцевых журналов! Что бы сказали ваши кумиры и учителя, такие, как Довженко, Ромм, да те же Ростоцкий, Чухрай, Бондарчук, увидев эти фотонеглиже? К сожалению, больше вам показать нечего.
Правда, в последнее время появились такие удачные, идущие вразрез с пошлейшей масскультурой фильмы, как “Война”, “Звезда”, “Кукушка”. Но разве можно хоть как-то связывать их появление с заботами Швыдкого? Человек, заявивший на всю страну, что “русский фашизм страшнее немецкого”, должен бояться этих патриотических лент, как бес ладана. А режиссёр А. Рогожкин символизирует своим творчеством и независимой манерой поведения априорный протест против всего, что проповедует в своих шоу отставленный ныне культур-министр.
Прозвучала из уст депутата Говорухина в том же панегирике Швыдкому чеканная фраза: “Россия поднимается с колен”. У меня снова вопрос: “Где вы говорите правду, а где лжёте, господин Говорухин? В фильме “Ворошиловский стрелок”, встав на колено, одинокий старик метким выстрелом раздробил гениталии подонков, к сожалению, символизирующих молодую поросль России. Неужели вы так изменили свой взгляд на печальную картину российского быта, вызывающую в памяти библейское описание Содома и Гоморры? Посмотрев ваше интервью с вертлявым шоуменом Фоменко, я понял, что лжёте вы постоянно. Ведь это именно фоменки, ханги и дибровы воспитали подонков из “Стрелка”. Быстренько помогли молодёжи сесть на иглу, утонуть в матерщине и похабщине, наплевать на всякие нормы морали. А вы с ним беседуете, словно с Олегом Стриженовым, Алексеем Баталовым, Василием Ливановым или Жераром Филипом – подлинными кумирами нашей молодости, дарившими юным зрителям красоту, стремление к справедливости и желание помогать падшим. На мой вопрос о нищете наших музеев и библиотек, особенно в провинции, вы заявили, что с ранних лет путешествуете по России. Bы путешествуете, а я служу и работаю во всех её древних музейных городах. Потому говорю вам, отвечая на свой же вопрос: “Так лгать нельзя!”.
По окончании конференции поджидал я у парадного думского подъезда товарища и увидел, как холёный донельзя господин Говорухин поместился в комфортную “Ауди” с верным возницей и отправился продолжать путешествие по России. Так жить можно?
ТАК С КЕМ ЖЕ ВЫ, МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ?
Сейчас даже отнюдь не смышленому человеку понятно, чем обернулась для России бархатистая перестроечная революция конца прошлого века. Ну а что же наши славные мастера культуры? Наиболее хваткие и предприимчивые из них, объединённые умением снимать пенки далеко не с молока, прекрасно вписались в “демократическую” ситуацию. Собиравшиеся раньше на кухнях, зa столиками творческих ресторанов, поигрывая в диссидентство, но предусмотрительно не вступая в конфликт с законом и чураясь тюремного режима, на чем свет поносили они Бондарчука, Бондарева, Пырьева, Хренникова и прочих коллег по цеху, имевших доступ к номенклатурным кладовым. Доставалось от них даже близко не допускавшимся к кормушке провинциальным талантливым самородкам Распутину, Носову, Белову, Астафьеву, сумевшим стать любимыми писателями русского народа. Ах, как хотелось обиженным и обойдённым барской любовью творцам взять в свои руки ключи от спецраспределителей! Мечталось, с юморком писал Окуджава в одной из песенок, как зайдёт он со временем “К Белле (Ахмадулиной) в кабинет, заглянет к Фазилю (Искандеру)”. И ведь дождался талантливый бард счастливых времён! Прежде всего дошёл до ушей новых бар – ельцинской клики – кровожадный вопль Окуджавы, Мордюковой и других “народных артистов” Союза. “Раздавите гадину, дорогой Борис Николаевич!” Знали они – “гадины” типа Руцкого и Хасбулатова обижены не будут, а то, что сотни чистых, невинных людей погибнут в кромешном аду Белого дома, их не волновало. Это Короленко, Чехов, Поленов, Серов и другие светочи нашей культуры плакали и отказывались от почётных званий и привилегий, увидев кровь на петербургском снегу в 1905 году. Нет, нынешние, наоборот, постарались урвать со стола распоясавшихся хозяев куски пожирнее.
Разве снились прошлым мастерам культуры панибратство и беззастенчивость нынешних “просветителей народных”? Я всё время спрашиваю себя: когда они устанут увенчивать друг друга бесконечными премиями, призами, титулами, денежными вознаграждениями и даже памятниками? Да-да, я не оговорился, именно памятниками!
Забыв о том, что во всём мире существует правило ставить монументы людям творческим лишь по прошествии полувекового срока, наскоро слепили они на Арбате скульптурный ансамбль в честь Окуджавы. Не беда, что чем-то напоминает статуя эта “монументы” дешёвому проходимцу Остапу Бендеру. “Порыв души” барда, призывавшего раздавить сотни людей в октябре 1993 года, сполна оплачен.
Удивляюсь я, как торопятся в России воздвигнуть во что бы то ни стало и как можно скорее монумент другому поэтическому “классику” – Иосифу Бродскому. Забыли инициаторы установки статуи Нобелевскому лауреату, что нет в России памятников Ахматовой, Цветаевой, Шостаковичу, Прокофьеву, Станиславскому. Продолжение списка этого займёт несколько строк. Забыли напрочь строки о том, что “быть знаменитым некрасиво”. Какое! Во всеуслышанье с экранов своего телевидения и со страниц собственных газет называют они себя “духовной элитой нации”! Титул сей прочно закрепился за “бессмертным” жюри премии “Триумф”, возглавляемым делопроизводительницей Зоей Богуславской – верной музой Вознесенского-поэта. Бумажником сей премии, до недавних пор щедро оттопыренным г-ном Березовским, распоряжается один из верных слуг ельцинской семейки – Шабдурасулов. И ведь берут украденные у народа денежки элитные лауреаты! Как-то юная журналистка спросила у одного из “бессмертных” – Юрия Башмета (лет пятнадцать назад, посмотрев мои передачи об искусстве русской провинции, пригласил он меня в свою рубрику “Вокзал мечты”, и о тех днях остались самые светлые воспоминания), не жгут ли руки лауреатов “берёзовые” деньги. Услышав ответ маэстро, я опешил. Он сравнил Березовского с былыми властителями Венгрии – Эстергази, платившими Паганини, и с баронессой фон Мекк, помогавшей любимому ею Чайковскому…
Обжёгся на денежках “триумфальных” В. П. Астафьев (Царствие ему Небесное). Получил десяточку тысяч грязно-зелёных и не заметил, как запел осанну ельцинской камарилье, потеряв такого друга, как совестливый русский талант Валентин Распутин. Совершив опрометчивый шаг, жаловался потом, что по ночам снится ему иркутский друг и, просыпаясь, он плачет, зная, что не может с ним поговорить.
С мастеров культуры не всегда строго спросишь – богема, понимаешь. Наши культуртрегеры берут деньги у криминала и заодно народ просвещают. “Пипл схавает”, – как любит выражаться политидеолог нынешней России телеакадемик Познер.
Так с кем же вы, мастера культуры?
ТЕЛЕВИДЕНиЕ, ТЫ ЧЬЁ?
Недавно мне позвонил артист Валентин Гафт. Я люблю этого искреннего, взрывного, эмоционального, по-настоящему остроумного и отзывчивого человека, с которым знаком не один десяток лет. Самобытный и одарённый актёр одним из первых откликнулся на мой призыв почтить память величайшего творца отечественного кинематографа – Ивана Герасимовича Лапикова, написав для создаваемого музея волжского самородка проникнутое любовью эссе, где назвал его “Шаляпиным русского театра и кино”. Посылая Валентину журнал “Север” с подборкой о Лапикове, я вложил в конверт несколько своих последних статей и интервью. “Старик, я полностью разделяю твои взгляды на окружающую нас действительность и боль за тяжкую судьбу нынешней России, – взволнованный голос Гафта не оставлял сомнения в его неподдельном переживании, созвучном моему душевному настрою. – Только почему ты печатаешься лишь в “Литературке” и “Завтра”? Надо рассказывать об этом на телевидении, ведь когда-то твоя программа на ЦТ пользовалась успехом у зрителей”.
Дорогой Валя, извини, на твоё искреннее пожелание видеть меня на телевидении могу ответить лишь массой вопросов, возникающих всякий раз, когда включаю я “ящик для идиотов”.
Почему, скажи мне, Валентин, с утра до вечера не вылезают из телекоробки бездарные люди, старающиеся зрителя рассмешить? Ведь только зомбированные люди могут без чувства брезгливости смотреть на пошлые потуги всяких аркановых, винокуров, ширвиндтов, петросянов с жёнами, уставшего от незаслуженной популярности Жванецкого с засаленными листочками, по которым читает он полувековой давности протухшие остроты. Не странно тебе смотреть, как разомлевшая от летней жары аншлаговая компания Дубовицкой, обнажив свои не первой свежести телеса, пудрит мозги жителям русской провинции в страдную пору, когда нужно урожай собирать, а не Клару Новикову с Шифриным слушать? А стал бы ты за обеденным столом шутить с Новожёновым, человеком, лишённым не только чувства юмора, но и абсолютно серым и скучным? А не хочется ли тебе сказать всё, что ты о нём думаешь, ростовскому полуплейбою Диброву, путающему Толстого с Достоевским, Москву с Петербургом, но чувствующему себя на равных с людьми значительными, талантливыми и действительно умными? Мне кажется, окажись на его передаче сам Бог, он и его, похлопав по плечу, опустил бы до уровня Эрнста.
Талантливый русский композитор Валерий Гаврилин ещё лет тридцать назад написал, что чем хуже жизнь в стране, тем больше пошлого юмора на сцене. Что бы он сказал нынче?
А не устал ли ты, дорогой Валентин, от постоянной лжи телевизионных гуру? Не вздрагиваешь ли ты, когда Познер, еще лет пятнадцать назад поливавший Америку зловонной грязью, требует теперь от нас жить по стандартам его второй Родины? Не страшно ли тебе было слышать, когда он назвал свою передачу о гибели “Курска” творческой удачей?
А сколько у этого главного телеакадемика апологетов и последователей! Случилось мне в день начала варварского вторжения бушевских стервятников в Ирак оказаться в Афинах. Греческое телевидение по всем каналам передавало гневные репортажи своих корреспондентов, на экранах постоянно высвечивались логотипы: “Боже, покарай варваров!”, “Господи, помоги невинным жителям Ирака!”, “Когда кончится этот кошмар?” Улицы Афин, прилегающие к американскому посольству, осаждали десятки тысяч протестующих. А на нашем “самом первом” канале доморощенная Шарон Стоун – Сорокина посадила на судейские скамейки пронафталиненных маргиналов. Не моргнув глазом, пропели они осанну любимцам своим американским, убеждая зрителей, что для России иракский кризис опасности не представляет, коснуться нас не должен, и “любимый город может спать спокойно”.
А не хочется ли тебе, Валентин, сказать пару ласковых слов осклизшему от лжи Караулову, беззастенчиво нацепившему на свой парадный мундир орден кавалера “Момента истины”? Этот пай-мальчик, наделав столько пакостей на заре становления в России воровской рыночной экономики и эрзац-демократии, упивавшийся поступками клики Ельцина и восторгавшийся кумирами образца лживой сирены Митковой, обличает теперь жуликов, переживает за народ и, вместе со своим крокодилом съев немереное количество народных денег (на честно заработанные его супердачу не приобретёшь), льёт ручьями фальшивые слезы.
Задавался ли ты, Валентин, вопросом, почему нашими телесобеседниками являются только обозначенные мной выскочки, не дающие и слова сказать людям с иными взглядами, убеждениями и манерой держаться? Когда ты в последний раз видел на экране Валентина Распутина, Василия Белова, Александра Солженицына, когда слышал с экрана о Владимире Максимове, Леониде Бородине, Татьяне Глушковой (куда уж нынешним обласканным и увешанным премиями поэтам до её стихотворения “Когда не стало Родины моей...”), Александре Гинзбурге, Владимире Осипове? Зато, словно больного касторкой, пичкает нас канал “Культура” аморфной болтовнёй пошляка Ерофеева, откровениями неоткровенного Войновича, а самое страшное – фиглярскими шоу экс-министра Швыдкого? Не охватывает ли тебя ужас, когда ты читаешь заголовки в телепрограммах: “Русский язык без мата не существует”, “В России любят только за деньги”, “Музеи – кладбище культуры”, “Русский фашизм страшнее немецкого”? Я не трусливый человек, но боюсь этих передач, ибо они напоминают мне сцены из фильма “Кабаре” и обстановку в Германии начала тридцатых годов прошлого века, а ты знаешь, к чему привели выходки тогдашних швыдких.
Чаша моего терпения переполнилась при лицезрении последнего министерского прикола под названием “Журналистам русский язык не нужен”. Какие-то временщики оплёвывали самое святое, что нам дано от Бога – слово, которое было в начале начал. И шоумен-министр скалозубил вместе с “образованцами”, поддакивал им, вместо того чтобы возбудить уголовное дело в защиту отечественной словесности. А резюме сего непотребного зрелища, прозвучавшее из уст Швыдкого, не поддаётся описанию. Согласно министерской логике, вся история становления русского языка зиждется на варваризации “великого и могучего” каждым последующим поколением писателей и поэтов. А самый главный варвар, оказывается – Александр Пушкин…
Поверь мне, Валентин, когда я смотрел издевательскую вакханалию над русским языком, слезы подступали к горлу и слышалось мне: “Распни его, распни!” Успокоился я лишь на следующий день, когда получил очередной номер стоящего на страже традиций родного языка журнала “Север”, где были опубликованы последние стихи иеромонаха Романа, и среди них – четверостишие “Родная речь”.
Родная речь – Отечеству основа.
Не замути Божественный родник,
Храни себя: душа рождает слово,
Великий святорусский наш язык.
Словами псковского подвижника и обережёмся, Валентин, от суетливых нечестивцев, прячущих под псевдокультурной личиной непотребство и цинизм.
Так чьё же ты, “родное” телевидение?
КОМУ И КТО ПАМЯТНИКИ ВОЗДВИГАЕТ
НЕРУКОТВОРНЫЕ?
Самые разные вопросы не перестают преследовать меня, простодушного. И, как правило, связаны они с конкретными проявлениями быстротекущей жизни.
Десант, который удалось нам счастливо “забросить” во Псков накануне его 1100-летия, поздним уже вечером передислоцировался из древнего города в Святые Горы, к землям ганнибаловским и пушкинским. Основная группа десантников, состоящая из Г. С. Жжёнова, В. И. Юсова, В. И. Старшинова и М. Е. Николаева, заместителя председателя Совета Федерации, уместилась в микроавтобусе, а мы с гостеприимным В. Я. Курбатовым шли в авангарде на надёжной “Ниве”, профессионально ведомой тележурналистом В. С. Правдюком. Стена изливающегося третий день июньского дождя не помешала вседорожнику свернуть с трассы там, где был указан путь к мемориалу, установленному в районе трагической гибели выдающегося лётчика, одного из столпов отечественной военно-морской авиации, Героя России Тимура Апакидзе.
Каким простым и значительным предстал перед нами символ памяти бесстрашному воину и человеку среди псковского многотравья и омытых дождями лесов! Я плакал, когда увидел два года назад скупые телесообщения о внезапной катастрофе, унёсшей жизнь ещё одного из настоящих людей России. Затерялись тогда скупые кадры в калейдоскопе телешоу и болтовне временных хозяев жизни. Не было и намёка на подлинную скорбь в том сообщении, профессионально озвученном дикторами-щелкунчиками. Да хорошо хоть не обошли вовсе молчанием, как забыли про геройский поступок молодого русского воина Евгения Родионова, отказавшегося снять православный крест с груди и принявшего мученическую смерть от бандитов в окровавленной Чечне. Так же, как и псковский мемориал, скромна могила Евгения, появившаяся благодаря подвигу матери, не один месяц рисковавшей жизнью и с Божией помощью получившей сыновьи останки у басаевских отморозков.
Возвращаясь к машине, мы сначала молчали, а потом задались вопросом: почему, когда умирает незадачливый сатирик-драматург, телеящик месяцами заставляет нас скорбеть о “невосполнимой утрате”? Случайно подсевший в самолёт к нефтяному королю Зие Бажаеву предприимчивый и везучий журналист, мальчик из благополучной семьи Артём Боровик погиб в результате технических неполадок машины. Понятна скорбь родных и близких по ушедшему безвременно сыну, отцу, мужу. Но сколько же месяцев изо дня в день газеты и электронные СМИ безрезультатно искали злую руку террористов и, не найдя её, устраивали многолетние пышные поминки на виду у всей страны, открывали парк имени Тёмы Боровика, создали фонд, ему посвящённый. Поняли мы под тем июньским ливнем, что памятники Тимуру Апакидзе и Евгению Родионову (кстати, в церковных лавках сегодня продаются жизнеописания воина-мученика) нерукотворны, ибо они от Бога, а не от лукавого, и посему станут путеводными звёздами для нарождающейся в глубинке молодой и не тронутой ржою России.
Лукавый так и старается опошлить любое, самое светлое событие. Даже 1100-летний юбилей Пскова. Вот уже полгода пытаемся мы доказать местным властям, что нельзя в рамках одного торжества открывать одновременно два памятника основательнице города Святой Равноапостольной княгине Ольге. Да они и не виноваты, псковские начальники. Я знаю, что умный и заботливый губернатор Е. Э. Михайлов как мог отбивался от “подарков” московских ваятелей. Самый веский аргумент “данайцев, дары приносящих”: монументы устанавливаются безвозмездно. Безвозмездно для Пскова, но ведь кто-то их оплатит, ибо справедливы слова, свидетельствующие о том, что “сколько от одного места убудет, столько в другом – прибудет”. Может, не надо москвичам из жителей славного города-юбиляра делать земляков щедринского Глупова, а на то, что “прибудет”, отреставрировать разрушающиеся священные памятники Св. Ольге – древние псковские храмы?
Но кто в чаду охватившей страну монументальной пропаганды зрит в исторические корни? Разве подумал скульптор А. Рукавишников, сажая в неприличной позе Ф. М. Достоевского у входа в Государственную библиотеку, как скромный до болезненности писатель отнёсся бы к идее быть дважды увековеченным в Москве? Да ведь у отчего его дома уже стоит прекрасное изваяние. А что бы сказал М. А. Булгаков по поводу уничтожения Патриарших прудов во имя несуразной скульптурной композиции того же скульптора, проникнутой духом бесовства? Спасибо московским старожилам, под колёса грузовиков со строительными материалами лёгшим и прекратившим надругательство над первопрестольной.
В дореволюционной России наиболее значимые памятники строили на собиравшиеся народом пожертвования. Жертвователи и выбирали лучший проект и наиболее полюбившегося ваятеля. А разве спросили у народа культуртрегеры из “Альфа-банка” и американского Гугенхаймовского центра, нужно ли увековечивать столь поспешно образ поэта И. Бродского, когда прошло так мало лет со дня его кончины и неизвестно, будет ли он знаковой фигурой для отечественной (?) культуры. Может, лучше было бы поставить памятник Блоку, или Шостаковичу, или Станиславскому?
Эрнст Неизвестный, широко развернувшийся при установке магаданского мемориала жертвам ГУЛАГа, не уступив по размаху и мощи незабвенному Е. В. Вучетичу, нынче готовит проект “Памятника Водке”. Да-да, водке, господа, в древнем Угличе, где одна из самых страшных проблем нынче – всенародный бич пьянства. Заокеанскому просветителю, на которого молится местное начальство (как же: у них есть – и они им гордятся не меньше, чем древними церквями – музей водки!), плевать на наши проблемы. Главное – авторское честолюбие потешить. Тем более прецедент имеется – болванчики в честь всероссийского алкоголика Венечки Ерофеева уже установлены на трассе “Москва – Петушки”. В. П. Астафьев, сам человек, пивший немало, чуть ли не плевался, предавая остракизму прославление сошедшего с круга горе-писателя. А вот на днях ещё один полуамериканец, поэт-вития Евтушенко написал, что Венедикт Ерофеев пребывает в одном пантеоне с Гоголем, а вот мелкотравчатый Виктор Ерофеев (и придумает же Бог такое совпадение фамилий) достоин лишь участи пошлейшего “Вечного зова”, сотворённого А. Ивановым. Но уж популярность ивановской эпопеи в прежние времена перекрывала временную славу Евтушенко и иже с ним, да и по сей день телевизионные рейтинги “Вечного зова” необычайно высоки.
Понимая, что вразумительных ответов на мои простодушные вопросы я от упомянутых творцов не дождусь, хочу напомнить им скверный анекдот про И. С. Тургенева, “который написал “Муму”, а памятник поставили совсем другому человеку”.
Может, ты, дорогой читатель, ответишь, кто памятники себе творит нерукотворные?
ЗАЧЕМ РАСПИНАТЬ ЛЮБОВЬ ЗЕМНУЮ?
Вообще-то я сегодня хотел озадачить читателя и своих “героев” совсем другим вопросом. Но, вернувшись в Москву после полуторамесячного счастья жить в Михайловском и Изборске, включил телевизор и вместо новостей наткнулся на самую пошлую (после, конечно, швыдковской выгребной ямы) передачку “Апокриф”. А там, в продолжение зимней программы экс-министра “В России секса нет”, та же сладострастная, циничная и очень некрасивая тусовка обсуждала проблемы любви с точки зрения сексопатологов, гинекологов и “духовной” нашей “элиты”. Ну, меня и прорвало, вопросы так и полезли в голову, один страшнее другого.
Раньше меня, много лет работавшего на ТВ, возмущала цензура, запрещавшая показывать в кадре храмы с крестами, называть иконы иконами, а не картинами, восторгаться красотою русского лада и старыми культурными традициями. Теперь ясно, как так называемые коммунисты – ярославский мужик А. Яковлев и промозглый коминтерновец Б. Пономарёв – рьяно ненавидели всё русское и ставили нам палки в колёса.