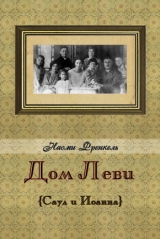
Текст книги "Дом Леви"
Автор книги: Наоми Френкель
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Начался летний день, зрелый, насыщенный изобилием. Земля была подобно кормящей матери, и люди приникали к ее обильной груди, жадные до ее насыщающего молока, до обилия ее плодов, до ее красок и оттенков, воспламеняющихся и воспламеняющих, до ее нив, с которых уже скошены колосья и собраны в снопы.
И в такой день, обычный среди обычных, сидит утром Иоанна во дворе, в тени деревьев. Сидит в компании свиней, и, как обычно, читает книгу, морща лоб, словно сто лет прошли над нею. Дед пытается закармливать гусей. Саул и Бумба развлекаются тем, что перекатывают железный обруч друг другу. Агата стоит у окна кухни, ощипывает курицу, и, как обычно, это действие – резни и ощипывания – совершается в ее руках проворно и плодотворно. И звуки песни о разбойнике у пруда, отнимающего несчастную жизнь у девушки, сопровождают летящие перья. И Руди, как обычно, набивает желудок и никак не может насытиться. И даже ревматизм, который мучает его правую ногу, и обычно является проверенным знаком близящейся бури и непорядка, сегодня его не доводит.
И внезапно – как гром среди ясного дня – возникает катящий на велосипеде почтальон в своей синей форменной одежде, и в руках у него трепещет, как рыба, – телеграмма.
– Телеграмма! – все окружают деда. Он вытирает руки о синий передник, который, по указанию Агаты, предназначен для кормления гусей, и, не суетясь, открывает телеграмму.
– Это от отца вашего, дети. Завтра он приезжает. А послезавтра вы возвращаетесь домой. Завтра годовщина смерти вашей матери. Годы бегут…
И дед неожиданно опускает руки, нагибает голову, невидяще смотрит куда-то вдаль.
– Да, да, торопятся годы. Завтра годовщина смерти вашей матери…
– Господин Леви приедет? Иисусе Христе и Святая Дева! Руди! Надо поискать скульптуры на чердаке, и эту картину с голой женщиной, да будет проклято ее имя. Надо ее снести с чердака. А Святую Женевьеву надо закутать в простыню и поднять на чердак. Если этот осел, сын осла, успеет это сделать, я проглочу аршин – и Агата падает на стул в кухне и вздыхает.
– Руди! Первым делом, скульптуры! Ты слышишь? Ох, эти статуи, Иисусе Христе!
Когда Агата пришла служить в этот дом, он был полон скульптур. Улыбающаяся Диана, Анакреон – поэт вина и любви, Амур, обнимающий Психею на глазах у Агаты. Ей стало тошно.
– Она или я! – сообщила она тут же деду. – Я не язычница, У меня душа верующей христианки.
Дед вздохнул, и скульптуры были отправлены на чердак. Вместе с ними туда же была изгнана картина Тициана «Венера», которая висела в столовой.
– Быть так, совсем обнаженной при свете дня! – Агата покраснела.
Дед пытался остановить изгнание Венеры и рассказал Агате, какой это великий художник – Тициан.
– Глупости, – прервала его Агата, – такая есть и у нас в городке.
Пошла Агата и купила картину Святой Женевьевы, в длинном, до пят, одеянии. Но что господин Леви понимает в Женевьевах и во всех тех красивых изречениях, которые Агата выткала красными буквами на желтой ткани и повесила их в доме, как, например: «У относящегося к копейке свысока – радость невелика». И еще разные другие сентенции. Но у господина Леви другой вкус, отличающийся от вкуса Агаты. Скульптуры спустили с чердака, и «Венера», пропади она пропадом, опять красуется в столовой во всей своей наготе, лишенная всякого стыда, и служанки тщательно убирают дом к приезду господина Леви.
Все сразу же изменилось. Даже Руди превратился в Геркулеса и пошел, согласно мифу, вычищать конюшню. Песком засыпали навозную лужу во дворе. Свиней убрали в загон, кур – в курятник. Рабочий вилами сгребает листья с тропинок в саду. Вид усадьбы абсолютно преобразился, и веселые лица становятся серьезными. И когда ты прогуливаешься по двору, посыпанному гравием, кажется, вся усадьба скрежещет зубами. Детей охватывает печаль. Саул ничего не понимает в этом внезапном преображении, и даже Иоанна захлопывает книгу, и говорит придушенным голосом:
– Отец приедет. Вечером всех ждет горячая ванна. Завтра прощаемся с дедом. Отец – та еще колючка. Колючка из колючек.
Саул тут же прячется за вазон, в тень растения с широкими листьями, стоящего на деревянной свае в прихожей. Впервые он чувствует себя чужим в этом доме. Как человек, просящий свободного доступа в запрещенный ему мир. Всевышний Боже, как все изменилось! Агата, волосы завивкой, в голубом шелковом платье, вся светится, передник сверкает белизной, устремляет острый взгляд на Бумбу и Иоанну: только сохраняйте чистоту, не пачкайтесь! А Иоанна и Бумба? Их не узнать. Тоже светятся чистотой. И даже дед повязал галстук на новую рубаху, и нарядился в костюм, который Агата отглаживала не менее часа.
Дед и господин Леви стоят друг против друга.
– Как здоровье? – спрашивает дед. – Что говорят эти твои сапожники в Давосе?
– Более, или менее, здоровье нормальное, отец.
«Странно, – думает про себя Саул. Кто-то зовет такого деда отцом. И такой серьезный на вид человек, у которого седина покрыла виски. И ходит он, выпрямив спину, одет с иголочки с ног до головы, что не дает ему даже слегка наклониться. А выражение его лица говорит: лучше ко мне не приближаться.
– Как ваши дела, дети?
– В порядке, спасибо, папа, большое спасибо.
– Госпожа Агата, у вас тоже все в порядке?
– Премного благодарна, уважаемый господин Леви.
Саулу кажется, что даже голоса всех изменились и слегка охрипли.
И тут – как это случилось? У сваи под вазоном, очевидно, ножка оказалась слаба – и вазон, скрывавший Саула, упал на землю с большим шумом.
Мальчик готов превратиться в муху и исчезнуть в замочную скважину навечно. Глаза удивленно устремляются на него.
– Кто этот мальчик?
И тут – чудо из чудес! Встает перед ним Иоанна, та самая, с которой Саул вел войну все лето, поднимает мятежный взгляд на отца и провозглашает во весь голос, словно бы лишь ее мнение здесь решает все:
– Это мой друг, отец, Филипп привел его к нам.
– Филипп? Хорошо.
Иоанна знает, что имя Филипп устраняет любые недоразумения.
– Может, господин желает отдохнуть после длительной поездки? Вас ждет легкий обед.
– С большим удовольствием отведаю, госпожа Агата. С большим удовольствием.
Сумерки опустились на усадьбу. Стыли последние проблески света перед тем, как совсем стемнело. Угасал один из последних вечеров лета. И длинные клочья тонкой паутины неслись с вечерним ветром, натыкались и повисали на ветвях деревьев, на кустах, травах и последних летних цветах. «Сединой покрыло пряди матери цветущее лето» – так рассказывает старинная народная притча. Первое предостережение надвигающегося увядания. «Так оно, дети» – добавляют бабушки грустным голосом, рассказывая летними вечерами эту притчу внукам. «Так оно, цветение, уверенность и счастье – но уже старость настигает все живое…»
«Старость и небытие. Дорога все живого». – Так говорила старая и добрая няня с тяжелой одышкой, завершая сказку.
Господин Леви улыбается, снимает пальто, оттягивает галстук, сидит на каменной скамье у могилы. Старость и небытие – дорога всего живого, конец всего, и няня делает глубокий вздох, борясь с одышкой. Но дед мой, профессор, завершил бы эту сказку по-иному. В этот вечер он с особой яркостью предстает передо мной. Старый, увядший, кожа лица, как пергамент, пересеченный множеством глубоких морщин, как на древнем свитке. «Дети, знаете, что это за белая клейкая паутина? Молодые паучки скачут по ней, оставляют своих матерей, чтобы строить себе новую собственную жизнь. И это – когда уже все в природе говорит о смерти и кончине всего. Да, дети, это закон вечности. Это видно в облике этого паучка. Каждый конец объемлет новое начало, каждое начало объемлет конец». Верно, господин профессор. Уважаемый мой дед. Ты прав. Но что пользы всем словам твоей мудрости, если новая жизнь подобна унылому шелесту осеннего ветра? Что поучительного в этом, если покажу на паучках, что ползут по могиле, вечную жизнь? В этот миг я предпочитаю, господин профессор, слова доброй старой няни. Есть, есть конец, точка, завершение библейского стиха. Но если бы я мог, как она, сделать большой и глубокий вдох, если бы смог. Были дни, и я боролся с одышкой, как она. Там, в Давосе, в четырех стенах с широким окном, за которым был сказочный вид. Ведь я не из тех, который может сам себя обманывать, знаю, что у меня всего-то огрызок легкого. Есть дни, когда ты тянешься на простор из четырех стен. А есть дни, когда тонкая струйка крови из горла, и руки, парализованные слабостью – на белой простыне. Есть конец, есть завершение, точка и конец цитаты. Браво, няня! В один из дней стоял у моей постели тот чванливый молодой врач, и сообщил мне в категорическом тоне – ваше здоровье внушает опасение. «Премного благодарности! Кровь твоя сочится, душа трепещет в теле, испытывающем страдание, а врач тебе сообщает, что ты нездоров, и демонстрирует тебе двумя румяными щеками свой молодой возраст и тот простой факт, что его здоровье не внушает опасения. Несчастный и убогий господин Леви, ты опоздал на поезд, и абсолютно одинокий и отдаленный от всех, остался на перроне вокзала. Господин доктор, я опоздал на поезд? Но я умею идти по жизни. Дети называют меня «принцем». Никто не обнаружит моих слабостей. Но с оставшимся огрызком моего легкого можно существовать лишь в чистом воздухе Давоса. Я хочу вдыхать воздух полной грудью. Даже если перестанет втягивать воздух убогий огрызок моего легкого. Если сумею хотя бы еще раз, только раз поймать поезд. Буду страдать? Несомненно, но лучше страдание и печаль здесь, чем застывание там, на высотах».
* * *
День стерло теменью. Ушло летнее солнце, подул осенний ветер. Господин Леви потеет и ощущает холод ночи. «Надо встать, пойти и стереть пот, закутаться, сохранять от простуды больное тело. Глупости! Если бы я так должен был остерегаться, остался бы в Давосе. Мне приятен этот ветерок. И ночь эта приятна. Я научился довольствоваться малым, самыми простыми вещами. Деревом, цветком, птичьей трелью. Страдание – отличный проводник к счастью. Самое глубокое счастье я ощущал после самого тяжкого страдания. Ночь жива и оживляет все. Дни Вердена. Облако газа ползет на тебя. Дрожь во всем теле. Выдержит ли маска противогаза? И больница для солдат, отравленных газом. Когда ты открыл глаза, взгляд наткнулся на вечный стакан с водой, что стоял у твоей кровати днем и ночью. Расширить кругозор ты не мог, потому опять и опять возникал стакан с водой, поглощая все твои мысли и боли. Ты останешься живым, но в каком виде? Никогда уже не будешь здоровым человеком. Это ты знал еще тогда. Сильно, до рези, скучал по ней. Ты ехал на поезде с другими ранеными, полу– или четверть людьми, домой. К ней, и потирал ключ от дома в кармане вновь и вновь всю эту долгую поездку – пока не увидел перед собой ночной Берлин. Берлин! А после, собрал остаток сил, и вот ключ уже скрежещет в замочной скважине. И голова твоя с гривой черных волос – в ее ладонях. И губы медленно раскрываются. Бросайся! Возвращайся в жизнь! Из глубин бездны страданий – в легкость вершин любви. И я получил! Нежную женщину, черноволосую, с глазами темными и полными страсти жизни. Были у нас мгновения великого счастья. И тогда пришел такой быстрый и жестокий конец. Я все еще ощущал счастье, стараясь его задержать, но надо было от него отключиться. Я сделал все, что мог. Страсть существования исчезала во мне с задушенным истошным криком. Страшный год был после ее смерти. Вернулся с кладбища, и комки земли прилипли к рукам, земли, покрывшей могилу. Ни одной слезы не проронил. Я просто онемел. Беда тянулась за мной, как тяжкий камень, привязанный ко мне, к моей плоти. Я старался освободиться от этого камня. Тяжко боролся. Долгое время. Старался снова любить и наслаждаться жизнью. Жить, как должен жить человек. Так и не преуспел. Разбилась вера в то, что можно преодолеть трещину и снова возжаждать жизни. Тяжек камень на моей шее. И потому, что я не хотел склонить шею, склонилась и искривилась душа, и долгие годы после ее смерти я шел по тропе одиночества. Тропа была узкой, не было на ней места хотя бы еще одному единственному другу, сообщнику боли и радости. Я не поворачивал ни влево, ни вправо, не в прошлое, не в будущее. Что осталось от великой любви к ней, которая столько лет была смыслом моей жизни? Ничего не осталось, кроме одиночества – одеяние слабости характера, позорной сдачи судьбе, которой так и не удалось овладеть. Так и не сумел полюбить другую женщину, не хотел больше страдать. И потому, что не хотел снова уколоться о шипы, отказался от запах роз, и опоздал на поезд.
Надо рассказать Эдит о матери. Письмо, которое она мне написала, вызывает у меня беспокойство. Уехала с другом, офицером полиции. Не евреем. Почему это вызывает во мне неприятие? Не еврей. По сути, это для меня не имеет никакого значения. У Эдит хороший вкус. Может, это вообще мимолетное приключение? Она созрела для него. И лучше, чтобы это было до замужества, чем после. Дочки мои – бабочки. И не обернешь бабочек в пчел. И мать их была такой. Не была домохозяйкой в принятом смысле слова. Надо и дочерям рассказать о матери. Следует также посидеть с Филиппом, завершить дела с завещанием. За детей я не беспокоюсь. Они обеспечены всем в жизни. Есть у них имущество. Они красивы и хорошо воспитаны. Они образованы, живут в культурной и красивой стране. Да и радости жизни в них достаточно, чтобы одолеть все препоны. Все у них в порядке, и все же… Сегодня не так все гладко, ушли дни, когда отцы могли наследовать сыновьям свое богатство и быть уверенными, что оно в гарантированной безопасности. Ушли эти дни. Мир весь в кипении, и Германия – в нем. Когда это было в этой стране, чтобы орущие клоуны с подмостков находили массу слушателей? Хотя я не верю, что они приведут к бедам, но есть периоды, текущие медленно, поколения живут в тишине и покое. Ведут образ жизни согласно ценностям, которые принимаются ими как абсолютные и вечные. Но есть периоды, как сейчас, когда процессы перехлестывают берега, и с легкостью влекут за собой людей и их жизнь. Нет, не следует отделять судьбу этой страны от судьбы детей. Германия. – Куда она держит путь? И что ждет детей в этом кипящем котле?
Следует обо всем поговорить с Филиппом. Вернусь домой, позвоню ему. Хорошо, что когда-то отец приблизил этого человека к моему дому. Он – человек необходимый в это время. Надо встать и идти Я должен беречь себя. Еще много у меня дел впереди. Я все еще не свободен».
Господин Леви одевает пальто. Что-то шуршит в кармане. А-а! Кучка пожелтевших листьев, которые собирал по дороге. Плоды листопада. Вспомнил стихотворение Рильке:
Господи! Обильно время, долгое лето.
Но нет у меня дома, больше не буду строить, и нет мне
отрады.
Буду идти одиноким по дорогам, в мире этом,
Читать по ночам, писать письма и долго гулять по аллеям
В шелесте листопада».
Господин Леви вынимает листья из кармана и кладет на могилу. Памяти твоей, дед мой, профессор, памяти твоей! Я кладу эти символы увядания между белой паутиной твоей, в которой рождается новая жизнь, и молодые удостаиваются ее.
* * *
Когда приезжает черный автомобиль, на скамью падает дождь. Киоск у входа в переулок закрыт. Отто пошел в сопровождении верной своей собаки в трактир «Жирная Берта» – прополоскать горло кружкой пива и поговорить на злобу дня. Саул очень сердится. Недостаточно того, что кончились летние каникулы, так и Отто исчез из поля зрения! И нет человека, кому можно рассказать обо всем, что произошло. Он с силой захлопывает дверь мясной лавки. Две палки колбасы «салами», висящие в витрине, начинают раскачиваться в стороны. Словно колокола, вызванивающие «Добро пожаловать» мальчику, вернувшемуся домой. Но Саул не обращает внимания на их оклик.
Переулок пуст.
И дождь идет, идет и идет.
Глава пятая
Потрепанные бурей, липы медленно роняют листья на скамью. Несомые ветром, листья прилипают к стеклам, словно просятся в убежище от ветра и холода. Переулок еще дремлет. Полутьма уже рассеивается. Серый, дождливый, опустошенный день окутывает дома тусклым покрывалом. На тротуарах ни одной живой души. Воды стекают в сточные канавы, обваливаясь в канализацию. Лужи скапливаются во впадинах асфальта. Под крышами, под прикрытием оконных карнизов, в подворотнях прячутся воробьи, издают тревожное щебетание, заглушаемое свистом ветра и шумом дождя. То здесь, то там колышется занавеска, и лицо, опухшее от сна, выглядывает из окна в сумрак, господствующий снаружи, смотрит и исчезает. Переулок поливается дождем, пуст, темен, дремотен. По краям тротуаров еще горят газовые фонари. Слабые бледные языки огня в них словно бы сотрясают дрожью стекла в домах, мерцая в них, как заключенные в острог души, и струи дождя текут по ним, как слезы, мировой плач, к которому никто не проявляет милосердия. Как бы издалека приходят в переулок звуки большого города, звон трамваев и гудки автомобилей. Там уже начинается шум и суета нового дня. В переулок входит человек, зажигающий и гасящий фонари, в длинном черном плаще, с шестом в руке, – тянет цепочку и гасит. Мало осталось в городе переулков, где необходим его шест. Одиноко бредет он по переулку, сжавшись в своем плаще. Посланцем ушедших поколений шагает он в бледном свечении дождливого утра, охотясь за душами, которым удалось сбежать из своего времени. Шест его переходит от фонаря к фонарю. Одна за другой гаснут языки пламени за пеленой слез. Один, два, три, четыре, – считает он свои жертвы. Восемь огней в переулке, по четыре с двух сторон. И длинный шест убивает огонь один за другим, гасит души – одну за другой. Восемь! Все фонари погашены. Опять опустел переулок. Ветер свистит, кружит потоки дождя, и катящиеся клубы его между домами подобны густому дыму.
Вокруг скамьи дождь размягчил черную землю. Желтые влажные листья, упавшие с ветвей, устилают скамью и землю. Киоск Отто закрыт. Крупные капли падают с его карнизов. Все еще не видно ни одного человека на улицах. Только огромные грузовики выкатываются на дорогу. Трамваи разбрызгивают во все стороны струи мутной воды. Один из трамваев останавливается у скамьи. Сходят рабочие после ночной смены на фабриках. Лица их и одежды покрыты копотью. На плече каждого опустевшая сумка. Стоят несколько мгновений под дождем, застегивают куртки и пальто, нахлобучивают шапки на лоб, втягивают головы в плечи, поднимают брови к дождю, как коты, влекущиеся усталыми и равнодушными, подобно останкам войск, потерпевших поражение в бою, и звуки их шагов поглощают порывы дождя. Зажигаются огни в окнах домов. Те, чья работа находится далеко от переулка, на миг задерживаются на выходе из дома, вглядываются в дождевые облака, и как прячущие клад, прячут полные сумки под пальто, и прыгают под дождь. Пересекают бегом переулок, перепрыгивают лужи, внезапной атакой осаждают автобусы и трамваи – и исчезают в дымке большого города.
Теперь и Отто выходит из своего дома. Сегодня он опаздывает на работу, ибо надеется, что Мина, которая вчера сбежала и еще не вернулась, вот-вот покажется. Отто раскрывает зонтик и выходит в переулок. Через дыру в зонтике вода попадает ему за воротник и вызывает дрожь во всем теле. Он делает движения в сторону, стараясь избежать этого холодного душа. Но струи вторгаются под пальто то спереди, то сзади. «Черт возьми! – цедит он проклятие сквозь зубы, отирает лицо рукавом пальто, – Мина, сучья порода! Всю ночь провела с одним из многих своих ухажеров, а сейчас где-то шляется в переулке, прячет морду между лапами, воет на ветер и боится выйти из укрытия».
Отто высовывает язык и слизывает капли, падающие с кончика носа, поворачивает голову, вглядывается в глубину переулка, издает свист, призывающий Мину. Но свист не слышен и Мина не видна. «Так оно, – вздыхает Отто, – в этом дело: сбежала утолить страсть, и кто ее сдержит? Миновала ночь любви, и теперь она забилась в какой-то угол и воет, и ничему никогда не научится».
Сильный порыв ветра дергает зонтик, раскрывая лицо хлещущим струям дождя. С трудом дыша, он добирается до киоска, и в этот же миг рядом с ним останавливается маленькая машина с утренними газетами. Водитель в длинном плаще швыряет перед киоском пачку газет «Красное знамя».
– Что нового? – спрашивает Отто, обычно каждое утро перекидывающийся несколькими словами с водителем, развозящим газеты.
– Дождь! – отвечает тот, борясь с ветром, и исчезает.
Отто входит в киоск. Снимает промокшее пальто, отряхивает кепку, вкладывает в рот жевательную резинку, чтобы нагреть мускулы лица, высовывает голову в окошко киоска – собаки нет. Только женщины, укутанные в шали, прячась под зонтиками, бегут в пекарню и в продовольственную лавку. Отто сердито выплевывает жвачку в дождь и берет другую. Хозяин трактира уже скатывает дверные жалюзи. С окна его витрины смотрит жирная Берта, и капли дождя на ее телесах подобны каплям пота. Велосипедисты проносятся мимо киоска, прикрываясь серыми полотнищами. «Никого невозможно узнать», сердится Отто. А собаки нет.
Напротив открываются ворота странноприимного дома войска Христова. Один из его солдат в синей форме, с блестящими пуговицами стоит у ворот, собираясь на утреннюю молитву. Как грибы во время дождя, возникают неожиданно у выходов из домов разные типы, верные сыны Иисуса и любители молитв – большое войско бедняков и бездомных, которые нашли на ночь пристанище по углам лестничных пролетов, коридоров, за воротами. Они с трудом тянут свою порванную обувь по лужам. В рваных старых одеждах, дрожа от холода, они проходят мимо киоска к солдату, стоящему у ворот, зовущему их именем Иисуса внутрь, где за молитву их накормят и дадут приют. Отто напрягает взгляд – может среди этого сброда болтается его Мина? У женского рода свои вкусы. Может, Мина вышла из своего укрытия и прилепилась к одному из этих. Псина хитрая. Может, увидела людей, выходящих на собачий холод, и вышла за ними? Сейчас он услышит знакомый вой Мины, возвращающейся к себе? Но Мины нет среди прихожан, и Отто начинает серьезно нервничать. В последнее время дела несут все больше забот и не дают покоя. Он смотрит на дом напротив. Все окна закрыты шторами. Дом еще погружен в дрему, балконы с зелеными ящиками цветов капают, как простуженные носы. «Доктор еще спит, несомненно, спит». Дело чрезвычайной важности. Через час он поднимется к доктору для беседы. Отто снова надевает пальто, берет в руку несколько потрепавшийся зонтик.
Дождь припустил еще сильнее. Туман сгустился, нахлобучивая на крыши домов серые тюрбаны. Отто ищет укрытие, входя в большой дом, двигаясь по длинному темному коридору, стены которого исписаны адресами и рисунками. Юноши, одиноко блуждающие ночью в переулке, и влюбленные изливают тут свои сердца. Нацарапали в рифму на стенах свои призывы. Между записками влюбленных висит достаточно потрепанное объявление – «Запрещено просить милостыню в этом доме». Сверху, на влажной штукатурке, тянутся, обвисая, электрические провода во всю длину коридора, как длинные, серые капли дождя. Мох давно затер краску стен. Большие пятна плесени, как разросшиеся родинки на коже, цветут на стенах. И они исходят потом, словно истекают всем, что вобрал в себя этот дом за долгие годы: резкие запахи человеческих выделений, рвоты пьяниц, отправлений младенцев, мха, гниющего дерева, квашенной и вареной капусты, свиного жира, на котором жарилось мясо, выкипевшего молока. Потеющие стены выделяют эхо тяжелых шагов множества пролетариев, которые ступали по этим ступенькам бесконечным потоком, утром из дома, вечером – домой. Дни и годы, от юности и до старости, беспрерывна ходьба, от которой освобождает только смерть. Стены выжимают из себя пот, словно отяжелял их непосильный человеческий груз, придавливающий весь дом. В углах карнизов, над окнами лестничного пролета, пауки сплели широкую паутину, словно выплели нити множества судеб, наполняющих этот рабочий дом переулка в самой пуповине большого города.
Отто дошел до ступенек и смотрит вверх. В коридорах, у дверей собрались женщины для обмена утренними сплетнями. На деревянных ступенях кружатся дети с кусками хлеба, намазанного повидлом, в руках, лица их вымазаны этим повидлом. Отто вздыхает с глубокой печалью, поглядывая на женщин, болтающих у дверей. Он пересекает двор, направляясь к доктору Ласкеру. Есть у него к доктору важное дело.
Стенные часы в кабинете доктора Ласкера отбивают восемь.
Филипп надевает пальто, «надо поторопиться», думает он, «сегодня у меня много дел». Берет портфель и останавливается у окна. «Какой сильный дождь! Миновало лето. Просто промелькнуло. Проносятся месяцы как короткий обеденный перерыв в офисе. Но в это лето многое случилось. Если бы этот дождь был в силах смыть все, что нагромоздило только это лето. Если бы… Это слова – «если бы» – вечная и верная моя спутница».
Филипп натягивает перчатки, завязывает шарф, собираясь выйти из дома. В этот миг раздается звонок, и служанка впускает в комнату Отто, за зонтиком которого тянутся струи воды, и ботинки его вздулись от дождя.
– Доброе утро, доктор. Дождь на дворе, доктор. Я говорю вам! Снимите пальто, доктор, и присядьте, я к вам по важному делу, да, доктор, по очень важному делу.
– Отто, у меня неотложные дела. Твое дело не может подождать?
– Не может, доктор.
Отто подбегает к печке, прикладывается ладони к кафельным плиткам.
– Печь холодная, доктор. Кто ее затопит? Но я говорю вам, доктор, лучше холодная печь, чем жена в доме. Кости мои, доктор, содрогаются от холода. Я крутился по улицам. Сбежала моя Мина. Дезертировала из дома, доктор, и не вернулась. Человек в таких случаях может выйти из себя, доктор!
– Ах! – восклицает доктор Ласкер. – Почему сбежала? Вы поссорились, Отто?
– Да не ссорились мы, доктор. Течка выгнала ее на улицу. Эту сучку, сукину дочь! Еще жизни лишится из-за своих любовников.
– Х-мм… Ты пришел получить мой совет в отношении жены, что сбежала?
– Иисусе, доктор! Упаси Боже! Достойна ли женщина, чтобы из-за нее я вас беспокоил так рано? Речь не о моей жене, а именно о собаке моей, Мине. Это она сбежала в этот собачий холод из-за…
– А-а? Собака, но я ведь ничего в них не смыслю, Отто. Время торопит меня, Отто, очень торопит.
– Поверьте мне, нет у вас, доктор, более важного дела, чем мое. Сядьте, доктор, сядьте. Невозможно говорить с человеком, который проявляет признаки нервозности. Это напрягает и мои нервы, сядьте, доктор.
Доктор Ласкер садится в кресло и с нетерпением смотрит на часы.
– Так в чем все же дело, Отто?
Отто ковыряется в карманах, вытаскивает повестку в суд. Обвинение в оскорблении правительственного чиновника.
– Что у тебя случилось, Отто?
– Что случилось? Вы, несомненно, знаете моего друга Кнорке?
– Не имел чести, Отто.
– Не может быть, чтобы вы его не знали, доктор? Знакомы, еще как знакомы! В почтовом офисе сидит мой друг Кнорке и продает марки, вы не обратили внимание? Он популярен благодаря бородавке на подбородке…
– Отто… – доктор сжимает в руках, словно угрожая им, портфель, – да, я знаю твоего друга Кнорке, но что с ним случилось, Отто, что?
– Во-первых, отложите портфель в сторону, доктор. Если вы этого не сделаете, я могу подумать, что я вам мешаю. Снимите пальто, и поговорим, как человек с человеком.
– Ну, хорошо, Отто. Что у тебя произошло с господином Кнорке! К делу, Отто, к делу!
– К делу, доктор. Итак, вы знакомы с моим другом Кнорке. На первый взгляд можно предположить, что человеку с такой скромной внешностью, природа дала что-то взамен, например, достаточно ума. Но, честно говоря, природа и этого лишила моего друга. Кнорке давно живет в переулке, вы должны знать…
– Отто, откуда мне это знать? Это тоже касается дела? – доктор украдкой поглядывает на часы.
– Это важно, доктор, весьма важно. Снимите шарф, доктор, это не полезно для вашего здоровья – сидеть с шарфом на шее, и затем выйти в стужу. Вам надобно знать, что Кнорке посещает переулок по делам, что лучше о них помолчать. Затем заходит в трактир – немного прийти в себя, и вот там мы перебрасываемся мнениями о том, о сем.
– Отто, прошу тебя, говори о самом деле.
– Доктор, да разве я не говорю о самом деле? Вы должны знать, доктор, – как только Кнорке пропустит несколько рюмок, сразу же начинает ругать республику. И я, ведь известно вам, сердце мое не расположено к республике. Нет и нет! Но проклятья Кнорке я не могу вытерпеть, ведь республика его кормит и дает ему заработок, и без нее он – просто летящая пыль. И я, доктор, перед Кнорке, подпоясываюсь покрепче, и выхожу на защиту республики.
– Отто, скажи, чем ты оскорбил твоего друга? Что ты ему сказал?
– Доктор, разве я не говорю, что сказал ему? Ведь я все время говорю именно, что сказал Кнорке. Что плохого находит в республике такой человек, как ты? Полагаю, беда в том, что ты служишь кормом для ослов. Я намекнул ему, доктор, но Кнорке намека не понял. Несомненно, не понял. – Нам нужен сильный человек! – кричит. – Сильный человек! Ну, что скажете, доктор?
– Отто, я понял, у вас состоялась беседа с другом Кнорке, и после этого ты получил повестку в суд.
– Да нет, доктор. Не так. Абсолютно не так. Что вы подумали, доктор? Да может ли убогий мозг Кнорке запомнить то, что я ему проповедую в такой вечер? Но в один из дней прихожу я на почту. Получил предупреждение из налогового управления. Удивляются, почему оплата налога еще не пришла к ним. Иду объяснять, что не надо этому удивляться: я просто не оплатил.
– Так из-за налога ты оскорбил господина Кнорке, верно?
– Ах, доктор! Да, при чем тут – налоги? Не из-за этого я прихожу на почту. И кто сидит за окошечком и продает марки? Мой друг Кнорке!
Отто пытается отдышаться, прочищает горло, чтобы, наконец, рассказать о самом деле.
– Доктор, сидит, значит, мой друг Кнорке, выпрямившись, такой серьезный, словно офис его личная наследственная усадьба. Свой скромный облик втянул в воротник синей форменной одежды почтового работника, очки в золотой оправе – такое дополнительное украшение на носу. И вовсе не для того, чтобы всем этим скрыть свои недостатки, доктор, а чтобы отвлечь внимание клиентов от его бородавчатого подбородка и…
– Отто, пожалуйста…
– Не прерывайте меня каждую минуту. Какой же вы адвокат, если не умеет терпеливо выслушать клиента? Это ведь ваша профессия. И вот, функционирует друг Кнорке в почтовом офисе – весь – окутанный важностью и великолепием. И я, увидев это чудовище, тут же соответственно здороваюсь с ним – Кнорке, доброе утро! Вижу, ты уже пришел в себя после вчерашней ночи. – И Кнорке, благочестивая душа, краснеет, как девственница, которой подмигивают. Выпячивает свою бородавку, как некий рог и цедит сквозь зубы – господин клиент, чиновника не отвлекают от его обязанностей во время службы частными делами. Прошу вас, изложить вашу просьбу и освободить место следующему.








