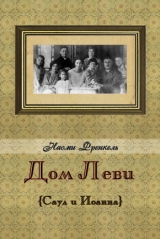
Текст книги "Дом Леви"
Автор книги: Наоми Френкель
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Глава девятая
Под куполом неба, между разрывами белых туч, высветилось солнце. Осенний день дарил тепло жителям мегаполиса перед зимними холодами.
Взошел день, словно бы предназначенный для радости!
Отто стоит перед своим киоском и глубоко дышит. Он снял шапку и, широко раскрыв рот, буквально пьет большими глотками чистый воздух.
– Собака моя, Мина, любила такие дни! Поднимала морду к солнцу и постанывала от удовольствия. Как все женщины, обожала всякое баловство. Ушла собака, ушла несчастная душа из этого мира.
Отто разгоняет воробьев, совершающих утреннее купание в дождевой луже.
– Доброе утро, Отто.
По другую сторону переулка открываются ворота странноприимного Дома войска Христова. Длинной шеренгой выходят из них бездомные и нищие, просящие милостыню, которые в дни бури укрывались в этом доме на хлебах Дома. Они просачиваются переулками, огибают киоск и занимают места на скамье под липами.
– Доброе утро, Отто!
Безработные выходит их домов. Число их увеличилось за эти дни. Отто раскладывает перед ними газету «Красное знамя».
– Доброе утро, Отто!
Горбун Куно проходит мимо киоска, толкая тележку мелкого торговца, загруженную доверху цветными свитерами, и похож он на живую одинокую вешалку.
– Свитера! – выкрикивает горбун и исчезает в массе, толпящейся у киоска.
– Покупайте свитера! Хотя сейчас взошло солнце, но мир наш не оранжерея. Господа, тепло преходяще. Каждый первый покупатель выигрывает. Свитера, господа хорошие, первый сорт! Украшение любой физиономии. Даже твоей, господин. Дорогая, купи свитер к твоей лебединой шее. Берегите свою красоту! Кроме красоты, что есть у тебя в этом мире, господин? Свитера! Свитера!
– Уноси ноги отсюда, – бесятся безработные, – убирайся, Куно. Тарахтишь здесь, как несмазанное колесо.
Все их внимание обращено к газете. «Металлурги предъявили требования!» – заголовок большими буквами.
– Вероятнее всего, – говорит Отто, – грянет забастовка. Если не удовлетворят требования металлургов, забастовка обязательно грянет. В этом нет сомнения. И она распространится, я говорю вам, на всю страну. И кто сможет это предотвратить? И она свергнет эту власть глупцов.
– Забастовка металлургов. – Повторяют за Отто безработные. – Кто бы мог подумать? Забастовка в эти дни.
– Забастовка! – Горбун несет эту весьма важную весть в массы. Одно за другим в переулке распахиваются окна. Непричесанные женские головы выглядывают наружу. Беседа медленно перекидывается из окна в окно, захватывая весь переулок. Болтовня все более усиливается. По тротуару переулка прогуливается Пауле. Несмотря на ранний час, он наряжен в пух и прах – круглый блестящий котелок щеголя на голове, дорогая сигара в углу рта, цветной свитер, облегающий шею, и коричневые кожаные перчатки на руках.
– Поглядите на этого Пауле. Счастливчик этот субчик. Золотая рыбка, всегда плывущая поверх волн.
Эльза, вышедшая на улицу и стоящая у мясной лавки господина Гольдшмита, оглаживает Пауле умильным взглядом.
Он останавливается, одной рукой охватывая плечо, другой ударяя силой в оконное стекло еврейской лавки, так, что висящие сосиски в витрине начинают раскачиваться, как колокола, вопящие о помощи.
– Забастовка! – Орет горбун. – Слышали? Забастовка металлургов.
Головы мгновенно исчезают в окнах. Замолкла болтовня. Рев младенцев, которые были оставлены впопыхах, сильно возрастает. Двери перестукиваются. Женщины высыпают на улицу. Сообщение, как внезапный облом грома.
– Забастовка! Кто? Как? Когда?
Гул их голосов волной распространяется по руслу переулка, долетая до киоска Отто.
– Что так возбудило женщин до такого крика? – спрашивает долговязый Эгон Отто. – В чем дело?
– Дело? – кипит от злости Отто. – Какое может быть у них дело? Видел ли ты когда-нибудь женщин, дерущихся по делу? Ругаются они для удовольствия и больше ни для чего.
– Женщины, – ораторствует горбун в переулке, – грянула забастовка. Но вы ведь понимаете, женщины, если будут бастовать, накрылись заработки и работа, – и он кивает сторону безработных, – поэтому покупайте свитера, женщины! В краешек свитера вплетена конская подкова. Выйдет человек на улицу без подковы, мало у него шансов на заработки. Забастовка, женщины! Ветры засвистят сквозь прорехи залатанных штанов. Штаны исправить невозможно, но шею человек должен беречь в дни забастовки. Покупайте свитера, женщины! Свитера! И не забывайте подкову, конскую подкову.
– Где грянула забастовка? – прерывает Флора излияния горбуна. – Говори по делу.
– Не знаю, – признается горбун осевшим голосом, – болтают у киоска.
– Ага, болтают у киоска, – говорит уничижительно Флора, – слишком много болтовни в эти дни. Она поворачивается спиной к горбуну и возвращается к своим делам. Заботится о портрете жирной Берты на стекле забегаловки, отмывая ее мылом и щеткой, вытирает и доводит до блеска ее шею, ибо подростки переулка штрихами черной краски превратили огромную шею Берты в ведро, надписав на нем – «Дерьмо».
Да и женщины все разбежались. Только старуха, мать Эльзы, все еще торчит рядом с горбуном. Держит в руках большую кастрюлю, собираясь в столовую войска Христова, получить бесплатную еду.
– Конская подкова, – говорит как во сне старуха, – у тебя есть конская подкова? Давай, я куплю ее у тебя. Нет ничего лучшего для счастья. Укреплю ее на пороге. Только поставил подкову у входа в дом, и тотчас в нем поселяется счастье.
– Старуха, – горбун закипает от злости, – ничего ты не поняла, старуха, катись отсюда. В утренние часы не беседуют со стариками, от которых несет могилой. Это лишь приводит к беспорядкам.
Куно толкает свою тележку к скамье.
Под липами, что почти полностью облысели, собралась веселая гоп-компания – всякие типы, «пасущие воздух», бедняки, нищие, просящие милостыню и вообще неизвестно чем зарабатывающие на существование. Среди них – сапожник Шенке. Возвышает голос, и все слушают его с большим вниманием.
– Ах, – Шенке хлопает себя по бокам, – говорит мне моя полячка, Шенке, немедленно покинь дом, от тебя несет спиртным, и это может, не дай Бог, лишить меня жизни. Иди, проветрись на свежем воздухе. – Шенке прерывается на миг, печально чешет голову, как человек, которого одолевают нелегкие мысли, опять хлопает себя по бокам и, как проснувшийся, продолжает:
– Иду я к скамеечке святой семеечки. Вижу статуи святых, мокнущих у стен, и дождь льет им на головы, и меня охватывает какое-то напряжение. Вхожу я в один из углов, и чувствую, как толчок, прикосновение к плечу, говорю я вам, даже не толчок, а как удар молотом. И кто, вы думаете, стоит за моей спиной, кто? – Шенке хлопает по бедру соседа и с явным удовольствием облокачивается спиной о спинку скамьи, вытягивая перед собой ноги, и напряженный его взгляд окидывает лица всех слушателей.
– Кто? – нетерпеливо вопрошают они. – Кто?
– У кого рука подобна молоту? И нет второго такого? Отрастил себе длинные волосы, как у женщины. Ходит босым. Только подошвы прикреплены ремешками к его ногам. И глаза, которые прошли по мне, как колеса, распластывающие меня. Шенке, сказал я в душе своей, если ты потерян, так потерян абсолютно, Шенке, Святой из святых сошел к тебе со стен.
И Шенке словно бы потерял дар речи. На лице его испуг. Вокруг него посмеиваются бедняки. Их худые тела согреваются милостью солнца. От влажных опавших листьев возносится запах гнили.
– Свитера! – приносит свой шепот сюда горбун, переходя от человека к человеку и показывая свой цветной товар. Шенке набрался сил, и продолжает:
– Словно слышали его голос. Как гром колес по земле.
– Грязный еврей, – начал меня упрекать Святой, – ты вносишь скверну в святое место, темная душа твоя. Господи, прошу прощения, расширьте ноздри свои и убедитесь, что это не я виновник скверны. Для меня важна традиция, как для всех нас, временно живущих на земле, задержаться здесь по земным делам, но ты прав в своем споре со мной, Господи, от евреев пришел к нам этот негодный обычай, от евреев… «В этом все дело! – говорит он. – С утра я стою здесь, чтобы освободить от грехов преступников. А ты, свинья этакая, видишь, Германия катится в преисподнюю, оставили Иисуса и все святое. Ты должен, сын человеческий, искупить все грехи неверия, которые принес в этот священный угол. Налагаю на тебя обет – приходи в воскресенье на собрание. – Шенке достает из кармана маленькую брошюру, показывает ее всем и громко читает: «Союз по спасению германской души. Против масонов». Очищение христианской души свободной Германии. Евреям вход воспрещен».
Шенке возвращает брошюру в карман и оглядывает всех, окружающих его, взглядом человека, причастного к высшим тайнам, и возвышает голос:
– Так вот, я присоединяюсь! В воскресенье иду на собрание «Союза» спасать душу.
В молчание, воцарившееся после этих слов, падает голос горбуна.
– Забастовка должна грянуть! Великая забастовка!
– Забастовка! – мгновенно все покидают скамью, оставляя в одиночестве Шенке с его святыми во главе с главным Святым, и бегут к киоску Отто. Столпотворение там увеличивается с минуты на минуту, и сильнейший спор захватывает всех, входящих в круг этого столпотворения. Мгновенно разделяются и объединяются в два лагеря, один против другого, одни, отстаивающие праведность, другие, выражающие несогласие с ними ропотом, одни, поддерживающие криками Отто, другие – против него. Если эти – за пшеницу, те – за ячмень. Беспорядок этот грозит перейти в рукоприкладство. И всем этим дирижирует Отто, опираясь на стенку киоска.
– Дурачье! Гнездится ли хоть одна мысль в ваших затылках? – Отто размахивает газетой и громко вздыхает. – Нет! Я говорю вам, что нет. Мысли не плодятся в ваших мозгах. Побежите штрейкбрехерами на фабрики вместо забастовщиков за жалкие гроши милостыни. Крохи рассыплют перед вами и тут же распахнут ваши голодные рты. Не ошибитесь в своих иллюзиях, никто не нарушит забастовку!
– Кто говорит это, ты?
Голос Пауле, стоящего в стороне, и прислонившегося к фонарному столбу, проносится над головами. Дорогая сигара в его пальцах, рука его сплетена с рукой Эльзы. – Кто ты, вообще? Кто ты такой, что лишаешь нас права делать то, что нам надлежит делать? Ты что, няня, предписываешь, как нам жить, заворачиваешь нас в красные пеленки?
Громкий хохот. Пауле вернул всем хорошее настроение. Победный хохот. И Отто тоже смеется. Отложил газету, сложил руки, выпрямился, поднял голову, и смеется. Смех его побеждает смех всех остальных, убивает их смех один за другим, и они недоуменно замолкают. Что случилось с Отто, он что, сошел с ума? Стоит против всех и смеется.
– Дебилы! Отсталые! – Отто держится за живот, охрип, тяжело дышит, отдуваясь от смеха. – Поглядите, у них есть право делать! Право! Вы уже попробовали вкус пролетарских кулаков? Гарантирую тебе, Пауле, вкусишь кулаки рабочих, небо покраснеет в твоих глазах. Глупость цветет здесь, как сирень весной. Ты насмехаешься надо мной, Пауле. Уясни происходящее дряблым своим мозгом! Если грянет забастовка, это будет не простая забастовка. Это будет бой. И вы, годами кишащие на улицах, как пресмыкающиеся, несущие скверну, будете изо всех сил бороться за свое существование.
– Оставь нас со своей политикой. Красные, коричневые, и эти и те, якобы стремящиеся к великим делам, на деле корыстолюбивы, и селедку на наши столы не обеспечат ни те, и ни эти.
– Ни те и ни эти, ибо, придя к власти, нижние становятся верхними, верхние – нижними, а мы всегда остаемся на самом дне преисподней.
– Битва? – вопрошает чей-то голос, сопровождаемый громким зевком. – Какое мы имеем отношение к твоей битве, Отто. Мы падем, а эти разжиреют на нашей крови. И ничего хлебного нам не предвидится. Работа?
– В бой! – вопят женщины. Собрались большой группой у киоска. Волосы их причесаны наспех, на ногах комнатные туфли. – Кто будет кормить наших детей, ты об этом подумал, Отто?
– Без эмоций, люди. Только, не дай Бог, не волноваться. – Горбун проскальзывает между спорящими сторонами. – Забастовка еще не началась. Люди, покупайте свитера, люди. Свитер будет вам полезен в любой ситуации, грянет ли забастовка или не грянет. Помните, друзья мои, цветок прячется под снегом, и ему тепло. Ну, а ты, господин, как согреешься под снегом? Покупай свитер, и он согреет тебя.
– Бой? – кричит Шенке. – Какое нам дело до этого боя? Спасайте ваши души. – И он достает из кармана пальто брошюру. – Германия несется в бездну. Души чернее черного. Тьма и смерть царят в германских душах. Вот, где зарыта собака.
– Собака! – Отто выпрямляется и, без колебаний, обращает взгляд на место, где нашел Мину убитой, хочет что-то сказать, и не может раскрыть рта. Приходит в себя, оглядывается, ощущает ненавистные взгляды со всех сторон, с удивлением смотрит на солнечные лучи, поигрывающие на стеклянных банках в киоске.
– Рот фронт, Отто!
Лошадиный цокот сдерживает на миг пыль человеческую, бурно вздымающуюся вокруг Отто. Бич свистит в воздухе. Огромная грузовая телега, загруженная бочками с пивом, останавливается перед киоском. Ржут большие широкогрудые битюги. На облучке сидит возница, один из развозящих пиво компании «Шултхейм». Волосы возницы растрепаны, щеки раскраснелись от осеннего ветра.
Он размахивает бичом, радуясь встрече.
– Рот фронт, Отто!
Ватага безработных отшатывается, отступает, как прах перед лихо свистящим горным ветром.
– Рот фронт, Хуго! – кричит в ответ Отто. – Металлурги предъявили требования, слышал?
– Тем более! – радуется Хуго, и бич его весело пляшет. – Мы еще организуем им достойный торжественный прием.
– Конечно же, организуем, – соглашается Отто, – красное знамя еще будет развеваться над Берлином.
– Еще как! Несомненно, будет, – отвечает возница и дергает вожжи, – Рот фронт, Отто.
– И над вашими головами будет развеваться красное знамя, – возвращается Отто к стоящим у киоска, – вопреки вашему гневу и вашей неприязни вы удостоитесь видеть красное знамя над вашими головами.
Пауле внезапно исчез. Эльза, у столба, умирает от смеха, словно посвящена в тайну, известную только ей.
– Полиция! – раздается крик. В мгновение ока все рассыпаются и исчезают, как будто здесь никого и не было. Полицейский грузовик приближается с большой скоростью. Полицейские держат нагайки наготове. Стальные шлемы приталены ремешками к их головам. Один Отто остался у киоска и принимает «гостей» с улыбкой на губах.
– Тут был политический митинг! – явно с вызовом раздается твердый голос.
– Упаси Боже, господин полицейский, вы что, еще не знаете, что политические собрания запрещены по закону. Отто поучает полицейского, как учитель ученика, затем спокойно и уверенно поворачивается к нему спиной. Полицейские смущены. Нагайки их обращены к пустому переулку и в спину Отто. Беспомощный офицер уезжает со своими подчиненными. Из-за киоска выходит долговязый Эгон.
– Что они от тебя хотели, Отто? Что происходит?
– Не нервируй меня, Эгон. Говорю тебе, ты длинный, как столб, но глуп, как бревно, хотя рядом с ними ты – щепка.
Отто входит в киоск, цедя сквозь зубы: «Это Пауле вызвал против меня полицию. Сволочь, ах, какая сволочь!»
Из киоска смотрит Отто вслед удаляющимся полицейским, пока машина их не исчезает из глаз. Горбун возвращается, останавливается на углу перекрестка и снова начинает расхваливать свой товар. Мать Эльзы возвращается из бесплатной столовой войска Христова, шаги ее осторожны: боится выплеснуть из кастрюли драгоценную пищу. В переулке плачет младенец. Женщины ругаются, осыпая друг друга проклятьями, проститутки прогуливаются в одну и другую сторону. У входа в мясную лавку стоит госпожа Гольдшмит. Евреи еще не являлись за покупками. Саула не видно.
«Ребенок болен», – размышляет Отто, откладывает газету, глаза его рыщут по сторонам в надежде зацепиться за что-либо стоящее, и ничего не находят. В этот момент выходит из дома доктор Ласкер, скашивает глаза в сторону Отто, прижимается к стене, пытаясь ускользнуть с глаз своего друга.
Несколько быстрых шагов, и Отто рядом с доктором.
– Слышали, доктор?
– Ничего не слышал, Отто, ничего. Я очень занят, Отто.
Филипп легко касается плеча Отто, быстро сходит с тротуара, и, рискуя жизнью, продвигается между гудящими клаксонами автомобилями и несущимися трамваями. Он просто убегает от своего друга, и Отто стоит на тротуаре, качая головой в полном недоумении.
Филипп движется к зданию еврейской общины. Дорога недалека, и сейчас, удачно оторвавшись от Отто, можно замедлить шаг. «День явно расположен для радостей и приятного времяпровождения». Филипп глубоко вдыхает утреннюю свежесть и улыбается про себя. Две молодые женщины проходят мимо, возвращая улыбку этому симпатичному господину. Филипп сжимает портфель подмышкой, глотая чистый осенний воздух, как жизненное зелье. Вчера он вернулся из неприятной поездки. Трудным было посещение небольшого романтического прусского городка. Суд завершился именно так, как он полагал. На скамье подсудимых сидели вожди хулиганов, устроивших беспорядки, сынки зажиточных крестьянских семей. Оправдывались, что действовали «под влиянием алкоголя». Евреи выиграли суд, а хулиганы удостоились широкой поддержки горожан. Первые покинули зал суда, получив защиту закона, вторые – поддержку общественности. Каждый получил свое. Филипп в сопровождении уважаемых членов общины шел к сожженной синагоге, хотя евреи упрашивали его этого не делать. Это был базарный день, и они торопились к своим делам. Шли они по кривым узким улицам. Крестьянские телеги гремели колесами по шоссе, везя скотину на убой. Телята и свиньи визжали, пытаясь вырваться из пут, и слюна текла из их пастей. Все улицы были заполнены их визгом, ревом, мычанием, режущим слух Филиппа, как режут стальной обод колеса. Он смотрел на кулаки крестьян, натягивающих вожжи, видел искры ненависти в их темных глазах.
– Народ подстрекают, – сказал Филипп сопровождающим его евреям, – вы живете маленькой общиной, лишенной всякой защиты, среди ненавидящих вас.
– Муниципалитет стоит за нас. Закон и порядок нас защищают.
– Закон и порядок, – с горечью рассмеялся Филипп, – придет день, и этот закон даст в руки погромщиков палки. Ваша жизнь здесь в опасности Вы даже не взвешиваете возможность покинуть этот городок.
Смотрели на него с удивлением, пропуская его слова мимо ушей.
Дошли до большого магазина одежды, принадлежащего еврею. У витрины толпились крестьяне со своими женами, которые доставали из глубоких карманов своих кофт кошельки и считали гроши заскорузлыми пальцами, нажимая большим пальцем на каждый грош, словно убеждая себя: «Он еще мой!»
Сжимая губы, вели про себя счет, громко пререкались муж и жена по поводу покупки платья, юбки, чулок, рукавичек для младенца. В конце концов, приходили к согласию, завершая его общим проклятием еврею, лопающемуся от богатства да еще завышающему цены. Филипп зашел с сопровождающими его евреями в магазин, выпрямил спину, проходя мимо крестьян уверенным шагом. Обратил внимание, что хозяин магазина почти заискивал перед крестьянами, но никто из них с ним даже не поздоровался. Филипп постоял несколько минут в магазине. Тонкое стекло отделяло его от злых лиц снаружи. Видел сквозь стекло повозки со скотом, и проклятия крестьян смешались в его слухе с ревом и мычанием скотины. Хотел продолжить свою проповедь, но хозяин магазина был загружен заботами и не прислушался к его словам. Несмотря на то, что в магазине почти не было покупателей, он суетился между полками и прилавками, давал указания продавцам, занимался кассиром, пригласил уважаемого адвоката в свой дом, к жене, отобедать с ними. Филипп расстался с ним и направился на вокзал.
* * *
Вечером того же дня он поехал к Белле – рассказать ей о том, что с ним произошло в городке: должна она, в конце концов понять, что не сможет он сегодня-завтра покинуть Германию. Евреи здесь как наивные дети, беспомощные перед ужасными погромами в будущем. И он, адвокат, доктор Филипп Ласкер, обязан видеть и раскрывать всю страшную правду во всей ее полноте и значении. Его долг – оставаться на месте, быть бдительным. Белла обязана быть рядом, принять на себя эту новую важную роль.
В доме Движения дверь ему открыл Джульетта. Беллы нет. Взяла двухнедельный отпуск. «Вернется через две недели», сказал Джульетта, словно вкладывая в эти слова особый смысл. Странно смотрел на Филиппа, который чувствовал, что отпуск Беллы не дает покоя этому парню. Филипп поехал к ее родителям. Он не встречался с ее семьей с тех пор, как поселился в еврейском квартале. Беллы не было дома. Госпожа Коэн уважительно приняла его, еще бы, доктор Ласкер! Имя это славилось в еврейской среде. Но какие у него дела с Беллой? А-а! Сионистское движение! Да, девочка весьма активна в этих делах. Но забывает обо всем мире во всей его полноте. Много горя причиняет она родителям, ей и мужу. Ведь она у них единственная. Кто, как ни доктор, знает, с каким трудом мы растили ее на еврейской улице, и вот, когда положение их улучшилось, и все лучшее ей доступно, она исчезает из дому. Теперь вернулась. Видели бы вы ее, доктор. Сердце разрывается. Кожа и кости. Лицо бледное. Слепому видно, что девочка больна. Они – она и муж – могут вызвать самого лучшего врача. Но девочка не хочет. Пришла на две недели и хочет вернуться в дом Движения. Пришла лишь немного отдохнуть. Но на этот раз они с мужем решили, что этого не будет. Следует прекратить это безумие, в конце концов, она уже не ребенок. Со здоровьем не шутят. Может, доктор им сможет помочь? Все его хвалят. Может, займется ею? Ведь он тоже активно занимается сионистскими делами, и все же живет и общественной жизнью.
– Может ли госпожа Коэн сказать, где Белла? – Филипп забыл все правила уважительного поведения, пытаясь прервать поток речи этой женщины.
Госпожа Коэн не знала, где Белла. Она ведь никогда ничего им не говорит.
– Может, госпожа Коэн любезно согласится передать Белле, чтобы она завтра пришла в мой офис. У меня к ней срочное дело. Пусть хотя бы позвонит. Дело действительно срочное.
Филипп спустился по ступенькам на улицу, голова у него кружилась. Долго крутился у входа в дом, в надежде, что Белла вот-вот вернется. «Именно такой я люблю Беллу, какой ее изобразила госпожа Коэн: упряма, преданна идее всей душой. Сегодня придет в офис. Может, уже ждет меня там». Филипп начинает торопиться, но останавливается. «Я должен принести Белле подарок. Что бы она пожелала сейчас? » Он входит в цветочный магазин. В магазине много хризантем, больших, цельных, зрелых, как роскошные, довольные собой женщины.
– Госпожа, – обращается Филипп к продавщице, – эти хризантемы мне не подходят, понимаете ли… я…Прошу цветы для молодой невесты… Нечто мягкое, нежное…
– Вот, господин, прямо из оранжереи, – продавщица с гордостью указывает на узкую высокую вазу: белые в своей чистоте розы стыдливо выглядывают из только раскрывшихся почек.
Филипп тотчас покупает эти розы, возвращается на улицу, прислоняется к стене дома, смотрит на розы. «Что мне с ними делать – думает он с каким-то отчаянием. – Я ведь не могу с ними появиться в общине. И кто знает, придет ли Белла сегодня?» Филипп вздыхает, открывает портфель, и прячет в него цветы.
* * *
В это же время Белла стоит перед огромным зданием с роскошным фасадом, на Липовой аллее – Унтер Ден Линден – главной улице мегаполиса, и смотрит на вывеску у входа: Доктор Блум, глазной врач. Часы приема… Белла читает и возвращается, и вновь читает, не в силах вникнуть в их смысл. Доктор Блум… Наберется ли она смелости войти к нему. Время раннее. Доктор, верно, сейчас завтракает, и неприлично ему мешать… Откуда эти колебания? Надо подняться к нему, и не медля. Нет у меня выбора. С чего начну. Что скажу ему…
– Вы что-то потеряли? – открывает окошко женщина-консьержка, вперив в Беллу по-жабьи выпяченные глаза. – Чего тебе здесь стоять? Если ждешь своего любимого, найди себе более подходящее место.
– Какое вам дело, где я с ним назначила встречу. Ты тротуар не охраняешь!
«Эта ведьма забрала у меня остаток смелости». Белла оставляет место наблюдения и начинает прогуливаться по аллее. «Еще рано. Через час поднимусь к доктору Блуму, и будь что будет! Такой прекрасный сегодня день, словно создан специально для радости».
Белла останавливается. Аллея дышит радостью. Стекла домов сверкают, дети идут в школу в сопровождении воспитательниц. Шоссе лихорадит от потока движущихся автомобилей, люди идут, улыбающиеся и довольные. Дует легкий ветерок. Белла ощущает тепло солнечных лучей.
«День создан для радости! Если бы я могла сейчас поехать к Филиппу, уехать с ним в долгое путешествие. Куда? Подальше отсюда. На то озеро… Нет, нет. Только не на то озеро!»
– Госпожа, какие у вас планы в такой прекрасный день? Быть может, вы свободны?
Молодой мужчина с тонкими усиками снимает перед нею шляпу. Она поворачивается к нему спиной, ускоряет шаги, и вот уже снова у здания и вывески.
Высокая светловолосая женщина выходит из дома, держа за руку мальчика лет десяти. «Быть может, это жена доктора Блума? Что-то я сегодня совсем сошла с рельс. Филипп же мне сказал, что доктор развелся с женой десять лет назад. Сейчас же поднимусь».
Вчера Белла решила обратиться к доктору Блуму. Вчера она оставила дом сионистского Движения и вернулась в родительский дом. Просьба ее об отпуске вызвала недовольство, подозрение, разочарование в среде товарищей. Беседа была трудной.
– Отпуск? В эти дни, когда Движение в таком напряжении. Все в тревоге – от молодых до старых. Отпуск? Почему? Объясни хотя бы, почему?
– Поверьте, – почти взмолилась она, – дело сложное. Я должна что-то выяснить для себя.
– Чувствую, что ты нас покидаешь.
– Нет! – восстала против этих слов. – Я клянусь вам. Нет и нет! Движение я не оставлю.
– Чепуха! – сказал Джульетта. – Кто может подумать, что она нас оставит? Просит, чтобы мы ей поверили, и мы поверим.
– Не дай черной меланхолии овладеть тобой, – сказал он ей назавтра, провожая к родительскому дому, – вчерашнюю беседу выбрось из головы. Разреши нести твой чемодан.
– Сама понесу. Не нуждаюсь в излишней вежливости.
– Не хочешь – не надо, – идя рядом, Джульетта начал долгий рассказ о том, что приключилось с ним в одной из городских школ. Белла слушала его рассеянно, слова доходили до нее издалека. Джульетта чувствовал, что она его не слушает.
– Идешь рядом со мной, как будто наступил твой последний час. Это очень сердит меня.
Тем временем пришли к дому родителей Беллы. Стояли у входа, и Джульетта сказал:
– Белла, через две недели. Дата записана на доске. Будь точной, Белла. Я могу забыть, потому что занят и весь на нервах. Как явствует из моего рассказа, не так-то просто организовать детский батальон.
– Знаю, – прервала она свое молчание, – это не так просто.
И нельзя было понять, что она имела в виду. Глаза ее смотрели вдаль.
– Крепись и будь мужественным, Джульетта, привет.
– Крепись и будь мужественной, Белла. Ровно через две недели.
В тот же день, в послеобеденные часы, Белла шаталась по улицам. В конце концов, оказалась в приемной врача-гинеколога в одном из рабочих кварталов. Женщина-врач в рабочем квартале, надеялась Белла, поймет мое смятение. Врачиха была решительной женщиной. Поверх холодных очков хмурым взглядом окинула Беллу. Входя в белую комнату с множеством сверкающих металлических инструментов, чувствовала себя Белла, как солдат, действующий по приказу командира.
– Что у вас?
Белла начала что-то мямлить, но не успела высказать свою просьбу, как услышала:
– Ложитесь там, на кресло. Для проверки.
Кресло было покрыто холодной клеенкой. Дрожь прошла по телу.
– Все в порядке. Конец второго месяца. Одевайтесь, – приказала врачиха.
Белла приготовилась говорить, но врачиха повернулась к ней спиной, погрузилась в свои записи. Белла открыла рот, но не вымолвила ни слова. Врачиха повернулась к ней, встала со своего места, решительно взяла за руку и открыла перед нею дверь.
Попытаться пойти к другому врачу Белла не решилась, и продолжала шататься по улицам в отчаянном состоянии. Поняла, что без чьей-то помощи она не сможет сделать задуманное. Рылась в воспоминаниях и не могла отыскать человека, к которому можно обратиться в тяжелую минуту. Филипп! – Он обязан мне помочь. Нет, нет! Только не Филипп!
В конце концов, вернулась домой. Мать оглушила ее потоком слов, но она лишь обратила внимание на то, что был здесь Филипп. Он вернулся в Берлин. Он искал ее. Филипп сам решил, надо кончать.
«Что мне делать? К кому обратиться?» Белла ворочалась в постели с боку на бок, не в силах уснуть. Что я буду делать? Чувствовала телом холод клеенки, видела холодную руку в резиновой перчатке, равнодушно сверкающие очки, решительный жест врачихи. И вдруг во внезапном озарении встал перед нею облик доктора Блума. Как это она его сразу не вспомнила? Как это обошла его вниманием? Не могла больше лежать в постели, подбежала к окну. В небо взошла огромная луна.
* * *
Белла медленно поднимается по ступенькам.
Доктора Блума она увидела на собрании сионистского Движения. Как один из его активистов, он постоянно сидел в президиуме. Ничто в докторе не привлекало ее внимания. Выглядел он скромно, даже застенчиво, среднего роста, лет пятидесяти, абсолютно седой, до самых густых бровей, нависающих тенью над темными тяжелыми глазами. Глубокие морщины разрезали щеки от носа до уголков рта. И только слабая ироническая улыбка не сходила с его губ, что, казалось, говоря, доктор посмеивается даже над собственными словами. Филипп был связан с доктором глубокой дружбой. Однажды он рассказал о его жизни Белле. С того дня Белла прониклась к нему большим уважением.
– Ты пойми, – сказал ей Филипп, – мой друг доктор Блум – человек богатый, известнейший специалист в своей области, из семьи ассимилированных уважаемых банкиров. И, несмотря на это, пришел в сионистское движение, пройдя долгий жизненный путь, полный трудностей и страданий, но во всех катастрофах всегда сохранял благородство души и чистоту рук.
Белла перепрыгивает через две ступеньки, торопясь нажать на кнопку звонка, прежде чем одумается. Громкий звук звонка пугает Беллу. «Сейчас откроется дверь и уже не будет хода назад. А человек чужд мне, чужд…» Сестра милосердия открывает дверь.
– Госпожа, прием еще не начался. Хотите подождать, пожалуйста.
– Нет, у меня личное дело к доктору Блуму. Спросите, будьте любезны, сможет ли он принять меня. Доктор Блум со мной незнаком.
Белла стоит посреди комнаты, боясь присесть. И здесь этот густой запах плесени и старости. Тяжелые бархатные портьеры спущены до половины окон, затемняя дневной свет. В комнате стоит сумрак, большая хрустальная люстра посверкивает холодным пламенем, и вокруг полно темной тяжелой мебели. Много картин на стенах и столах, разбросанная фарфоровая посуда кажется заброшенной, фотографии людей и животных, высокие вазы без цветов. Высокие напольные часы отзванивают время: половина девятого утра. Хриплый этот звук, как постанывание, подчеркивает абсолютное отсутствие чего-то живого в комнате, что еще больше наводит ужас на Беллу.






