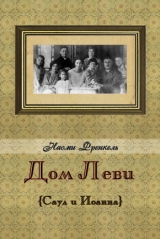
Текст книги "Дом Леви"
Автор книги: Наоми Френкель
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Отца Саул не боится, никогда не повышал на него голос и не поднимал на него руку.
Саул выходит наружу через кухню, и в этот же миг в лавку входит дядя Филипп.
– Что слышно? – доктор Ласкер сбрасывает плащ, отряхивает зонтик, ставит его в угол и устало усаживается на стул напротив деверя.
– Ребенок болен, а Розалия вышла по делам. Я был у тебя сегодня. Чего ты добился у господина Леви?
– Я не был в доме Леви, занят был весьма важным делом.
Лицо Зейлига серьезно. Стоит, глаза опущены долу, играет большим ножом, лежащим на мраморе стола.
– Дело срочное, Филипп, если мы не добудем гарантий, у нас заберут лавку.
– При всем желании я не мог пойти сегодня к господину Леви. Занимался личными своими делами. Ничего не изменится, если эту встречу я отложу на один день. Гарантий мы добьемся. Господин Леви не остался к этому равнодушным. Но чем это поможет? Даже со всеми гарантиями вы не сможете гарантировать себе здесь безопасное существование. Надо думать о будущем, Зейлиг. – Филипп встает, и разгуливает по лавке. – Ты, несомненно, уже читал газету. Диктаторские полномочия правительства не сулят ничего хорошего. Кто знает, что несет завтрашний день. Лучше упредить беду и убраться отсюда.
– Эмиграция? Для нас, Филипп, это непростое дело. Мы уже не молоды. Хотя, по правде, я об этом думал не раз. Может быть, действительно не будет у нас выбора.
– Во имя сына, Зелиг. Саула надо послать в молодежное сионистское движение, чтобы его там подготовили к репатриации, я поговорю об этом с Беллой.
– Об этом надо сначала поговорить с Розалией, – торопится сказать Зелиг. – а ты, Филипп, что собираешься делать? Останешься в Германии?
– Настанет день, и я уеду в страну Израиля. Зейлиг, я собираюсь жениться, разделаюсь не спеша со всеми делами, это не будет, конечно, с сегодняшнего дня назавтра.
– Жениться? Поздравляю, Филипп! – Зейлиг поднимает голову, – поздравляю.
– Ребенок болен, говоришь? – спрашивает доктор Ласкер. – Пойду, проведаю его.
Филипп входит в комнату. Постель пуста.
* * *
Саул ищет Отто. Сумерки опустились на переулок, забитый домохозяйками и рабочими, возвращающимися по домам. И Хейни сын Огня возвращается с фабрики. Идет по переулку, большой, широкогрудый, чернолицый, и все с уважением здороваются с ним. Тут, в переулке, он – персона. Тут матери пугают им непослушных детей, – мол, расскажем Хейни, он придет, возьмет вас и бросит в печь. Тут, в переулке, никто не осмелится сказать – «Хейни – пустое место». Тут Хейни шагает с приподнятой головой, выпятив грудь, и кивает головой налево и направо, отвечая на приветствия. Но с приближением к забегаловке, грудь его вжимается, здесь ожидает его жена Тильда, маленькая, сухонькая, кудрявая Тильда, которую Хейни может всю вобрать в свои огромные ладони. Но глаз Тильды остер на Хейни и его деньги, и глаз этот смягчает его широкие плечи. Тильда стоит на страже, и Хейни покорно идет за нею, как послушный ребенок, который держится за мамину юбку.
Саул идет к скамейке. Скамейка пуста и по-осеннему уныла. Дождь размягчил черную землю вокруг нее, липы покрыли его желтыми листьями, киоск Отто закрыт на замок.
– Ты ищешь Отто? – спрашивает Эльза, стоящая у ворот, напротив забегаловки. Волосы ее зачесаны вверх, она в черном пальто с золотыми пуговицами. Алый рот ее пылает, как головешка. – Твой Отто сидит в трактире, там сегодня весело.
С тоской и скорбью смотрит Саул на физиономию жирной Берты, нарисованную на стекле трактирного окна. Зайти или нет? Двое рабочих открывают туда дверь, и Саул проскальзывает вместе с ними. Несколько секунд жмурит глаза от яркого света. Воздух в трактире густ и жарок, спирает дыхание. Странное безмолвие в забегаловке, полной до отказа. Что-то скрыто за этим, – чувствует Саул и глазами ищет Отто. Почти весь переулок здесь. Но где же Отто? Вот мелкий продавец Куно, горбун, начиненный множеством суеверий, подобно зернам в гранате. Вместе со шнурками для ботинок он продает и подает добрые советы домохозяйкам, а также – средства от буйства и дурного сглаза.
– Знаю я одного человека по имени Миллер, который забыл три раза плюнуть, когда проходил мимо бородатого еврея, и в какой-то миг посмотрела беременная жена Миллера, чей живот доходил до ее зубов. Не отвела взгляда от огня плиты. У нее родился младенец с большим красным пятном на правой щеке.
Глаза Куно расширяются от страха. Около него симпатичный Оскар, сутенер, правящий всеми проститутками переулка. Чуб его светится, в углу рта погасшая сигарета. Сидит, молчаливый и напряженный.
Даже долговязый Эгон молчит. Приехал несколько месяцев назад из какого-то прусского села, и с тех пор удивляется и говорит, говорит и удивляется. Прибыл в Берлин на поезде, и не перестает задавать вопросы жильцам переулка:
– Можете мне это объяснить? Прибыл я в Берлин. Я наверху, а Берлин – внизу. Объясните мне это.
– Ну, ясно! – смеются жильцы переулка. – Абсолютно ясно. Появляется летящий осел. Тотчас же город пугается и скользит вниз.
Сапожник Шенке тоже здесь. Странное у него занятие. Он член союза могильщиков, и часто после похорон заходит в трактир печальный, заливается слезами, запивая их приличной порцией водки. Дома его поджидает жена с метлой в руках. И с его приходом крики их разносятся от одного края переулка до другого. Сидит Шенке перед полным стаканом и не пьет.
– Что случилось?
Все молчат. Только слышен звук капающей из крана воды.
– Бруно, вытащи эту соску изо рта, ответь.
Это голос Отто. Теперь Саул его обнаруживает. Отто у трактирной стойки. Два высоких парня закрывают его от Саула. Одеты они в темные штаны для верховой езды, в черные рубашки, на которых у каждого большой выделяющийся знак – серп и молот. Руки держат в карманах и поверх головы Отто, глаза их вперились в лицо хозяина трактира. Тот стоит за стойкой, и вроде ведет какие-то счеты, делая вид, что очень занят. Толстая сигара перекатывается у него во рту. Около него стоит Пауле, выделяющийся огромными кулаками, предводитель всех парней переулка.
– Бруно, вытащи эту соску изо рта! – повторяет Отто, привлекая криком двух высоких, стоящих по обе его сторон, парней. – Отвечай, Бруно.
В трактире слышен сдержанный смех. Всему переулку известна толстая сигара хозяина забегаловки. Он не вынимает ее изо рта даже на миг. Но если вспыхивает спор, перебранка, и воздух в трактире накаляется, Бруно вынимает сигару, чтобы внести и свою лепту в спор, и тут мгновенно появляется его толстая жена Флора, и грозно кричит:
– Бруно! – И сигара возвращается в рот своего хозяина.
Жители переулка спрашивают с показной наивностью:
– Флора, в постели он вынимает сигару или нет? – и быстро убираются из трактира. Потому что у Флоры щетинятся не только ее усы, язык ее так ощетинится, что хоть стой, хоть падай. Побаивается она лишь одного человека из переулка – Отто.
– Бруно, говори, как человек. Мы хотим услышать честный ответ на честный вопрос. Что от тебя хотел твой друг Кнорке, пропади он пропадом, и две лунообразные физиономии, сопровождавшие его, пропади и они пропадом? Что они просили, чтобы им провалиться в преисподнюю, от тебя, тогда, после полудня, а, Бруно?
Кап-кап! – длит свое бормотание кран, словно бы подчеркивая слова Отто. Хозяин забегаловки вынимает изо рта сигару. Оскар встает со своего места и танцующей походкой приближается к стойке. Саул перестает стесняться и тоже приближается к Отто.
– Что вы на меня напали? – глаза хозяина забегали по всей забегаловке, голос скрипит, как старая пила. – Еще так напали! Это что, в первый раз господин чиновник посещает мой трактир?
– Бруно! – на лице Отто появляется горестное выражение. – Бруно, не напевай нам опереточные куплеты. Ты что думаешь, пропади ты пропадом, что выступаешь перед несчастными близнецами, а, Бруно? Нас тоже окунали в прекрасные воды, и друга моего Кнорке, пропади он пропадом, я хорошо знаю. Когда этот субчик пытается посетить барышень переулка, он лепится к стенам домов, у него трясутся колени от страха Божьего и от мысли, что он собирается совершить. Всегда у меня возникает к нему жалость к этому несчастному, пропади он пропадом. И вдруг сегодня является сюда во всем своем великолепии, мундир республики сверкает правом быть облаченным на этом осле. И двое его сопровождающих с симпатичными физиономиями, пропади они пропадом, существа в его вкусе. Бруно, что искали здесь эти братья-субчики, а, Бруно?
– Какое тебе до этого дело, красный клоп? – Это Флора вернулась из-за двери, за которой прислушивалась к каждому слову.
– А, Флора, добрый вечер?
Отто приветствует ее с большим уважением, как будто это его тетя, что только прибыла издалека.
– Флора послушайся совета старого и нормального, в отличие от тебя, человека: не вмешивайся в дела мужчин. Иди отсюда, Флора, и займись своим симпатичным сынком, Флора.
– И не прислушиваться к каждому хриплому свистку? Что ты вмешиваешься в дела, которые тебя не касаются? Убирайся отсюда со своими двумя красными хулиганами, которых ты сюда привел.
– Флора, не заваривай со мной кашу. Сильно пожалеешь об этом блюде, куколка моя, ты ведь единственная в переулке, на которую я поглядываю сзади, когда ты проходишь мимо меня. А почему? Все из-за расчетов, Флора.
Щеки Флоры начинают пламенеть, как два анемона. Могильщик Шенке громко сморкается и пускает старческую слезу. Рабочие хохочут и пьют за здоровье Отто.
– Почему смеются? – спрашивает долговязый Эгон, – Кто-то может мне это объяснить?
Никто на него не обращает внимания. Флора снова визжит из самого нутра своего брюха.
– Кончай свою болтовню! И не являйся сюда со всякими своими мыслями! Убирайтесь!
– Флора, говорю тебе, до всякой самой простой мысли. – Отто отпускает ей в высшей степени сердечную улыбку. – Проходя мимо тебя, я ловлю себя на вопросе: с какой быстротой может такой тупица, как твой муж, обернуться? Флора, я люблю видеть тебя сзади.
– За тебя, Отто, – поднимает рюмку красавчик Оскар.
– За тебя, Отто, – откликается весь трактир.
Портрет Гинденбурга на стене покачивается от взрывов смеха.
– Обратите внимание, обратите внимание! – шепчет горбун, и глаза его расширяются от страха. – Портрет президента трясется. Это знак больших беспорядков…
– Куда исчезла Флора, – удивляется Эгон. – Кто-то может мне объяснить?
– Бруно, а теперь поговорим по делу, – говорит Отто, явно делая над собой усилие в момент, когда Флора испарилась. В трактире воцаряется молчание.
– Мы не пришли сюда ради комплиментов твоей жене. Теперь говори, что хотела от тебя та уважаемая троица? Не стоит тебе накликать на себя беду, Бруно, – вопрос по делу – ответ по делу.
Два парня по сторонам вынимают руки из карманов и приближаются к стойке. Хозяин трактира вынимает трубку изо рта.
– Что вы на меня напали? Речь шла о деле, и больше ни о чем. Пришел господин Кнорке от имени нашей организации бойцов мировой войны. Они хотят снять у меня большой зал, который рядом с трактиром, для скромной вечеринки. Что в этом плохого? Организация эта не политическая, и в эти трудные день каждый ищет заработать еще немного грошей. Ну, что плохого можно в этом видеть?
– Хватит! Получили ответ! Убирайтесь! – Силач Пауле выходит из-за стойки, угрожающе становится рядом с Отто.
Саул замирает.
– А-а, – Отто бледнеет, – мы только и ждали твоего приказа. Нашел себе новую профессию, а, псина. Хочешь лаять вместе с ними, ура! Берегись, Пауле, дрессировщик собак.
Пауле сбрасывает куртку. Глаза его сверкают. Рот кривится. Трет кулаки. Друзья Отто становятся между ними. Эгон занимает позицию за спиной Отто, дружески кладет ему руки на плечи.
– Я же говорил вам, что беспорядки должны грянуть! – ноет горбун.
– Господи, спаси! – Визжит могильщик и делает большой глоток водки. – Дело движется к тому, что придется заказывать у священника христианское погребение.
Оскар тоже сбрасывает пальто. Он готов. Глаза его сверкают, как и его шевелюра.
– От чего все так возбудились? – пытается снизить напряжение могильщик. – Я знаком с организацией Кнорке. Встречал ее членов на кладбище, пришли похоронить товарища. Похороны были красивыми, И организация в порядке, поверьте мне. Все у них есть – и касса, и гимн, и председатель, и знамя. Оставьте их в покое.
– Они вне политики?! Весьма поощрительна твоя глупость – возрождать из мертвых.
Плотник Франц, сидящий за одним из столов, встает:
– Эти вне политики? Да они же верные церберы Гитлера. Желательно, чтобы ты устроил этим господам красивые похороны, а не красивое собрание. Вот это будут похороны. Весь пролетариат Берлина придет сказать свое надгробное слово.
– Сядь, Пауле, – советует Оскар. – В этом парламенте у тебя нет права голоса. Берлин – красный.
– Чего мне садиться? Встану и буду говорить! Пусть услышат голос истинного германского патриота, а не голоса людей Москвы.
– Хвала Германии! Хайль!
– Эй, сволочи, кто тут орет «Хайль»?
– Смотрите, кто защищает коммунизм, Сутенер, пасущий проституток. Хочешь основать у нас коммуны, Оскар? Коммуны шлюх? Неплохой бизнес.
– Что ты сказал, Пауле? – одним махом руки Оскар сметает со стойки ряд пустых стаканов, и они рассыпаются в осколки у ног Пауле.
– Езус и святая Мария, помилосердствуйте! Осколки – знак беспорядков! – резкий голос горбуна рассекает, как кинжал, напряженную атмосферу.
Крики со всех сторон, не разобрать, кто за, кто против. Не ясно вообще, о чем речь. Эльза с двумя подружками тотчас ворвалась в кабак, и все втроем начали визжать, как будто весь спор вспыхнул из-за них. Два парня, пришедшие с Отто, сдерживают Пауле и Оскара, скрежещущих зубами друг напротив друга и старающихся вырваться из вцепившихся в них со всех сторон рук.
– Пауле, вперед! Покажи им свою силу, тут у тебя много верных помощников.
– Ну-ка, попробуйте! Узнаете силу рабочего Берлина!
– Сволочи! Герои великие! Тупые головы! Берлин – красный!
– Красные герои! Постельные клопы! Что вы сделаете против чрезвычайного положения?
– Только здесь, в трактире, нагло открываете рты на Флору.
– Эй, вы, ослами были и ослами останетесь!
И поверх всех голос горбуна:
– Ой, ой, успокойтесь, люди! Вы что, не видите: портрет президента дрожит. Вы сошли с ума? Это же мятеж! Катастрофа!
Оскар сумел вырваться из железных объятий.
– Оскар! Оскар! – кричит перепуганный насмерть могильщик. – Оскар, помни, из гроба человек не восстанет.
– Эй, Пауле! – Оскар бросается к нему рывком хищного зверя. – Сейчас я проучу тебя за сутенера, пасущего проституток, за коммуну шлюх…
Внезапно гаснет свет. Рабочие стучат стульями, звенят разбивающиеся стаканы.
– Горе мне, – подвывает горбун, – пиво выплеснулось на меня! Дурной знак!
– Проклятые фашисты. Только в темноте можете совершать свои делишки.
– Почему погас свет? Кто-то может мне объяснить?
– Темно, как в могиле.
– Рабочие, будьте разумными.
– Свинья! – визжит Эльза. – Убери свои лапы!
– Сумасшедшие, – Флора зажигает свет. – Совсем потеряли рассудок? Воете в темноте, как младенцы, на которых напал страх. Эй, вы, там!
Флора обращается к Отто и двум его парням. – Мы же люди, все братья, найдем компромисс, Да пошел он ко всем чертям со своими товарищами и своей вечеринкой, господин Кнорке. Слишком дорого он мне обойдется. Еще в эту ночь мне все здесь разобьют.
– Катастрофа! Катастрофа! – всхлипывает горбун.
– Ах, падаль! Когда вы, наконец, поймете, в чем дело? – Отто стоит у стойки, Оскар сидит на столе, напротив. Могильщик сложил руки, как в молитве. Горбун Куно дрожит, как портрет президента на стене. Два парня, стоящие по сторонам Пауле, не сводят с него глаз. Он и не пытается сдвинуться с места. Две противоборствующие группы сошлись в трактире. Две партии. И снова напряженное молчание, повисло в воздухе. Только глаза сверкают, перебегая от лагеря к лагерю. Еще миг, и вспыхнет огонь.
– Сволочи! – обращается к ним Отто. – Сволочи, не понимаете, откуда это напряжение? Думаете, из-за Кнорке и его компании? Да, ни в коем случае! Но кто согласится с тем, чтобы в его дом впустили скрытого вора? Кто согласится, пропади он пропадом? Господа эти только и ждут часа, чтобы вновь забить в боевые барабаны, а вы будет пушечным мясом. Да, да, пропадите вы пропадом. Но не только из-за этой банды такое напряжение, борьба уже началась. – Отто переводит дыхание и продолжает. – Понимаете ли вы, глупые головы, что означает декрет о чрезвычайном положении? Денежные мешки, жирные магнаты хотят веревками вытащить Германию из болота. Зачем они нужны, я спрашиваю вас, эти веревки? Чтобы повязать наши руки. Господа, кто голосует за них? Кнорке и его секта, говорю я вам, они, и никто другой, пропади они пропадом! Но здесь, у нас, в сердце пролетарского Берлина, они не пройдут со своими грязными делами! Здесь – нет! Я говорю вам – нет!
– Ты это поддерживаешь? Но мы не дадим здесь ставить подножку прусскому офицерству!
– Берлин – красный!
– Отто, мы с тобой!
– Рот-фронт! – бушует трактир.
На столе стоит Оскар и дирижирует капеллой:
– Рот-фронт! Рот-фронт! Рот-фронт!
– Что за радость? – изумляется долговязый Эгон. – Кто-то может мне объяснить?
– Не задавай столько вопросов, дядя. Вставай и скандируй со всеми: Рот-фронт!
– Ну, Бруно, получил достойный ответ? Понял, что за неполитическая эта твоя организация? Бруно, вытащи, наконец, эту соску изо рта, и скажи во весь голос: да или нет.
– Да, – униженно и почти коленопреклоненно говорит Бруно.
– Слава Богу! Ну, и тяжелая у тебя голова, словно в младенчестве мамаша не пудрой пудрила тебя, а мазала дегтем.
Отто ищет своих сопровождающих. Они окружены большой группой рабочих и пьют с ними за единство и дружбу. Трактир все еще шумит. Отто направляется к выходу, с трудом волоча ноги.
– Отто! Отто! – Саул бежит за ним. Все время сидел в уголке, забыв обо всем, что вокруг, видя одного Отто и восхищаясь им.
– А, мальчик! Где ты был столько времени, Саул?
– У одного деда, в большой усадьбе в Восточной Пруссии.
– В Восточной Пруссии! У юнкеров?
– Юнкеры? Что это такое?
– Юнкер? Ну, это очень старый червяк-древоточец.
– Что это?
– Древоточец? Ну, понимаешь, сидят очень старые черви внутри дерева и точат здоровый ствол. И он – бревно такое – выдерживает это сотни лет, не ощущает и не знает, что ему делают, потому что, понимаешь, бревно есть бревно. Теперь понимаешь?
– Да, понимаю, но тот дед не был похож на червя-древоточца, он лишь откармливал гусей.
– Ах, мальчик, мальчик. Ты все еще ничего не понимаешь. Они ведь дело свое делают не на виду. Днем они умащают дерево своей жирной слюной, а ночью – точат.
– Почему они это делают, Отто?
– Почему? Понимаешь, малыш, древоточцы эти протачивают дерево насквозь. С этого момента, несчастное это бревно уже и не дерево, а пустышка. На взгляд снаружи кора его даже выглядит свежей, а внутри – пустота. Затем в эту пустоту они пускают яд и поражают все дерево гнилью. Ой, малыш, и так сгнивает дерево от корня до кроны.
– И сейчас они выпускают яд, Отто?
– Еще как, малыш. Беспрерывно!
– Но дед на усадьбе не точил дерево. Быть может, барон? Там был один барон, у которого усы тянулись по лицу вниз, как червяки.
* * *
Они медленно идут по влажному от дождя переулку. Мутно светят газовые фонари. Из окон домов тянутся косые узкие полоски света, словно серебряные нити. Из водосточных труб падают тяжелые капли. Пауле выходит из трактира с Эльзой и пьяным в стельку горбуном, Ноги его не держат. Останавливается у фонаря и отдает честь. Дети плачут, женщины громко ругаются. Пьяные то ли кривляются, то ли смеются. В одном из домов печально поет девушка. Саул и Отто останавливаются у закрытого на замок киоска.
– Собаку мою отравили, – голос Отто тяжел.
– Мину? – вскрикивает Саул. – Кто это сделал?
– Если бы я знал, малыш. Месть какого-нибудь мерзавца. Шаталась моя Мина по разным местам. Бегала по улицам, совала нос в любую дыру. Но верной была, всегда возвращалась домой, ко мне, всегда. Сегодня в полдень я нашел ее мертвой, отравленной. И записку к ней прикрепили: «Когда покраснеет нож от крови коммунистов и евреев, возродится Германия». Какие подлецы, малыш, какие сволочи! Даже полячка моя в трауре. Даже она.
Из подвала Эльзы выходит Пауле. Проходит мимо них, плюет и исчезает в глубинах города. Две проститутки прогуливаются по переулку туда и назад. Руки Отто бессильно опущены вдоль тела. Рядом со скамьей бегут автомобили, ревут клаксоны, скрежещут рельсы под несущимися трамваями.
– Всем этим людям, малыш, даны любящее сердце и разум для понимания, но они этого не знают. Все их мысли поглотил этот огромный город. Они просто падаль. Ах, малыш, взяли и отравили собаку! Зачем, почему? В чем она согрешила. Ее дружба и верность кололи им глаза. Сделали ее жертвой политики. Ах, причем тут политика? Простая подлость, и больше ничего. Бегала она по комнате и душа ее была связана с моей душой, и я изливал ей сердце, и тепло мне рядом с ней. И вот, малыш, убили ее!
Отто протягивает вперед руки обвиняющим жестом, и Саул хочет пожалеть своего друга, и не знает как. Печаль снедает и его сердце. Он охватывает широкими ладонями Отто свою горячую голову, и ладони эти соскальзывает на его щеки мягко, с любовью.
– Отто, ты в трактире был неподражаем. Вы там победили. Там было много хороших людей.
– Да, сегодня мы победили, но как, малыш? Видел ли ты свечу на окне, борющуюся с ветром? Вот, она погасла, но вот снова воспламенилась. Воспламенилась она этим вечером в трактире, но ветер сильнее ее. Да, Саул, честные сердце еще сопротивляются. Пытаются спасти то, что можно еще спасти. Они теряют на этом заработок, рискуют жизнью, банды головорезов режут им горло, но они борются. И все же, малыш, тонкий слой чистых вод не в силах одолеть скверну, текущую рекой.
– Отто! Отто! – Саул исчезает, прячась за киоском.
Проходит госпожа Гольдшмит с уймой пакетов, торопится, тяжело дышит.
– Прошла? – Голова Саула высовывается из-за киоска.
– Чего ты спрятался от матери, как будто это какой-то дракон?
– Отто, я болен. У меня воспаление горла. Я сбежал с постели, Отто, чтобы тебя увидеть. Что мне сейчас делать? Ой, Отто, она меня жестоко отлупит. – Еще миг, и Саул ударится в плач.
– Бедный, – Отто гладит Саула по голове. – Сбежал из постели, чтобы меня увидеть? Ах, кто судил и кто молил? Ничего, малыш, я провожу тебя домой и не дам твоей маме тебя тронуть.
– Нет, нет, Отто, лучше мне пойти самому, – не хочет Саул оскорбить друга и рассказать ему, что мать запретила ему встречаться с Отто.
Дождь усиливается. Хлещет.
– Беги, малыш, ты болен. Еще простудишься совсем в эту погоду. – Остерегает Саула Отто, и отечески похлопывает его по щеке.
Дверь мясной лавки заперта. Саул пересекает двор и останавливается у двери в кухню. Рука не поднимается – нажать на щеколду. Из кухни слышны взволнованные голоса. «Голос дяди Филиппа!» – и рука поднимается без труда. «Дядя Филипп пришел! Ничего плохого мне не сделают». Двери открываются, и Саул падает прямо в объятия доктора Ласкера.
– Вот он! – перекатывается с непривычной для нее проворностью госпожа Гольдшмит с одного края кухни в другой. – Вот он.
Голос ее не предвещает ничего хорошего.
– Оставь ребенка в покое, Розалия, – Филипп обнимает Саула, – ты что, не видишь, какое у него тяжелое испуганное дыхание?
Доктор Ласкер сажает Саула на стул и наклоняется к нему: – Где ты был, мальчик?
– Дядя Филипп, дядя Филипп, – Саул ударяется в плач, – убили собаку Отто, убили Мину, это сделали юнкеры. Отравили ее с головы до ног. И она умерла, дядя Филипп! Умерла!
Доктор Ласкер обеспокоено кладет ладонь на лоб Саула.
– Ребенок весь горит, у него высокая температура. Успокойся, Саул. Не плачь. Идем, уложу тебя в постель. – Филипп накрывает его одеялом, опять мягко прикасается к его лбу.
– Дядя Филипп, ты снова едешь в дом Леви?
– Да, Саул, завтра.
– Когда я выздоровею, возьмешь меня к Иоанне, я должен ей рассказать о многих важных вещах, я с ней помирился, дядя Филипп.
– Когда ты выздоровеешь, возьму тебя туда. А теперь, Саул, спи.
– Дядя Филипп, только еще одно – Иоанна обещала мне, что будет учить иврит. И больше не прикоснется к свинине. И…
– Теперь спи. Завтра поговорим.
– Посиди еще немного, дядя Филипп, совсем немножко.
– Я тороплюсь, Саул, час поздний, я очень устал. У меня был очень тяжелый день.
* * *
Берлин дышит покоем после бурного дня. Даже гроза миновала. Водосточные трубы все еще исходят тяжелыми каплями. В течение дня облысели деревья, стоят поникшими, словно испытывая стыд. Облачные волны, накатывавшиеся весь день, вернулись к лености и несут свою мглистую муть поверх города. Дождевые воды создают единственный шум на улицах, скатываясь в канализационные колодцы. Только время от времени этот шум сопровождают шаги полицейских в стальных касках, прикрепленных к их подбородкам ремешками, и несущих в руках резиновые нагайки. И по всем углам объявления: «Закон о чрезвычайном положении!»
Дремлет город. Спокойно дышит, и не знает, что в этот осенний день опустил Михель-дурачок вторую ногу на землю. Михель, который годами плясал до упаду на одной ноге, устал, и вторая нога его гневно опустилась на тротуар. Усталый Михель не очень-то выбирает, и готов шагать по любому пути, который ему предложат и проложат, даже если он весь выложен человеческими бедами и страданиями.
Город отдыхает. Тяжкими темными копнами лежат туманы на крышах домов.








