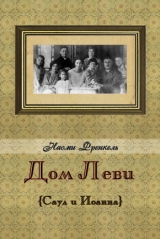
Текст книги "Дом Леви"
Автор книги: Наоми Френкель
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Тут же, доктор, я почувствовал, как во мне закипает кровь, и зубы начинают стучать. – Господин чиновник, говорю, уважаемый господин осел, несмотря на то, что затянут в мундир, осел есть осел, и ревет, как осел. Из-за этого, доктор, друг мой Кнорке подал на меня жалобу в суд. Я закончил. Теперь говорите вы, доктор.
– Боюсь, Отто, нет у меня для тебя совета, в твоем случае закон стоит на стороне друга Кнорке. И наверно все тобой было сказано в присутствии многих свидетелей.
– Свидетели! Да разве в свидетелях нуждается мой друг Кнорке? Я буду стоять на своем, и ничего перед судом скрывать не буду! Он – осел в мундире! Да разве можно отрицать то, что я сказал? Я и не собираюсь. Я ведь не флюгер какой-то, чтобы держать нос по ветру. Я ведь все же социал-демократ!
– Отто, что ты так разволновался? Надо спокойно отнестись к делу. Всего-то оштрафуют тебя.
– Деньги, доктор! Деньги! Даже пфеннига одного не пожертвую этому правительству, никогда! Чтобы выкармливали на мои деньги таких вот ослов с бородавками, как друг мой Кнорке? Нет! Даже если заставят меня проглотить этот пфенниг и задохнуться.
– Успокойся, Отто, сядь, что-нибудь придумаем.
Не может Отто сдержать себя, ходит по комнате взад и вперед, глаза навыкате, весь пышет пламенем. Часы на стене отбивают восемь с половиной. Доктор Ласкер вздыхает. За стеклами хлещет дождь.
– Вы понимаете, доктор, почему я так взвинчен? Не из-за друга моего Кнорке. Буду я волноваться из-за ослиного рева? Конечно же, нет. Все дело в немцах, доктор Ласкер. Сильное искажение произошло в немецком человеке, что-то в нем искривилось. Поглядите, доктор Ласкер, что происходит в Германии. Некто определяет физиономию моего друга Кнорке в квадрат почтового окошка. И тут же этот субъект превращается в начальника, продающего почтовые марки, и тебе дано великое право – получать милостыню из его рук. Таков характер нашего народа. Каждый служка должен иметь своего прислужника, сгибают спину, стелются перед теми, кто наверху, и топчут ногами тех, кто снизу. Почему этот так у нас? Я спрашиваю вас, почему? Ибо у этого народа вместо души – казарма. Тают перед каждым насекомым, у которого пуговицы служивого.
Отто сидит в кресле, обняв колени обоими руками, погрузившись в размышления, и вдруг вскакивает, как ужаленный.
– Доктор, страшная порча нашла на немцев! Подозреваю, что и социализм им не поможет. Я спрашиваю вас, доктор, кто они, миллионы безработных? Река, которая влечет мутные воды. И человек в человеческом облике тонет в этих водах. И кого сумеет выудить ваша рука из водоворотов такой реки? Мерзавцев, доктор, и все тут. Да, да, доктор, пойду сидеть за решеткой из-за друга моего Кнорке. Чтобы черт и тьма египетская побрали его и ему подобных. Доброго утра, доктор, пойду я своей дорогой.
Отто застегивает пальто, берет зонтик, словно это обнаженный меч в его руках, тяжелыми шагами пересекает комнату и открывает дверь. Доктор Ласкер просит его вернуться.
– Отто, я все же хочу дать тебе совет.
– С превеликим удовольствием, но – покороче.
– Отто, придержи язык за зубами. Экономь слова, когда тебя заставят говорить. Остерегайся, чтобы действительно не сесть за решетку из-за господина Кнорке и ему подобных, Придержи язык, Отто, для более важного времени. Мы живем в безумные дни, невероятно безумные.
– Совет принимается. Истинно верно – дни сейчас невероятно безумные.
Наконец-то доктор Ласкер надевает пальто. «Сегодня много дел. Надо поторопиться. Уже не успею увидеть Саула. Надо связаться с семейством Леви. Необходимо побеседовать с господином Леви по весьма важным делам».
* * *
Площадь все еще погружена в дремоту.
В доме Леви спят. Жалюзи опущены. Ветер треплет кроны деревьев. Вьющиеся растения на стенах дома вытянулись порывами ветра и похожи роту часовых, охраняющих дом при входе и выходе.
Восемь раз прокуковала кукушка в стенных часах салона. Жильцы дома пробуждаются от сна.
В столовой Эсперанто вращает глазами, навостряет уши, зевает со сна и соскальзывает со своего ночного ложа в кресле.
Фердинанд внес патефон в ванную, и бреется под звуки популярной в сезоне песенки. Служанка в коридоре начищает обувь в ритме мелодии. Кудрявые девицы, поднимают головы, на миг, прислушиваются к вою ветра, шуму дождя, скрипу жалюзи, и опять погружают свои кудри глубоко в подушки.
«Жаль», – думает господин Леви и зажигает ночник, – жаль. Осень в этом году пришла слишком рано. Придется отсиживаться дома. Позвоню Филиппу, приглашу на обед. Гейнца тоже следует пригласить на эту беседу. Проверить, что происходит на фабрике. А первым делом следует осведомиться о здоровье Эдит. Все еще не вернулась из своего путешествия. Фрида сказала мне, что она переписывается с Гейнцем».
Господин Леви сворачивается под одеялом, дождь бьет в жалюзи.
«Эдит, – думает он с теплотой, – я ведь люблю ее больше всех детей, но никогда не выказывал ей свою любовь».
* * *
«Где чулки?» – Иоанна находит один чулок под кроватью. «Саул обещал прийти сегодня, но в такой дождь вряд ли придет». Иоанна сидит на кровати, и чулок вяло свисает с ее рук. «Завтра начинаются занятия в школе. Фу! Сегодня попрошу у отца нанять мне учительницу иврита. Хочу тоже знать то, что знает Саул».
– Ты трус! – Бумба сидит на краешке ванны. – Ты большой трус, Фердинанд.
Фердинанд вернулся с каникул возбужденным и несчастным. Обе кудрявые девицы влюбились. Весь дом соболезнует горю Фердинанда.
– Я бы на твоем месте, – продолжает Бумба, – сделал то, что сделал один мексиканец, которого я видел в кинофильме. Встал бы против одного из этих господ, выхватил бы пистолет и крикнул: господин хороший, предупреждаю тебя – ты или я!
– Это называют дуэлью, – вмешивается Иоанна, что тем временем явилась в ванную в ночной сорочке с одним чулком на ноге.
– Отстаньте от меня, – злится Фердинанд, – оставьте меня, я нервный.
В кухне Фрида включает электрическую кофеварку. Жужжание ее внушает некоторую бодрость в это осеннее утро. В кухню на коленях вползает Гейнц. В утренние часы мягкость Фриды явно ей не идет и пугает всех обитателей дома.
– Фрида, – подлизывается Гейнц, – Фрида, доброе утро! Как спалось в эту ночь? Как ты себя чувствуешь в такое скверное утро?
– Не задавай сразу столько вопросов! – сердится Фрида. – Садись, ешь и собирайся на твою работу. Снова проспал.
Фрида энергичными движениями ставит на стол посуду, еду, Гейнц скромно усаживается на краешек стула, с выражением вины на лице, и просящим прощения.
– Твой дед, – начинает Фрида, и поток ее слов заполняет кухню до предела, – каждое утро вставал до рассвета и открывал ворота фабрики. Уважаемый господин, говорила я ему, у вас что, на фабрике нет привратника? Фрида, отвечал он мне, Фрида, ему надо ждать поезда, чтобы добраться до места работы. Да и отец твой, когда был еще здоров, выходил из дому каждое утро точно в семь, а вот, наследник – сидит за столом.
– Фрида, ты преувеличиваешь.
– Преувеличиваю, преувеличиваю! Не присматривала бы я за этим сумасшедшим домом, давно бы мы все ходили по улицам с протянутой рукой, – Фрида вытирает нос передником. – Бедные дети! Вы должны благодарить Иисуса милосердного, что я хлопочу здесь обо всем.
– Ты преувеличиваешь! – мягко возражает Гейнц, – перестань так беспокоиться, положение наше не до такой степени худо. Во всяком случае, оно дает тебе возможность покупать каждое утро свежие булочки.
– Иди на работу!
– Выгляни в окно, Фрида на этот пасмурный день! Страх Божий! В какой мир ты изгоняешь меня вместо того, чтобы предложить еще одну чашку кофе.
Гейнц абсолютно отрешается от плохого настроения Фриды, с удовольствием закуривает, словно собираясь сидеть здесь долгие часы.
– Послушай, Фрида, ветер воет, как хищный волк. Не кажется ли тебе, Фрида, что в такой день мир обнажает свое истинное лицо? Фрида, как ты полагаешь, если я сейчас выйду в бушующую пустыню, как будет себя чувствовать во мне человек – венец творения?
– Надень теплые штаны и не изводи меня своими бестолковыми рассуждениями.
– Фрида, – Гейнц притягивает к себе второй стул, и кладет на него ноги. – Я буду себя чувствовать как несчастный воробей, который мокнет под дождем, и ветер его треплет. Куда обратится, куда спрячется воробей-сиротка в эту бурю?
– Тебе следует жениться, – на лице Фриды возникает выражение большого беспокойства, – тебе необходима жена. Когда парень безостановочно плетет глупости, это означает, что он созрел. – Фрида неожиданно усаживается напротив Гейнца, скрестив руки на животе, и вперяет в него явно осуждающий взгляд. – Давно пришло время, чтобы ты вел себя ответственно и разумно. Отец твой болен, а ты первенец его, как же ты свел Эдит с этим мерзким юбочником? Дочь добропорядочных родителей обретается с мужчиной в гостиницах. Езус! Видела бы это ваша матушка! Перевернулась бы гробу! И беда эта из-за тебя! Привел этого типчика в наш дом. Ты! А Эдит, Эдит…
Фрида плачет. По ее широкому и доброму лицу текут крупные слезы. Гейнц сконфужен. Поворачивается к окну, вглядываясь сквозь дождь.
– Ты первенец! – кричит Фрида ему в спину и сморкается в платок.
Гейнц нервно сминает в пальцах сигарету.
«Он привел этого мерзавца в дом! Что Фрида знает об этих жестоких днях? С тех пор партия Гитлера преуспела на выборах, усилился антисемитизм, именно в металлургической отрасли. Он, Гейнц, вынужден искать новые связи. Он обязан дружить с победителями, насколько это возможно. В подвалах с питьем и развлечениями он нашел многих из них. И этого Эмиля Рифке. Он офицер республиканской полиции, но его связи с нацистами такие, что он был послан штабом полиции к крестьянам Пруссии, не желающим платить налоги. Они вышвыривают со двора налоговых инспекторов. И это сопротивление нагнетают типчики в коричневых рубашках. Решили послать вора к ворам: Эмиль Рифке сумел погасить конфликт. Эдит поехала с ним, в маленький городок, скрытый между селами. По сути, это курортный городок, Эдит тоже одна из отдыхающих. В небольшой гостинице она ожидает Эмиля из поездок по селам. Эдит сломалась в грубых ладонях налогового инспектора. Не для этого он, Гейнц, привел Эмиля в их дом. Он пытался ее предостеречь. Вернувшись из усадьбы деда, нашел ее в саду. Была летняя ночь. Он сидел на ступеньках дома. Сад тонул в сиянии. Эдит шла к нему по аллее в светлом вечернем платье, с улыбкой на губах, как бы погруженной в любовные воспоминания. Он побежал ей навстречу, и они встретились между деревьями. Хотел с ней поговорить, предостеречь, рассказать кто он, этот Эмиль. Протянуть ей руку. Но Эдит окинула его холодным отчужденным взглядом и заскользила в сторону дома, не собираясь даже его слушать Совершенно обескураженный, он глядел вслед, оставшись с пустыми руками. Тогда он понял, что опоздал. Любое предостережение – впустую. Эдит, бабочка, расправила крылья. На следующий день уехала. И кто виноват?»
– Ты – первенец! – укоряет его Фрида, и слезы текут у нее из глаз.
Гейнц подошел к ней и положил руку ей на плечо.
– Успокойся, добрая старушка, – он растроганно гладил седые волосы Фриды, – Эдит вернется. Началась осень. Она не останется на каникулах в ливень и бурю. Вернется в ближайшие дни.
– Вернется – Фрида не успокаивается, – но даже вернется, не будет та же Эдит, избранная и чистая, какой была раньше.
– Что делать, милая моя старушка? – Гейнц обнимает Фриду за плечи. – Нельзя бабочку держать в закрытой коробке. Она может потерять все свои красивые оттенки.
– Ты со своей болтовней! Когда можно будет с тобой серьезно поговорить?
– Быть серьезным, моя старушка, – быть серьезным и жениться. Отлично сказала, красиво. В этом холодном мире возьму себе в жены толстушку, круглую, теплую, – голос Гейнца становится тише, задумчивей, – быть может, не увидишь меня на улицах этого города. В объятиях ее совью гнездо, закрою свой дом на замок и удостоюсь увидеть своих сынов и внуков, получивших образование, ставших зрелыми. Если бы это свершилось! Дни-то сейчас ужасно тяжкие.
Зазвонил телефон.
– Езус, – смахивает слезы Фрида, снимает руку Гейнца со своего плеча. – Уважаемый господин проснулся. Просит завтрак.
– Гейнц, – говорит она, прослушав телефон, – твой отец просит зайти к нему прежде, чем ты отправишься на фабрику. Поторопись! Лентяем ты был еще тогда, когда я тебе утирала нос, лентяем будешь всю жизнь.
– Доброе утро, отец.
– Доброе утро, Гейнц.
В комнате господина Леви опущены жалюзи. Горит настольная лампа. Чисто выбритый, прямой, серьезный, как всегда, сидит господин Леви у темного письменного стола. Перед лицом отца лицо Гейнца обретает еще более серьезное, самоуверенное выражение. Гейнц отвешивает отцу легкий поклон.
– Как прошла для тебя поездка из усадьбы, отец?
– Прошла. Видишь, Все трубы небесные разверзлись на меня. Я надеялся найти дома Эдит.
Господин Леви бросает долгий оценивающий взгляд на сына.
– А, Эдит? Она все еще отдыхает в каком-то маленьком романтическом городке.
– Да, – говорит господин Леви, – отдыхает.
Довольно долго отец и сын не роняют ни звука. Гейнц мнет в пальцах сигарету.
«Его царственный вид сердит меня каждый раз. Даже утром, это не очень приятно, когда каждый человек, свободный от дел, не встает с постели, он уже бодрствует, чисто выбритый и одетый с иголочки, готовый в любой миг для приема посетителей. Следует уважать правила поведения человека. В общем-то, нетрудно быть уравновешенным и разумным, пока ты в стенах дома. Но дни-то иные, дорогой отец-принц. Ни разума, ни уравновешенности. Отец уверен, что разум не обманет. Но разум не вечен, уважаемый отец. Сегодня разум растаптывается прахом под самыми грубыми страстями».
Кукушка в прихожей нарушает молчание. Девять утра.
– Отец, разреши идти. Час поздний.
– Гейнц, что случилось с Эдит? Все ее поведение меня удивляет. Кто этот человек, за которым она пошла?
Гейнц немного сконфужен.
– Отец, разреши поднять жалюзи? Скрежет и удары ветра действуют на нервы.
– Пожалуйста, Гейнц. Мы не привыкли вести такие беседы, и все же прошу тебя, говори со мной откровенно. Гейнц, я беспокоюсь за Эдит.
– Отец, сказать по правде, я и сам ее не понимаю. Появился мужчина, и она провела с ним несколько вечеров, и уехала с ним, не сказав ни слова.
– Но кто этот человек?
– Один из моих знакомых, офицер полиции.
– А Тибо?
Гейнц жестом руки как отметает это имя.
– А Тибо? – повторяет господин Леви, расхаживая по комнате, чего обычно не делает, беседуя с кем-то – дай мне ее адрес, Гейнц.
– Что ты намереваешься делать, отец?
– Потребовать от нее вернуться домой.
– Не очень привычно для нее слушаться требований отца.
– Гейнц, здоровье мое слабое. Не знаю, что будет со мной завтра. Я напишу ей об этом, и попрошу вернуться, чтобы следить за мной.
Гейнц в смятении направляет прямой взгляд в лицо отца. Отец болен уже много лет. Но ни разу не слышали такого отчаяния в его голосе. Взгляд открывает в лице отца усталость, мягкость, печаль. Гейнц испуган. Неужели до такой степени ухудшилось здоровье отца? Об этом свидетельствуют глубокие тени в глазных впадинах. Страх охватывает Гейнца. Надо всеми силами беречь отца. Вопреки всему, он является родовым деревом, основой этого дома.
– Отец, – как можно мягче говорит Гейнц, – я уверен, что Эдит немедленно вернется домой, чтобы ухаживать за тобой.
Господин Леви выпрямляется.
– Гейнц, я хочу получить точный отчет о фабричных делах. Постарайся вернуться домой в два часа, к обеду Я приглашу также Филиппа. Я хочу, чтобы он высказал свое мнение по определенным вопросам, касающимся будущего фабрики.
Снова лицо господина Леви становится сдержанным. Мягкие доверительные нотки, что миг назад установились между отцом и сыном, исчезли. Лицо Гейнца окаменело, словно его заморозил черт.
– Как пожелаешь, отец. Я буду готов. До свиданья, отец.
– Гейнц, еще минуту. Почему ты приводишь в наш дом людей, которые нам не по вкусу?
– Отец, потому что дни теперь такие, безумные. В такие дни нам приемлемы такие друзья, как офицер полиции Эмиль Рифке.
Гейнц отвешивает поклон и выходит из комнаты.
Кукушка озвучивает время.
Когда черный автомобиль въезжает во двор металлургической и литейной фабрики «Леви и сын», рабочий день уже в разгаре.
Территория фабрики огромна. Шоссе, которые дождь довел до блеска, соединяют много различных зданий. Между ними движется поезд. Открытые платформы вагонов загружены тяжелыми плитами. Электровоз тянет вагоны, и гудит без перерыва. Фонари в тумане дождя сверкают как кошачьи глаза в ночи. Около огромных весов, обслуживаемых рабочими в плащах и черных капюшонах, поезд останавливается. Подъемный кран опускается и подхватывает большим своим ногтем связки листов стали. Затем переносит свою добычу на грузовик. Открываются ворота, и тяжело нагруженный грузовик уступает место еще не загруженному собрату, и отправляется в путь.
Гейнц останавливает автомобиль, приглаживает волосы и смотрит на рабочих, уважительно приветствующих его. «Нет нужды так торопиться», – с горечью думает Гейнц, – эти листы стали, из которых изготовляют кухонные плиты, – последний большой заказ. Если нам не удастся подписать договор с городскими газовыми предприятиями, фабрика погрузится в зимнюю спячку». Испугавшись самой этой мысли, Гейнц вновь заводит автомобиль и едет в гараж. Большое движение царит на фабричном дворе, шум оглушает. Краны скрежещут, машины тарахтят, дождь барабанит по скоплениям ржавого железа, рабочие торопятся, заводят, тормозят, разгружают и загружают. Огромный мир железа и стали. Из труб доменных печей клубится густой дым, оседая на крышах домов и складов, тяжелый как осенние облака. Гигантский молот высится над крышами зданий как стальная остроконечная башня, и кувалда, висящая в нем, как язык колокола, бьет без остановки. Молот гоняет кувалду вверх-вниз как игрушечный колокол.
Гейнц останавливает автомобиль у литейного цеха. В самом центре двора огромный навес литейного цеха: закрытое кирпичное здание, подобное удлиненному кубу, и только под крышей навеса открыты ряды узких оконцев с темными стеклами. По одну сторону навеса – горы кокса, по другую – глубокая яма, заполняющаяся шлаком и всякими отходами, а у ямы – гора краснозема, используемого при литье. Поверх гор кокса и краснозема катятся вагонетки по стальным тросам воздушной канатной дороги в обе стороны, от гор кокса внутрь доменных печей, четыре квадратных трубы которых выходят из крыши литейного цеха до самых облаков.
Большие стальные ворота литейного цеха открыты. Тут царство огня, и здесь не чувствуется ни осень, ни зима, ни дождь, ни ветер. Нестерпимый жар царит между черными стенами все месяцы года и все дни недели. Сердце фабрики пульсирует здесь, под задымленным навесом. И как выдох рта гигантского тела выходит дым из плавильных печей. Все дороги, исходящие отсюда и ведущие сюда, подобны длинным артериям. Все дома вокруг, как вспомогательные клетки этого огромного тела, обслуживают лишь его. Если они остановятся, остановится весь завод. Из сердцевины, в которой кипит железо, пылающий поток вливается и застывает в формах, так рождаются предметы и вещи в месиве огня, дыма и жара.
Гейнц входит в литейный цех, останавливается у входа и кладет руку на усилитель пламени. Раздается звонок – знак, что завершилась плавка, и огненная река бьет в закрытые отверстия печи. Рабочие суетятся у печей, на бедрах у них кожаные фартуки, на руках кожаные рукавицы, на ногах легендарные сапоги из лоскутов кожи. Но руки и плечи оголены, и фартуки лишь частью защищают открытую грудь. Команды коротки и отрывисты, иногда ругань, иногда едкие выкрики – осколки разговора в царстве огня. Железные шесты сняли преграду с отверстия печи, и ореол искр и белые облака пара взметаются вокруг пляшущих языков пламени, дымных воскурений, шипения, пузырей, кипения. Потоки огня текут в бетонных желобах, выходящих из плавильной печи, и уже большой кран движется по стальным рельсам под крышей зала. В маленькой кабине – водитель. На длинных цепях круглый котел, носик которого изогнут аркой, подтягивается краном к отверстию печи. Словно из разинутых зевов драконов надвигается, подобно мифической реке Самбатион, поток языков пламени, со страшным шипением и дымом. Кран захватывает когтями котел, извлекает его из огня преисподней и быстро передвигается к большим формам, ждущим раскаленного литья. Тут кран замирает, открывается носик котла, и лава опрокидывается в форму, вся в ореоле искр и ослепительного сияния. Как гнев огня, зажатого без возможности вырваться, выходит дым через щели формы, бьют электрические молоты, не дают остыть литью, подбрасывая его, толкут в форме, длится расплющивающая пляска. А кран уже движется к следующей форме – быстрей! Пока еще железо текуче! Когда в первой форме, в красноземе, возникает форма – рабочие сбрасывают эту красную землю, и из пламени возникает уже остывшая деталь.
Гейнц стоит у входа, лицом к огню, спиной к дождю. Усилившийся ветер швыряет струи дождя в ворота литейного цеха, и огромный вал дыма, который не нашел выхода через трубы, катится под навесом. И клубы пыли, пригоршни дождя и фейерверк огня смешиваются, словно соединились четыре элемента Сотворения – вода, огонь, прах и ветер – создать единым усилием что-то новое е. Под навесом жар. Нечем дышать. С черными лицами и покрасневшими глазами суетятся полуголые рабочие в огне и облаках дыма, как демоны в глубинах преисподней.
Инженер, ответственный за работу в цеху, здоровается с Гейнцем.
– Дым сгущается в цеху. Когда усиливается ветер, дыму нет выхода. Рабочие задыхаются, и это замедляет работу.
– Я это знал, – самоуверенно отвечает Гейнц, – если я не ошибаюсь, вы не первый раз жалуетесь мне на дым в цеху.
Инженер прикусывает язык и замолкает. Гейнц известен среди рабочих и служащих как человек спесивый и высокомерный. Чувства инженера хорошо видны на его замкнувшемся лице. Гейнц знает, что работники фабрики к нему не питают большой любви. Перед дедом преклонялись, отец вызывал уважение своим возвышенным образом, а Гейнца побаиваются, но за спиной ругают его, на чем свет стоит. Инженер этот работал еще при отце, он верный работник и он прав.
«Следует внести изменения в здание литейного цеха. И это не терпит отлагательства, литейный цех столько лет не обновлялся. Еще дед его построил, отец несколько обновил, да и немного добавил. Но все время была проблема с чертовым дымом. Сегодня строят литейные цеха более просторными, открытыми свету и воздуху».
Гейнц вглядывается в огонь и дым. Рядом молчаливый инженер.
Как извивающийся змей, плюющий фейерверком огня на все окружающее, обнимает дым суетящихся рабочих.
«Надо изменить это старое сооружение, чтобы облегчить труд рабочих и увеличить выработку. Что сказать инженеру? Сказать, что сейчас нет возможности вложить много денег в новое строительство и что будущее фабрики несколько стопорится? Лучше не говорить с ним об этом. Лучше высокомерие, ибо это отличное прикрытие отсутствия уверенности».
От печи отделяется и приближается к выходу кочегар, мужчина широкий в кости, с почерневшим от дыма лицом. Спина и плечи обнажены, и мышцы играют как гибкие стальные струны. Он выпячивает грудь, поросшую черными волосами. В руках у него железная болванка, и он крутит ее в пальцах, как спичку. Это Хейни-сын-Огня, как его прозхвали товарищи по литейному цеху за его умение зажигать курительную трубку куском раскаленного добела железа, который он поднимает с земли пальцами, которые не боятся огня. Тяжелыми шагами он приближается к выходу, чтобы высунуть голову под дождь, подышать свежим воздухом и остудить тело. Гейнц с улыбкой первый спешит его поприветствовать, у него установились особые отношения с этим темнолицым кочегаром. Не раз Хейни приглашался на беседу с молодым хозяином. Там, в офисе Гейнца огромный рост Хейни как бы сжимался. Стоял с жалким видом среди темной мебели, шапка в руках, переступал с ноги на ногу, мямлил в ответ на вопросы Гейнца со смятенным выражением лица. Здесь, в литейном цеху, проходит Хейни перед хозяевами – огромный, широкоплечий и черный, как библейский Тувал-Каин собственной персоной, и на приветствие Гейнца отвечает уголком рта в полнейшем равнодушии. Здесь, в царстве огня Хейни – хозяин, а белолицый и чисто одетый Гейнц – ничто. Гейнц добродушно усмехается. Эти знаки небрежности, подаваемые Хейни, предназначены лишь для того, чтобы произвести впечатление на товарищей по цеху, вознестись над ними. Вообще с литейщиками сплошная беда. Они первыми бастуют, и по своим делам, и по делам других. Они подстрекают всех рабочих фабрики в любой подходящий момент. Как листопад, к которому поднесли горящий фитиль, так ненависть охватывает эту профессию. Как традиция из поколения в поколение, у древних плавильщиков железа в глубинах леса родилась эта ненависть. Вечная ненависть этого племени с обожженными бровями и ресницами, опаленными лицами, к людям светлой кожи, белолицым, чисто и аккуратно одетым. Литейщик, который, раздувая огонь в печи, одновременно не раздувает ненависть к своим хозяевам, принимается в этом немногочисленном племени, как недостойный профессии. Все литейщики – «красные», за исключением Хейни. Он политикой не занимается. «Хейни – пустое место», – брюзжат рабочие. Но Хейни размахивает болванкой, держа ее между пальцев, как спичку, напрягает мышцы рук, выпячивает грудь, как барабан, в который бьют, призывая к бою. Он провозглашает и разъясняет – ничего, настанет час, он будет готов! Совершат что-либо, и он будет с ними, – но до тех пор пусть оставят его в покое, дадут жить спокойно. Сердце его не расположено к перекармливанию словами, как перекармливают гусей на продажу. Дело надо делать, а не болтать!
Гейнц поворачивается к Хейни, стоящему у входа в цех и подставляющему лицо дождю. Его черная от дыма спина обращена к Гейнцу, как спина быка, ожидающего ноши.
– Если будет подписан договор с городскими газовыми предприятиями, – обращается Гейнц примиряющим тоном к руководителю работ, – нам придется увеличить выработку даже в этих условиях. Не настало еще подходящее время для большого ремонта.
– Если это так, господин, все же придется сделать некоторые исправления. В противном случае придется остановить работу одной из печей.
– На следующей неделе начнем срочный ремонт.
Инженер одобрительно кивает головой, как человек, с мнением которого согласились.
Хейни возвращается от ворот: прозвучал колокол, и пришла его очередь работать у печи. Опять проходит мимо хозяев, лишь слегка кивнув головой в их сторону – шаги его тяжелы, и болванка вертится между пальцами его руки. «Ненависть здесь вызревает, как змеиные яйца в темной пещере» – думает Гейнц.
У печей шипит железо, пузырится, поднимая густой пар. Как языческий идол в воскурении фимиама, стоит Хейни в красном свете. Гейнц вздыхает и выходит из литейного цеха. Во дворе шум усиливается. Горы кокса посверкивают, как алмазы порока. Гейнц садится в автомобиль и едет в гараж, стоящий напротив конторы.
Эту контору тоже построил дед – на подобии особняка, украшенного в стиле ложного барокко.. В моде тех лет было украшать ворота, карнизы всех окон скульптурами девушек, ангелов, идолов. То же самое сделал дед. Все эти фигуры разбросаны по стенам, копоть, ветер и дождь почти стерли их лики. Перед конторой – небольшой сквер – деревья, грядки цветов, клумбы. Скамейки стоят вокруг каменной жабы, которая в дни деда испускала водяную струю в небо. Но в дни Первой мировой войны испортился механизм внутри жабы и до сих пор не исправлен, жаба сидит с раскрытой пастью и сухим горлом.
Гейнц поднимается по ступенькам, покрытым красным ковром. Множество стеклянных дверей ведет в комнаты. За дверьми сидят служащие. «Слишком их много», – думает Гейнц, с огорчением поглядывая на эти комнаты. Эти служащие – вечный предмет спора между Гейнцем и его отцом. Многих из них должны были давно уволить. Устаревшая система работы была дорогостоящей и малоэффективной. Большинство служащих работает здесь много лет. Они пришли на фабрику вместе с молодым господином Леви, отцом Гейнца, и он не желает их увольнять. Они были преданными советниками Гейнца, который, в общем-то, довольно молодым вынужден был взвалить на плечи это огромное и сложное предприятие. Они действительно много сделали для фабрики, но теперь в них нет необходимости. Тяжелыми шагами поднимается Гейнц по ступенькам. «Я волоку за собой прошлое, подобно камням, привязанным к моим ногам. Я ничего не могу предпринять. Этому надо положить конец. Времена не располагают к сантиментам».
Гейнц открывает дверь своего кабинета. Из соседней комнаты возникает женщина в летах, секретарша, которая работала еще с отцом. Нечто материнское и доброе проступает в ее улыбке, когда она встречает своего шефа. Гейнцу претит эта материнская улыбка и этот мягкий голос. Он отдает в руке женщине свое пальто и шляпу, стаскивает с рук перчатки, и усаживается за письменный стол.
– Новости? – коротко спрашивает.
– Нет новостей.
– Доктор Ласкер не звонил по поводу городских газовых предприятий?
– Не звонил.
– Вы свободны.
Секретарша медленно закрывает за собой дверь, Гейнц встает и начинает расхаживать по кабинету. «Это дело с газовыми предприятиями переходит все границы! Фабрику ожидает большой объем работы: полное обновление оборудования газовых предприятий. Предложение было принято, договор составлен, но не подписан. Прошли недели, а дело не сдвинулось с места. Вышестоящие и нижестоящие чиновники задерживают его. И настоящая причина задержки в имени. Ведь имя Леви написано на договоре. Гейнц передал этот договор Филиппу, юридически представляющему фабрику. Но и Филипп ничего не добился, ибо чем фамилия Ласкер лучше фамилии Леви? Надо передать дело юристу христианину. Если мы проиграем это дело, фабрика будет частично парализована. Передам это дело Функе, с которым познакомил меня Эмиль Рифке однажды вечером».
Функе был пьян, физиономия противная. Гейнц увидел перед собой маленькую головку и два голубых глаза. В один из них был воткнут монокль. «Леви?» – спросил господин Функе и сильно закашлялся. Гейнцу противно вспоминать господина Функе. Но иногда невозможно выбирать друзей по бизнесу, глядя на их физиономии. Порой именно такая физиономия может принести много пользы. «Вечером выйду его поискать». Гейнц вновь усаживается за письменный стол. Секретарша положила груду писем, прижав их большой мраморной пепельницей, на которой начертано золотыми буквами – «Живи и дай жить другим». Эта пепельница здесь еще со времен деда. Дед получил ее, как презент, на соревнованиях по стрельбе, и позолоченный девиз был в его вкусе. Гейнц кладет руку на пепельницу, и она расслабленно отдыхает на позолоченной надписи. «Сегодня подводят нервы», – думает Гейнц, – и это из-за Эдит. Беспокойство за фабрику привела беду в дом. Это беспокойство привело в дом Эмиля Рифке, и эта фабрика…»






