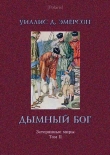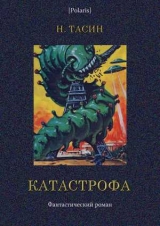
Текст книги "Катастрофа. Том II"
Автор книги: Н. Тасин
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
XVII
Подземная Франция зажила серой, будничной жизнью, точно остепенившийся молодой человек, уставший от кутежей и бурных авантюр.
Шли дни за днями, тусклые, безрадостные, без утренних и вечерних зорь, ничем не отличавшиеся от ночей.
Люди приспособлялись к подземному существованию, душили в себе тоску по солнцу, небу и беспредельным лазурным далям и сами становились какими-то серыми, тусклыми, бесцветными, как если бы земля, среди которой они жили, отбрасывала на них свою тень.
Вместе с яркими красками блекли таланты, одна за другой гасли так щедро разбросанные природой среди людей искорки гения, как гаснут настоящие искры, падая на холодные снежные равнины. Казалось, что здесь, под тяжелыми бетонными сводами, среди бурых масс земли, негде развернуться заложенным в человеке силам, и не могут, за недостатком воздуха, разгореться ярким костром искры его гения. Земля все давила, все нивелировала, сглаживала индивидуальные черты.
Поэты неохотно слагали песни, а те, которые выходили из-под их пера, были серы, угрюмы и тяжелы, как нависшие над головой своды. Уже не переливались в них всеми цветами радуги солнечные лучи, лунное сияние, небесная лазурь и белоснежные облака с золотыми краями. Люди читали их с непобедимым чувством скуки и спрашивали себя, зачем их пишут. Ни в ком не будили они гордых порывов, никого не звали в заветные дали, никого не опьяняли сладкими мечтами.
Знаменитый поэт Делянкр, после долгих и тщетных усилий воскресить осаждавшие его некогда прекрасные образы и воплотить их в звучные строфы, в бессильной ярости сломал перо и стал искать забвения в вине. Растрепанный и оборванный, бродил он по улицам города, часто собирал вокруг себя толпы любопытных и пьяным, осипшим голосом, трагически бия себя в грудь, декламировал им свои старые стихи, те, которые он сочинил еще там, наверху.
Солнце, как огненный бог в колеснице,
Мчится по ясной лазури небес… —
торжественно начинал он.
Потом вдруг останавливался, мучительно морщил лоб, ударял в него кулаком, словно желая разбудить уснувшую память, и горестно, со слезами в голосе, восклицал:
– Забыл! Собственные стихи забыл! Боже мой, Боже мой! Понимаете ли вы, друзья мои, какой это ужас? Забыть собственные стихи!… Но погодите, я, быть может, еще вспомню…
Став в позу и торжественно протянув правую руку, он снова начинал:
Солнце, как огненный бог в колеснице,
Мчится по ясной лазури небес…
…по ясной лазури небес.
небес…
– Нет, не могу вспомнить! А это было так красиво, та-кия были гордые, звучные строфы… Когда я читал их там, наверху, я сам чувствовал себя лучезарным богом… А все из-за этого подземелья, этих мерзких сводов! Разве можно здесь петь о солнце, о небе? Будьте вы трижды прокляты, гнусные своды, которые скрывают от нас солнце! Я, поэт Делянкр, шлю вам свое великое, вечное проклятие!
Он яростно поднимал над головой судорожно сжатые кулаки, долго грозил им бесстрастным, серым сводам, а потом, когда пароксизм ярости проходил, разражался горькими слезами обиды и бессилия.
Народный певец Барро, тот самый, который сочинил популярную песенку о зоотаврах, всегда веселый и пенящийся, как вино Шампани, из которой он был родом, как-то потускнел, точно в нем иссяк родник веселья, смеха и звонких песен. В тавернах, которые всю жизнь были для него трибуной, эстрадой и вторым домом, он тщетно пытался занимать публику куплетами и каламбурами, которые некогда стяжали ему такую популярность. Теперь у него ничего не выходило, и публика, – та самая, которая там, наверху, покатывалась со смеха, слушая его, – смотрела на него серьезно, без тени улыбки, как если б он говорил о росте заработной платы или товарообмене. И сознавая, что он человек конченный, никому более ненужный, он в смертной тоске пил стакан за стаканом, а опьянев, скандалил и придирался к окружающим.
– Шире дорогу, Барро идет! – кричал он, гордо подняв лохматую голову, воинственно выпячивая грудь и приподымаясь на цыпочки, чтобы придать хоть немного внушительности своей обидно маленькой фигуре. – Фелисьен Барро, понимаете? Меня называли магом и волшебником, величайшие писатели и артисты приходили в грязные монмартрские кабачки послушать меня и аплодировали мне до того, что у них опухали руки… Когда я, бывало, пою свою «Мими», вся улица, весь квартал, ревел от восторга и подхватывал припев. Да-с, милостивые государи, вы можете думать все, что вам угодно, а я все же Барро, между тем как вы… скажите мне, зачем вы существуете на свете? Прежде вы коптили небо, а теперь коптите эти своды. Карлики, жалкие пигмеи, мелкие, плоские душонки, которые никогда не знавали, что такое вдохновение, гордые порывы… Я вас презираю! Слышите ли? Я, Фелисьен Барро, вас презираю до глубины души, я смотрю на вас сверху вниз как на букашек…
Бедному Барро при его низеньком росте трудновато было смотреть на людей сверху вниз, и он еще больше пыжился, еще выше поднимался на цыпочки. Кончалось тем, что хозяин кабачка брал его в охапку и выбрасывал за дверь, в которую несчастный певец потом долго и яростно бил кулаками.
Художники пробовали было по памяти писать солнце, зарю, звездное небо, облака, горы, море; но выходило не то, и они в бешенстве рвали свои полотна.
Знаменитый пейзажист Паскаль Лакруа созвал однажды в свою студию друзей. Они с грустным недоумением смотрели на стоявшие вдоль стен, на мольбертах, пейзажи: это была какая-то безобразная мазня, как если бы кистью художника водила рука пятилетнего ребенка.
– Господа! – торжественно обратился к пришедшим хозяин. – Я вас пригласил сюда на похороны великого художника Паскаля Лакруа. Не надо ни слез, ни цветов, ни надгробных речей: Лакруа сойдет в могилу скромно, без помпы и шума. Но сначала взгляните на эти картины. Не правда ли, шедевры?
Гости смущенно молчали.
– Отчего же вы молчите? – весело настаивал Лакруа. – Посмотрите на этот закат солнца. Или на это спящее под лунным сиянием море. Видели вы когда-нибудь что-либо подобное?. .
Потом он вдруг схватил со стола длинный нож и стал, одно за другим, полосовать и кромсать свои полотна. Когда от них остались одни лишь безобразные клочья, он в изнеможении опустился на стул и разразился истерическим хохотом.
– Ха-ха-ха! Был Паскаль Лакруа – и нет его! Зоотавры сожрали, ха-ха-ха! Царство ему небесное! Предлагаю почтить память его вставанием.
На другой день газеты сообщили скорбную весть: знаменитый художник Паскаль Лакруа сошел с ума.
С тех пор его часто можно было видеть сидящим где-нибудь на улице перед мольбертом с палитрой в одной руке и кистью в другой. С серьезным, сосредоточенным видом он накладывал на полотно беспорядочные мазки, причем то и дело поднимал глаза к бетонным сводам, как если б он там видел что-то такое, чего никто кроме него видеть не мог. А когда его спрашивали, что он рисует, он отвечал:
– Разве вы не видите? Это солнце. Посмотрите, как верно схвачена пронизанная его лучами лазурь…
Влюбленные тоже тосковали по солнцу. Не было в их ласках жизнерадостности, и холодом веяло от их речей, в которые они тщетно пытались вложить огонь беззаветной страсти.
– Солнышко мое! – начинал юноша, лаская свою возлюбленную.
Но, подняв глаза вверх, он видел над головой не солнце, а тяжелые, серые своды, и слова любви замирали на устах его.
– Отчего же ты умолк, милый? – спрашивала девушка. – О чем ты задумался?
– Я думаю о том, как хорошо было бы, если б солнце, настоящее солнце, вдруг брызнуло на нас потоками горячего света.
– Да, это было бы такое счастье! – мечтательно отвечала девушка. – Я уж, забыла какое оно… Помнишь, когда мы в последний раз сидели там, наверху, в Люксембургском саду, оно светлыми зайчиками пробегало в древесной листве и так накаляло песок на дорожках, что я сквозь ботинок чувствовала жар его?
Не так уже звонко смеялись дети, и пустынными казались без их гама и шума улицы. Со щек их мало-помалу исчезал румянец, и они становились серыми, точно и на них отбрасывала свою тень земля. Те, которые сошли под землю еще грудными детьми и не помнили солнца, допытывались у матерей, какое оно.
– Разве оно не такое, мамочка, как это вот, что висит наверху?
– Нет, деточка, совсем, совсем другое!
– А какое?
Мать на минуту задумывалась, словно стараясь воскресить в памяти образ настоящего солнца, и грустно отвечала:
– Настоящее солнце, деточка, огромное, огромное! И пышет от него таким жаром, что щеки краснеют, как около ярко горящего камина. И все тянется к нему: и детки, и цветочки, и травка Божия…
– Оно там, наверху? – задумчиво спрашивал ребенок.
– Да, деточка… Высоко, высоко…
И мать горячо приникала губами к щеке ребенка, как бы надеясь жаром своей ласки заменить ему животворящее тепло дневного светила.
XVIII
В начале декабря 1988 года были закончены работы по прорытию туннеля под Ла-Маншем, между Кале и Дувром, а первого января состоялось торжественное освящение его.
В Дувре и Кале, в Лондоне и Париже гремела музыка, произносились торжественные речи, провозглашались тосты, развевались богато расшитые национальные флаги, устраивались фейерверки; но несмотря на все старания организаторов празднества, настроение толпы было подавленное. Даже среди парижан, всегда таких веселых и жизнерадостных, не замечалось и тени подъема. В угрюмом молчании, с поникшими головами, слушали они ораторов, как если бы их речи были не гимнами во славу человеческого гения, а нагробными словами над могилой человечества.
Глубокая апатия все сильнее овладевала людьми. Многие совершено забросили свои обычные занятия и целыми днями бесцельно бродили по улицам или же неподвижно сидели дома, обнаруживая полное безразличие к оружаю-щему. Не могли расшевелить их ни игра лучших артистов, ни горячие проповеди проповедников, ни пламенные призывы политических ораторов. Рабочие подолгу не являлись в мастерские, служащие забрасывали свои конторы, и в общественной жизни мало-помалу наступал застой.
Число душевных больных росло, и психиатрические больницы все больше переполнялись. Это было какое-то массовое помешательство, которое ставило в тупик самых опытных психиатров. Даже при самом тщательном уходе и хорошем питании, больные худели, бледнели, теряли в весе. Они ни на что не жаловались, не выражали никаких желаний и, если б их не заставляли есть, могли проводить целые дни без пищи, как если бы у них атрофировалось само чувство голода. Неподвижные, словно окаменелые, сидели они с утра до ночи на одном и том же месте, устремив взоры в одну точку. Глаза их как бы перестали видеть, а уши слышать: они ничем не реагировали на самый сильный шум и не поднимали головы даже тогда, когда врачи или родные пытались привлечь чем-нибудь их внимание. Казалось, что они еще при жизни переходят мало-помалу в царство теней, которым чуждо и безразлично все происходящее на земле.
Много было легочных больных, которые тысячами гибли в условиях подземного существования, без живительного тепла и света настоящего солнца, без горного и морского воздуха. Пробовали устраивать, вдали от городских центров, санатории с искусственными озерами, парками и сосновыми лесами, но из этого ничего не выходило, и люди со слабыми легкими быстро сгорали.
Смертность доходила до угрожающих размеров, особенно среди детей, большинство которых уже при самом рождении казались отмеченными печатью смерти: такие они были бледные, худосочные, безжизненные.
Самоубийства принимали эпидемический характер. Кончали с собой старые и молодые, подростки, даже дети. Любящие друг друга юноши и девушки, изверившись в возможности счастья под этими тяжелыми сводами, насильственно, по взаимному соглашению, обрывали нить жизни. Случалось, что целые семьи кончали самоубийством.
По улицам то и дело тянулись похоронные процессии. Кладбища разрастались; города мертвых грозили поглотить все почти население живых го– родов.
Париж истекал кровью. И не один только Париж: смерть косила обильную жатву во всей Франции, Англии, Германий, Италии, Испании, везде, где люди зарылись под землю. Там же, где они пока еще оставались на поверхности, как например в Китае, на Индостане, в Африке и некоторых местах Южной Америки, они гибли от налетов зоотавров.
Человечество погибало. Попытка его спастись под землей потерпела крушение: недра земли привыкли принимать только мертвых, и с глухой, непримиримой враждебностью встречали живых, которые дерзали нарушить их извечный покой. Как бы составив безмолвный заговор против этих дерзких пришельцев, они душили их своей массой, насылали на них болезни и смерть, отравляли их неведомыми на земле миазмами.
«Прочь отсюда! Здесь тебе не место!» – казалось, говорили они человеку.
И человеку волей-неволей приходилось уходить. Но куда? На земле, на воде, в воздухе, его ждали грозные крылатые враги, жестокие и непреклонные, как слепые силы природы, как смерч, ураган, землетрясение, как сама смерть. Они все еще не покидали землю, и то и дело доходили вести об их опустошительных налетах на те или иные пункты земного шара. В Европе и Северной Америке, где на поверхности никого почти не оставалось, зоотавры показывались сравнительно редко; но не было сомнения, что как только люди вернулись бы на свои старые разоренные пепелища, крылатые чудовища снова обрушатся на них. Это подтверждалось неоднократными печальными опытами: многие, толкаемые отчаянием и безысходной тоской, выбирались на поверхность – и погибали там в когтях зоотавров или под развалинами зданий.
XIX
В эти-то дни беспросветного ужаса, когда в сердцах погас уже последний луч надежды, произошло событие, которому, несмотря на его кажущуюся незначительность, суждено было иметь огромное влияние на дальнейшие судьбы человечества.
Это было 10 марта 1988 года.
Часы показывали четверть двенадцатого ночи.
Стефен, только что вернувшийся с заседания Комитета обороны, работал в своем кабинете, когда к нему вошел его секретарь.
– Господинь президент, – доложил он, – тут настойчиво добивается свидания с вами какой-то человек.
Стефен нахмурился.
– Скажите, что я сейчас не могу его принять. Пусть придет завтра в часы приема.
– Я ему говорил, но он не хочет уходить. Уверяет, что дело чрезвычайно важное, не терпящее отлагательства. Я пытался узнать, в чем оно заключается, но он решительно уклонился от ответа.
– Кто он такой? Быть может, какой-нибудь сумасшедший? Их столько в последнее время приходит со всякими вздорными делами!
– Нет, на сумасшедшего он не похож. Тип кабинетного ученого…
– Как его фамилия?
– Грандидье… Жан Грандидье. Вот его карточка. Я никогда не слыхал этого имени.
Стефен повертел в руках карточку, потом вздохнул, усталым жестом провел рукой по глазам и сказал:
– Ничего не поделаешь! Пусть войдет.
Минуту спустя, секретарь ввел в кабинет невзрачного, худого старика с длинными, седыми, ниспадавшими до плеч волосами. Черный, сильно потертый и лоснившийся сюртук, наглухо застегнутый под самым подбородком, придавал ему вид англиканского пастора, а большие круглые очки под густо разросшимися седыми бровями делали его похожим на старого немецкого профессора.
Секретарь ушел.
– Чем могу служить? – спросил Стефен, обменявшись рукопожатием с посетителем и указывая ему на кресло с противоположной стороны письменного стола.
– Очень многим, господин президент! – отвечал Грандидье. – Рискуя сойти за сумасшедшего, я прямо говорю вам: от того, насколько внимательно вы отнесетесь к делу, которое меня к вам привело, будуть, быть может, зависеть дальнейшие судьбы человечества.
Стефен с любопытством посмотрел на сидевшего против него скромного, тщедушного старика. «По-видимому, это действительно сумасшедший, – подумал он. – Во всяком случае, мания величия несомненна».
– Да, господин президент, – продолжал Грандидье, – дело идет о судьбах человечества. Смею вас уверить, что я не маньяк, не мегаломан… Впрочем, вы даже не знаете, с кем имеете дело: я – бывший профессор физики на математическом факультете парижского университета… Зовут меня Жан Грандидье… Не изволили слышать? Ничего удивительного: я уже больше десяти лет в отставке и… держусь несколько в стороне от научных кругов. Написал немало ученых трудов. В частности, моя работа о магнетизме наделала в свое время, лет двадцать тому назад, шума и была переведена на все почти европейские языки.
Стефен, который до того сидел, откинувшись в кресле, выдвинулся всем туловищем вперед.
– Позвольте, я что-то припоминаю, – сказал он. – Что-то такое о влиянии магнитных колебаний на солнечный спектр? Не правда ли? Если не ошибаюсь, эта работа служила предметом горячих толков в британской Академии наук?
– Совершенно верно. Эта Академия удостоила меня премии, которая дала мне возможность значительно расширить мой физический кабинет.
– А французская Академия?
На лице Грандидье появилась грустная улыбка.
– Сначала она высмеяла мою работу, а потом, когда я обратился к британской Академии, не могла мне простить этого и мстила мне полным игнорированием. Об этом вам мог бы кое-что рассказать президент ее, Марсель Дювернуа, и некоторые из старейших его коллег. Но перейдем к делу.
Стефен пододвинул свое кресло вплотную к столу.
– Я вас слушаю с величайшим интересом! – сказал он. – Вы курите? Пожалуйста, вот сигары.
Грандидье неловко взял сигару, неловко и долго возился со спичками, наконец, с помощью Стефена, закурил – и продолжал:
– Дело, которое меня к вам привело, заключается в следующем: я выработал проект борьбы с зоотаврами, который, по моему глубокому убеждению, должен дать положительные результаты. Я твердо верю, что если его удастся провести в жизнь, роковая проблема, которая стоит перед человечеством, будет разрешена. Осуществление его требует больших денежных и технических средств.
– За этим дело не станет! – поспешил вставить Стефен.
– Я не сомневался, что встречу с вашей стороны полную готовность прийти мне на помощь. Поэтому-то я и обратился именно к вам. Конечно, было бы естественно, чтоб я прежде всего попытался заинтересовать своим проектом какое-нибудь компетентное учреждение… например, Академию наук; но при создавшихся между нами отношениях…
– Понимаю. И вы хорошо сделали, что обратились прямо ко мне. Поверьте, я сумею добиться самого внимательного отношения к вашему проекту. Могу я просить вас изложить его в самых общих чертах?
– С величайшим удовольствием. Я захватил с собой все чертежи и выкладки, и если вы позволите…
Грандидье открыл свой портфель и стал было вынимать из него бумаги, но Стефен остановил его жестом руки.
– Нет! нет! Я не хочу слишком утомлять вас: во всех деталях вы изложите свой проект перед Академией наук. Я постараюсь, чтоб она была завтра же созвана на экстренное заседание… разумеется, если вы ничего против этого не имеете… Пока что, скажите мне в двух словах, в чем сущность вашего проекта.
– Извольте. Я исхожу из положения, что единственным уязвимым органом зоотавра являются его глаза. Ему не страшны ни огнестрельное оружие, ни разрывные газы, ни сжатый воздух, но его можно ослепить, т. е. поставить в такия условия, при которых он терял бы зрение.
– И вы думаете этого достигнуть?..
– С помощью особой системы магнитных волн, которые он должен встретить на пути своего полета. Как вам, без сомнения, известно, за последние годы в области магнетизма достигнуты крупные успехи. Профессор Берлинского университета Карл Шлютке произвел года три тому назад блестящие опыты интенсификадии магнитных волн. С помощью чрезвычайно быстрой смены электромагнитных зарядов и разрядов – причем Шлютке пользовался остроумно скомбинированной сетью трансформаторов – получался магнетизм такой силы, что он расщеплял молекулы. Я внимательно следил за этими опытами, проделал их – поскольку это позволяли мои скудные технические средства – в своей лаборатории, и пришел к убеждению, что есть полная возможность устраивать, грубо выражаясь, особого рода магнитные поля, против разрушительной силы которых не может устоять ни одно живое существо.
– Включая и зоотавров? – спросил Стефен, который слушал со все возрастающим вниманием.
– Да! – с глубоким убеждением ответил Грандидье. – Я долго и тщательно изучал строение глаз зоотавра, который разбился о Notre Dame, и мне удалось установить, что радужная оболочка его глаз обладает чрезвычайной чувствительностью по отношению к магнитным лучам, во всяком случае, ничуть не меньшей, чем радужная оболочка глаз всех других живых существ.
– Значит, если я вас верно понял, вы предлагаете бороться с зоотаврами с помощью особых магнитных полей? – спросил Стефен.
– Совершенно верно. И я твердо убежден в успехе. Если мне дана будет возможность провести в жизнь мой проект…
– Я вам за это ручаюсь! – горячо воскликнул Стефен, крепко пожимая руку Грандидье. – Это чрезвычайно интересная, смелая мысль! Сегодня я вас больше не стану расспрашивать. Скажите, можем мы располагать вами завтра?
– Я к вашим услугам.
– Хорошо. Я сегодня же столкуюсь с президентом Академии наук, и завтра утром вы потрудитесь изложить ваш проект во всех деталях перед Академией.
Было уже далеко за полночь, когда Грандидье ушел.
Оставшись один, Стефен подошел к телефону.
– Алло! 3457! Квартира президента Академии наук… говорит президент Стефен. Господин Дювернуа уже в постели? Скажите ему, что мне необходимо поговорить с ним по чрезвычайно важному делу.
Минуту спустя Марсель Дювернуа уже был у телефона.
– Ради Бога, простите, cher maitre, что я вас потревожил в такой поздний час, – заговорил Стефен. – Вопрос, быть может, идет о спасении человечества.
И он взволнованным голосом изложил ему сущность дела, не называя пока что имени автора проекта.
– Да, проект не лишен оригинальности, – ответил Марсель Дювернуа. – Разумеется, надо подождать отзыва компетентных людей. Я тотчас же созову пленарное заседание Академии… Кстати, кто автор этого проекта?
– Жан Грандидье.
– Бывший профессор физики?
– Совершенно верно.
Если бы Стефен мог в эту минуту видеть своего собеседника, он бы заметил на его пергаментном лице гримасу крайнего недовольства.
– Вы знакомы с ним? – самым невинным тоном спросил Стефен.
– Да… вернее, был знаком… Мы давно уже не встречаемся… Откровенно говоря, это имя меня несколько расхолаживает.
– Почему?
– Я не думаю, чтоб Грандидье мог создать что либо-ценное: это совершенно недисциплинированный ум… так сказать, анархист в науке… Я даже полагал бы, что не стоит созывать Академию: пусть он подаст подробную записку, мы ее рассмотрим, и если.
Но Стефен с живостью перебил его:
– Нет, нет! Я убедительно прошу вас, cher maitre, завтра же утром созвать пленарное заседание. Вы понимаете, там, где дело идет, быть может, о спасении человечества…
– Ну, знаете… Грандидье в роли спасителя человечества, – это звучит несколько странно. Но, разумеется, если вы на этом настаиваете, я к вашим услугам. В десять часов утра Академия наук будет в сборе.
– Прекрасно. Если вы ничего против этого не имеете, я тоже позволю себе явиться.
– Вы нам окажете большую честь, господин президент.
– Разрешите уже мне заодно привести с собой нескольких членов строительной комиссии и Комитета обороны. Они нам могут быть очень полезны.
– Пожалуйста.
– Благодарю вас – и до завтра!